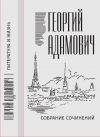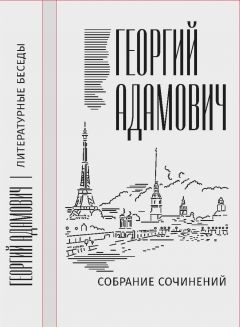
Автор книги: Георгий Адамович
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Литературные беседы [ «Рафаэль» Б. Зайцева. – «Chиvrefeuille» Тьерри Сандра]
1
Почти во всех старинных итальянских картинах повторяется тот же фон: весь голубой, прозрачный и бледный, с купающимися в голубом воздухе холмами, с голубыми ручьями и голубовато-дымной далью. Те, кто бывал в Италии, знают, как неразрывно связывается она в памяти с этим сумеречно-голубым светом.
Им пронизана вся «итальянская» книга Бориса Зайцева «Рафаэль». Я произвольно называю ее итальянской. Из четырех помещенных в ней новелл только одна говорит об Италии. Действие двух других происходит в Испании, а последней – между небом и землей. Но итальянской «сладостью» полна вся книга.
У Зайцева есть узкий и верный круг читателей, которым он очень дорог. Не знаю, могут ли они назвать его крупным художником. Зайцев боится резких, живых и грубых красок, он вообще боится нашей «быстротекущей» жизни. Он как бы отворачивается от нее, не хочет смотреть на нее, не хочет изображать ее.
Но наедине с природой и вечностью, весь в воспоминаниях и предчувствиях, в полусне и полумечтах, Зайцев находит себя. Голоса его, напряженного и тихого, ни с чьим другим не спутаешь. Это писатель вполне «не от мира сего». Он едва ли будет когда-либо популярен. Едва ли вокруг него возможен какой-либо спор. Но всегда его будут любить те, кто сумеет всмотреться вместе с ним в то, что виделось умирающему Рафаэлю, кто поймет обрывочные и тревожные речи его «душ чистилища».
Все, что пишет Зайцев, есть отрицание ремесленной стороны литературы, пренебрежение ею. Нет человека, который был бы меньше «литератором». Если искать родственные ему имена, надо вспомнить Рильке и Блока первого периода, когда он писал еще стихи о Прекрасной Даме.
Мне кажутся наиболее удачными новеллами в книге Зайцева первая и последняя – «Рафаэль» и «Души чистилища». Оговорюсь, что слово «удачными» звучит здесь неуместно и грубовато, настолько это бесплотная и безотчетная вещь, настолько она похожа на сон.
В «Рафаэле» очарователен пейзаж. Если порой и кажутся утомительными описания Рима, то легкость их, их «акварельность» подкупает. Вся беллетристическая часть – образ хитрого и сластолюбивого Папы, попойка у какого-то вельможи – сделана как раз в меру отчетливо и ярко, чтобы не отяжелить рассказа. Зайцев будто показывает, что он может все это описать, но что ему это не нужно. Он весь оживляется и пишет тревожно-нервно, рассказывая о предсмертных беседах Рафаэля, о глядящем в его окно «погожем, весеннем, омытом вчерашним дождем дне», о думах юного, похожего на русского послушника, ученика Рафаэля.
В «Душах чистилища» переговариваются две души, идущие куда-то, по неведомым тропинкам и утесам, за Ангелом-вожатым. Конечно, души названы сладкими итальянскими именами: Лелио и Филострато. Конечно, они вспоминают землю, но не то, что есть на земле преходящего, грязного и страшного, а только «нежность утра, свежесть росы, жемчуг восходов, тающие дни и бездонные озера». Я читал когда-то рассказ о спиритических беседах с душой Уайльда. Подделаны они были или нет, но эти потусторонние признания бедного Уайльда напоминали зайцевские диалоги: он так же жаловался на то, что вокруг него нет земной природы, что он все более трудно, все более смутно припоминает о ней и погружается в какой-то мрак. Зайцев, вероятно, хотел дать то же впечатление.
Книга его читается с легким и острым волнением. Как певуч в ней подбор слов, как отраден в ней ее замедленный темп! Все вокруг спешат, все ищут в литературе «ускоренно-делового», «отвечающего современности» стиля, все бессознательно отравлены реализмом. Зайцев – одно из исключений, а в искусстве только исключения и идут в счет.
2
Во французской литературе новая знаменитость – Тьерри Сандр. Ему только что присуждена Гонкуровская премия. Все, читающие парижские газеты, знают, с каким интересом и нетерпением ожидалось голосование. Это – важнейшая из французских литературных премий, имеющая наибольший вес – «резонанс».
У Тьерри Сандра было несколько очень опасных соперников: в особенности Франсуа Флерэ, автор изящнейших «Последних наслаждений», новой вариации на тему о Дон Жуане. По-видимому, писатели-гонкуровцы мало прельщаются оболочкой. Они предпочли довольно тусклую прозу Тьерри изысканным упражнениям в духе Анри де Ренье.
Последний роман Тьерри Сандра «Chèvrefeuille» прост и хорош. Он очень «человечен». Никаких ухищрений, никаких выдумок. Это повесть о любви двух людей и о смерти, к которой любовь ведет. Тьерри несколько раз повторяет в своем романе, как припев, старинные французские стихи:
Подруга! В нас судьба сплелась.
Ни вы без меня, ни я без вас.
Человек любит всем существом своим женщину и так мучается этой любовью, что бросает ее, уходит на войну и хочет лишь одного: быть убитым. Три года он молчит, не дает о себе никаких вестей, но, наконец, не выдерживает и возвращается. А жена его плакала все эти три года, но она – жена, и, в конце концов, она «увы, утешилась». Развязка в самоубийстве.
Это сентиментально в замысле. Но в рассказе есть сухость и твердость. И есть волнение, глубоко скрытое, но передающееся читателю.
Литературные беседы [ «Красота Ненаглядная» Е. Чирикова. – Французская молодежь]
1
Русская сказка Чирикова «Красота Ненаглядная» – есть произведение назидательное и тенденциозное. Автор рисует ряд аллегорических картин, которые должны доказать, что душа русского народа прекрасна, что она жаждет правды и красоты и остается живою, пройдя через все смертные грехи.
Сказке своей Чириков предпосылает многословное предисловие, в котором полемизирует с «писателем» Буниным и «писателем» Горьким и защищает русского мужика от несправедливых нападок. Ему дорога мысль о «народе-богоносце», и в помощь себе он зовет «наших национальных колоссов-гениев» Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Алексея Толстого, который, кстати сказать, был бы крайне польщен очутиться в такой почетной компании и неожиданно сойти за «колосса-гения».
Чириковское предисловие – довольно примитивная и неубедительная публицистика. Он пишет:
«Наша литература восприяла свой национальный облик через народную русскую сказку (Пушкин), наша национальная лирика – через народную песню (Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков), наша национальная живопись – через религиозные искания русского народа (Суриков, Васнецов, Нестеров) или через народные сказки и былины (Билибин)».
Все это чрезвычайно спорно. Или, решительней: все это совершенно неверно. Прочтя первую фразу, о Пушкине, невольно морщишься, – но фраза эта не совсем ясна и смысл ее растяжим. Когда же Чириков договаривается до Васнецова и Билибина, становится ясно, что национальна для него в России ее условная внешность, слащаво фальшивая и оперная, петушки на крышах, добрые молодцы в лаптях, моря-окияны и вся прочая бутафория.
Я не хочу спорить с основной мыслью чириковского предисловия. Это мысль не новая, и ей мы в нашем искусстве многим обязаны. Однако защитить ее от развенчания Чирикову не удалось, и доводы его слишком уж простодушны.
Простодушие – не враг поэзии. Может быть, в самой сказке Чириков вознаградил читателя за скуку предисловия?
Пять картин. Язык условно-русский: «али», «где видано, где слыхано», «глазаньки», «тучи черные, горы белые» – выбираю наудачу из первых же страниц. Прозаическая речь постоянно сбивается на стихотворную.
В первой картине Иван-царевич, девяти дней от роду, беседует о заботах будущего царствования, о смерти и о девице Ненаглядной Красоте. Во второй – он, взрослый, тоскует о той же девице, и никакие попытки окружающих «развлечь» его ни к чему не приводят. Третья картина застает его послушником-отшельником. Но дева-Кривда хитростно соблазняет его, и он не только уходит с нею, но заодно и убивает своего начальника-старца.
В четвертой – разбойничье становье. Иван-царевич в нем атаманом. И, наконец, в пятой, он замаливает все свои грехи и находит свою единственную невесту – Ненаглядную Красоту, а вместе с нею и сестрицу ее Правду.
Сказка аллегорична. Расшифровать ее – дело не трудное. Но иногда, увлекаясь вымыслом, Чириков перестает быть понятным, в смысле возможности истолковать каждый образ как отвлеченную идею. Конечно, это лучшие места в сказке. Даже гораздо более крупный художник не справился бы с задачей писать «на заданную тему». Чирикову же эта предвзятость окончательно связала руки. В момент чистого вымысла он чуть-чуть свободнее. Есть живое воображение. Но и оно залито густым и приторным, как патока, «народно-русским» стилем. Чириков мог бы вспомнить, что ни один из наших «национальных колоссов-гениев» таким стилем не писал.
В сказке приводится много старинных русских песен, духовных и разбойничьих. Они оживляют ее. Есть уныло-пронзительная поэзия в этих строках. Это не высокие, сами по себе, образцы искусства. Их легко подделать. Удивителен их общий тон, их восторг, их печаль, суровая и безбрежная.
2
Все чаще и чаще встречаются во Франции молодые люди, во что бы то ни стало желающие быть «современными». Они слышали, что между двумя поколениями – до – и послевоенным – лежит пропасть. Им внушили, что новое поколение трезвее и бодрее предыдущего, что оно «преодолело» его романтизм и неврастению. Практически быть современным не трудно: надо заниматься спортом и во всем походить на американца. В области мысли или искусства дело сложнее, и надо бы заставить тех, кто вводит несовершеннолетних в заблуждение, хотя бы составить для них соответствующий Бедекер.
Война очистила воздух, как всякая буря, проходящая по земле. Война сделала людей восприимчивей к величью вещей и явлений, потому что она уничтожила отвлекавшие людей мелочи. Но не похоже ли все-таки дело на то, что даже и духовно война опустошила мир? И не ощущают ли бессознательно это те, кто так тревожно и поспешно строят «новую идеологию»?
Единственное бесспорное наследие войны – по крайней мере во французской литературе – это очерствение, огрубение. Какими бы софизмами ни прикрывать его, чем бы его ни оправдывать, все-таки «ветер грубости» веет над миром. Только он и сбивает в одно, давая единый облик и превращая разрозненных людей в «поколение», – Монтерлана или Мак-Орлана, Матисса или Моруа. Не возражаю против полезности этого, или исторической необходимости. Но подчеркиваю общее впечатление: все чаще скрипки заглушаются барабаном.
Монтерлан – один из последних «вождей» французской молодежи. Это – духовный вскормленник Барреса, но уже Барреса и много путанее его. Стоит прочесть его «Одиннадцать перед золочеными воротами», чтобы почувствовать весь идеологический хаос этой программной вещи. В ней сплетены мечты ницшеанские и католические, спортивные и военные. Новая семья и новая государственность обещаны тем, кто весь отдается футболу. (Я преувеличиваю, конечно, но не много). Герой прыгает через костер из гнилых осенних листьев, и, по-видимому, это символ старого быта. Куда он прыгает? Монтерлан отделывается словами пышными и звонкими, но внутренне скудными.
Надо думать, что его, да и всех друзей его, больше интересует государство и общество, чем отдельный человек. Тогда все понятно: культ дисциплины, порядка, иерархии, авторитета, весь вообще налет муссолинизма. Только едва ли из этих понятий и этих пристрастий можно создать искусство долговечное и живое.
Литературные беседы [В. Шкловский]
У Виктора Шкловского были данные стать настоящим писателем. Но ему всегда не хватало такта в мыслях, в манере излагать их, в самом синтаксисе его фраз. С годами болезни развиваются. Теперь Шкловского читать очень тяжело. Он недавно написал статью о современниках, нечто вроде «Прогулки по садам российской словесности». Современники его – это М. Слонимский, Есенин, Всев. Иванов, Н. Тихонов, покойный Лунц, способный и милый мальчик, – и несколько других. Меня давно уже удивляет: каким образом Шкловский стал главой «формальной школы», критиком, отстаивающим «научные методы», когда по существу это – Писарев, модернизованный и усовершенствованный, но столь же нигилистически-сентиментальный, столь же предвзято-остроумничающий, с тем же складом ума и души, обязательным для гимназистов. По существу, Шкловскому ни до каких «методов» нет дела, он предоставляет заниматься этим Эйхенбауму и Тынянову. Он сам работает «нутром».
Но у Шкловского есть навязчивая идея, вполне писаревская и нигилистическая, в сущности не идея даже, а коротенькая мыслишка: старые формы умерли, надо писать по-новому. На ней он построил свою теорию о «ходе коня», удобную тем, что она покрывает все, к чему бы ее не приложить.
Не буду возражать против «смерти старой формы». Но не надо особой зоркости, чтобы понять, что эти вопросы – все-таки второстепенные в искусстве, в поэзии особенно. Это с уверенностью говоришь теперь, после всех споров о «что» и о «как», после попыток создать «самодовлеющие формы». Новая форма, если она органична, приходит сама собой. Гнаться за ней, выдумывать ее – бессмысленно и бесполезно. В думах о ней растеряешь все то, что много важнее, как случилось с Брюсовым. Да никогда настоящий поэт и не задумывается над тем, как бы быть «во что бы то ни стало поновее», и наверно не поэт – тот, кто об этом думает.
Для Шкловского литература – скачка с препятствиями, где вся цель в том, чтобы друг друга обгонять. Его интересует только самый процесс скачки. У него достаточно чутья, чтобы не принять ложную новизну за откровения, но все же слишком мало его, чтобы понять, что «достоинство» и «формальная революционность» – понятия не однородные. Шкловский – не глупый человек и мимоходом «роняет» в своих статьях много мыслей. Когда начинаешь писать о нем, не знаешь, где остановиться, потому что не только почти все мысли его фальшивы в основе своей, но и сам он тип писателя, чрезвычайно характерный для наших дней. Он выражает чувства большинства нашей слабовольной и легкомысленной литературной молодежи.
Вернусь к отсутствию такта у Шкловского: нельзя же думать, что, если был Розанов, то всем теперь можно писать по-розановски. Розановский стиль, при всем его личном блеске, навязчив и нечистоплотен – это отвратительный стиль. В лучшем случае, он только простителен Розанову, но он не составляет его заслуги. У Шкловского все розановское. Нельзя без неловкости читать его статьи, с вечным манерничаньем, с замечаньицами в сторону, анекдотами и ужимками. Само по себе это занятно, и читать Шкловского не скучно, но в целом мучительно.
Не стоит приводить примеров. Всякий, кто когда-либо читал или – еще лучше – слышал Шкловского, знает, о чем я говорю.
Шкловский заявляет в своей последней статье (в «Русском современнике»), что он «во всем любит высокую технику». В такой фразе подразумевается, что он этой техникой обладает. Конечно, техника у него есть, и даже не без шика, но грубая и примитивная. В конце концов, ему надо предпочесть даже Чуковского. Чуковский старомоднее и простодушнее, но у него, пожалуй, больше проницательности. Шкловский договорился когда-то, что Кузмин – первый русский поэт, давно еще, в годы расцвета Блока, Сологуба и появления Ахматовой. О вкусах не спорят, но есть все же ошибки слишком чудовищные. Это одна из таких. Шкловский всегда неуверен в своих оценках, всегда колеблется, если по чужим суждениям не составил еще своего.
Верный себе, Шкловский нападает на засилье «темы» в поэзии.
«Что в стихах тема?
Так, гвоздь, на котором можно повеситься самому, а можно и повесить только шляпу». Все то же остроумие и та же фальшь.
Тема не важна в отдельном стихотворении. Но есть тема поэта, объединяющая все его стихи. Это зовется тоном или голосом. Это вызывает и образы, и «сюжеты» одного порядка. Иметь голос много важнее, чем придумать новое слово или новый ритм, Первое обязательно, второе – условно, а в нашей художественной культуре, с ее презрением к ученичеству, с непониманием необходимости «ученических лет», с ее постоянными требованиями «выявить свое я» во что бы то ни стало и в первые же годы, – это прямо вредно и многих сгубило. Шкловский, конечно, один из губителей, а то что «Шкловские» всегда и во все времена окружены вниманием, наводит на печальные мысли о судьбах искусства и о природе человека.
Шкловский написал в конце своей статьи, явно с удовлетворением:
«Я тщательно старался в этом отрывке не сводить концы с концами».
Не думаю, чтобы это было достоинством.
1925
Литературные беседы [Г. Гребенщиков. – Графиня де Ноайль. – Б. Томашевский о Ю. Тынянове]
1
Георгий Гребенщиков выпускает собрание своих сочинений. Уже вышел первый том «К просторам Сибири», рассказы 1906–1910 годов. Это простая, скромная, «мужицкая» книга читается легко и приятно.
Она посвящена крестьянскому быту. Гребенщиков старается остаться в ней беспристрастным художником, без каких-либо «тенденций». Не всегда его старания достигают цели. Есть идеализация в его книге, есть дыхание Григоровича. Это как бы последний вздох Григоровича в нашей литературе. Гребенщиков не изображает мужиков святыми страдальцами, но все-таки его мужики – чуть-чуть «пейзане». Нет темы, к которой русский читатель был бы требовательней и чувствительней, чем крестьянская жизнь. Слишком долго эта тема одна только и была в фокусе русской литературы, слишком много в разработку ее было вложено сочувствия, пафоса и просто мастерства.
Но некоторая подслащенность письма Гребенщикова не лишена прелести, в особенности после столь обычных теперь отклонений в противоположную сторону. Даже кажется новым его не этнографическое, а общечеловеческое отношение к крестьянину. Поэтому с удивлением и отрадой читаешь такой рассказ, как «Опора». Опора – это маленький сын бедной, замученной судьбой бабы, ее последняя привязанность и надежда в жизни. Фабула рассказа не сложна, все дело в тоне его, смутно-тревожном, неясном, как обрывки мыслей. Это хороший рассказ, написанный просто и любовно.
«Талант есть любовь», по слову Толстого. Чем больше живешь на свете, тем глубже понимаешь это. Любовь не заменяет мастерства, но только она одна его оживляет, пронизывает его светом.
«Опора» и несколько других рассказов Гребенщикова подтверждают это.
Есть в его рассказах и другая прелесть – это сибирская природа. Он ее хорошо знает, постоянно к ней возвращается, подолгу описывает ее: снег, снежный ветер, бесконечные равнины, огромные тихие реки. Этот унылый, тусклый и величественный пейзаж расстилается через всю его книгу.
«Просторам Сибири» предпослано пять стихотворных посвящений. На мой вкус – это наименее удачные страницы книги.
2
«Я считаю графиню де Ноайль величайшим современным поэтом, и если вам это кажется недостаточным, я добавлю, что по-моему, она может выдержать сравнение с величайшими поэтами всех времен».
Эти слова взяты из недавнего интервью с одним из французских критиков. Имя критика не играет никакой роли. Подобные отзывы о поэзии г-жи де Ноайль можно встретить во французских газетах почти ежедневно.
Когда-то, в первые месяцы войны, Борис Садовской написал статью, вызвавшую много шума и возмущения. Он в ней делал смотр русским поэтам и не без ехидства называл Брюсова – императором Вильгельмом, а Гумилева – кронпринцем (эти сравнения и вызвали возмущение). Если те же сравнения применить к французской поэзии, то кайзером окажется в ней, несомненно, Поль Валери, а кронпринцем – Кокто. Но над ними есть Анна де Ноайль, больше их читаемая, имеющая несравненно большее число поклонников, притом во всех литературных лагерях.
Поэзия графини де Ноайль имеет крупные достоинства. О них я говорить не буду. Но есть в ее стихах что-то напоминающее Щепкину-Куперник или, вернее, Лохвицкую: расплывчатость, многословие и назойливый словесный «оргиазм». Ее дарование не безупречного качества и не глубокое. Стихи ее нередко кажутся как бы плохо промытыми.
Не будем сравнивать и противопоставлять. Не будем увлекаться патриотизмом. Но все же вспомним Ахматову: насколько чище ее искусство и насколько оно «взрослее».
Ахматова уступает г-же де Ноайль в диапазоне голоса, но зато она – поэт в каждой своей запятой. Поэтому Ахматова не может быть так расточительна, как г-жа де Ноайль. Она, конечно, неспособна написать десяток длиннейших стихотворений, посвященных верденской битве. Но в одной ее колыбельной столько горечи, что после ничего не хочется читать.
Я потому сравниваю русскую поэтессу французской, что, по-видимому, в творчестве подлинно одаренных женщин есть что-то общее. Лучшие стихи графини де Ноайль, в особенности короткие и написанные в последние годы, до странного напоминают иногда манеру Ахматовой, так же как сама Ахматова перекликается с Павловой и с Марселиной Деборд-Вальмор, которую, может быть, она никогда и не читала.
3
Давно сказано, что в России никогда и не в чем не знают удержу. Еще четверть века назад у нас не было никакой «науки о стихе». Теперь каждый студент пишет рефераты по «семантике» или «эйдологии», строит схемы по Белому, вычисляет количество гласных в строках Пушкина и Маяковского – и так далее.
Это занятие довольно невинное. Но не надо думать, что оно хоть сколько-нибудь подняло уровень нашей поэтической культуры. Поговорите с любым «формалистом»: он вам изъяснит все тайны техники, разберет все спондеи и трохеи, но если вы прочтете ему стихи и спросите, что это за размер, он начнет считать стопы по пальцам, да и то ошибется.
Основное и простейшее ускользает.
Вот, например, заметка Б. Томашевского о книге Ю. Тынянова. Оба они – известные формалисты. По утверждению Томашевского, Тынянов ставит себе, между многими другими, задачу выяснить, почему «совершенно невыносим пересказ стихотворения».
Объяснения Тынянова очень сложны. Между тем ответ на поставленный им вопрос может быть только один: потому что попавшееся вам стихотворение дурно. Ведь если в поэзии возможны какие-либо мерила, то одним из первых является эта способность стихотворения жить, хотя бы ослабленной жизнью, в прозаической передаче его содержания. Только в этом значение прозаических переводов, в конце концов все-таки более приемлемых, чем переводы стихотворные. Прочтите Гете в прозаическом переводе. Это отблеск настоящего Гете, но в нем еще есть величье. То же относится к Пушкину, к Тютчеву, к любому из подлинных поэтов. В живом стихотворении первоначальная, хаотическая музыка всегда прояснена до беллетристики. Воля поэта поднимает музыку до рассказа. Это только оболочка стихотворения, но это и один из элементов его, того же качества, что и целое. Если невыносимо содержание стихотворения, то невыносимо и оно само.
Фет, например, есть типический образец второразрядного поэта. Он весь в непроясненной еще музыке, и стихи его, разбитые на прозу, кажутся слащавым и жалким набором слов. О многих фетообразных поэтах можно было бы сказать то же самое.