Текст книги "Наше сердце"
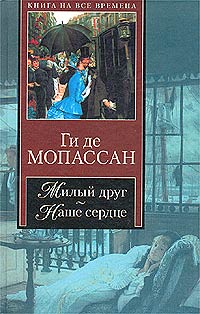
Автор книги: Ги де Мопассан
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Часть третья
I
Лучезарное утро освещало город. Мариоль сел в ожидавшую его у подъезда коляску, в откинутом верхе которой лежали его саквояж и два чемодана. Белье и все вещи, необходимые для долгого путешествия, были по его приказанию ночью уложены камердинером, и он уезжал, оставляя временный адрес: «Фонтенбло, до востребования». Он не брал с собой никого, не желая видеть ни одного лица, которое напоминало бы ему Париж, не желая слышать голоса, касавшегося его слуха во время размышлений о ней.
Он крикнул кучеру: «На Лионский вокзал!» Лошади тронули. Ему вспомнился другой отъезд: отъезд на гору Сен-Мишель прошлой весной. Через три месяца исполнится год. Чтобы рассеяться, он окинул взглядом улицу.
Коляска выехала на аллею Елисейских полей, залитую потоками весеннего солнца. Зеленые листья, уже освобожденные первым теплом предыдущих недель и только в последние дни немного задержанные в своем росте холодом и градом, казалось, изливали – до того быстро распускались они в это ясное утро – запахи свежей зелени и растительных соков, которые исходили из пробивающихся ростков и побегов.
Это было одно из тех утренних пробуждений, сопровождаемых всеобщим расцветом, когда чувствуется, что во всех городских садах, на протяжении всех улиц расцветут в один день шарообразные каштаны, точно вспыхнувшие люстры. Жизнь земли возрождалась на лето, и сама улица с ее асфальтовыми тротуарами глухо содрогалась под напором корней.
Покачиваясь от толчков экипажа, Мариоль размышлял: «Наконец-то я немного отдохну и увижу, как рождается весна в еще оголенном лесу».
Переезд показался ему очень долгим. Он был разбит несколькими бессонными часами, когда оплакивал самого себя, словно провел десять ночей у постели умирающего. Приехав в Фонтенбло, он зашел к нотариусу, чтобы узнать, не найдется ли меблированной виллы на окраине леса, которую можно было бы снять. Ему указали несколько дач. Та из них, фотография которой больше всего ему приглянулась, была только что освобождена молодой четой, прожившей почти всю зиму в деревне Монтиньи на Луэне. Нотариус, при всей своей солидности, улыбнулся. Вероятно, он почуял здесь любовную историю. Он спросил:
– Вы один?
– Один.
– Даже без прислуги?
– Даже без прислуги. Я оставил свою в Париже; хочу подыскать кого-нибудь здесь, на месте. Я приехал сюда поработать в полном уединении.
– О, в это время года вы будете здесь в полном одиночестве!
Несколько минут спустя открытое ландо увозило Мариоля с его чемоданами в Монтиньи.
Лес пробуждался. У подножия больших деревьев, вершины которых были осенены легкою дымкой зелени, особенно густо разросся кустарник. Одни только березы с их серебристыми стволами уже успели одеться по-летнему, в то время как у громадных дубов лишь на самых концах ветвей виднелись трепещущие зеленые пятна. Бук, быстрее раскрывающий свои заостренные почки, ронял последние прошлогодние листья. Трава вдоль дороги, еще не прикрытая непроницаемой тенью древесных вершин, была густой, блестящей и отлакированной свежими соками; и этот запах рождающихся побегов, который Мариоль уже уловил в Елисейских полях, теперь обволакивал его, погружал в огромный водоем растительной жизни, пробуждавшейся под первыми солнечными лучами. Он дышал полной грудью, точно узник, выпущенный из темницы, и с чувством человека, только что освобожденного от оков, вяло раскинул руки по краям ландо, свесив их над вертевшимися колесами.
Сладко было впивать этот вольный и чистый воздух. Но сколько же надо было выпить его, пить еще и еще, долго-долго, чтобы им надышаться, облегчить свои страдания и почувствовать наконец, как это легкое дуновение проникнет через легкие и, коснувшись раскрытой сердечной раны, успокоит ее!
Он миновал Марлот, где кучер показал ему недавно открытую, «Гостиницу Коро», славившуюся своим оригинальным стилем. Дальше покатили по дороге, слева от которой тянулся лес, а справа простиралась широкая долина с кое-где разбросанными деревьями и холмами на горизонте. Потом въехали на длинную деревенскую улицу, ослепительно белую, между двумя бесконечными рядами домиков, крытых черепицей. То здесь, то там свисал над забором огромный куст цветущей сирени. Улица пролегала по тесной долине, спускавшейся к небольшой речке. Увидев ее, Мариоль пришел в полный восторг. Это была узенькая, быстрая, извилистая, бурливая речка, которая омывала на одном берегу основания домов и садовые ограды, а на другом орошала луга с воздушными деревьями, зеленеющими нежною, едва развернувшейся листвой.
Мариоль сразу нашел указанное ему жилище и был очарован им. Это был старый дом, подновленный каким-то художником, который прожил здесь пять лет; когда дом ему надоел, он стал сдавать его внаем. Дом стоял у самой воды, отделенный от реки хорошеньким садом, который заканчивался площадкой, обсаженной липами. Луэн, только что сбросивший свои воды с трехфутовой плотины, бежал вдоль этой площадки, извиваясь в бойких водоворотах. Из окон фасада виднелись луга противоположного берега.
«Я выздоровлю здесь», – подумал Мариоль.
Все уже было заранее обусловлено с нотариусом на случай, если дом придется Мариолю по вкусу. Кучер доставил ответ. Началось устройство нового жилища. И все было готово очень быстро, так как секретарь мэра прислал двух женщин – одну в кухарки, другую для уборки комнат и стирки белья.
Внизу помещались гостиная, столовая, кухня и еще две небольшие комнатки; на втором этаже – прекрасная спальня и нечто вроде просторного кабинета, который художник-домовладелец приспособил под мастерскую. Все это было обставлено заботливо, как свойственно людям, влюбленным в местность и в свой дом. Теперь все немного поблекло, немного разладилось и приняло сиротливый, заброшенный вид жилища, покинутого хозяином. Чувствовалось, однако, что в этом домике жили еще совсем недавно. В комнатах еще носился нежный запах вербены. Мариоль подумал: «Ах, вербена! Бесхитростный аромат! Видно, женщина была непритязательная… Счастливец мой предшественник!»
Наступал уже вечер, так за всеми делами день проскользнул незаметно. Мариоль сел у открытого окна, впивая влажную и сладкую свежесть росистой травы и глядя, как заходящее солнце бросает на луга длинные тени.
Служанки болтали, стряпая обед, и их голоса глухо доносились из кухни, между тем как в окно врывались мычание коров, лай собак и голоса людей, загонявших скотину или перекликавшихся через реку.
От всего этого веяло миром и отдохновением. Мариоль в тысячный раз за этот день спрашивал себя: «Что подумала она, получив мое письмо?.. Что она сделает?» Потом задал себе вопрос: «Что она делает сейчас?»
Он взглянул на часы: половина седьмого. «Она вернулась домой и принимает гостей».
Ему представились гостиная и молодая женщина, беседующая с княгиней фон Мальтен, г-жой де Фремин, Масивалем и графом Бернхаузом.
Внезапно душа его содрогнулась, словно от гнева. Ему захотелось быть там. В этот час он почти ежедневно приходил к ней. И он ощутил в себе какое-то недомогание, – отнюдь не сожаление, потому что решение его было непоколебимо, но нечто близкое к физической боли, как у больного, которому в привычный час отказались впрыснуть морфий. Он уже не видел ни лугов, ни солнца, исчезавшего за холмами вдали. Он видел только ее – в окружении друзей, поглощенную светскими заботами, которые отняли ее у него. «Довольно думать о ней!» – сказал он себе.
Он встал, спустился в сад и дошел до площадки. Прохлада воды, взбаламученной падением с плотины, туманом поднималась от реки, и это ощущение холода, леденившее его сердце, и так уже исполненное глубокой печали, заставило его вернуться. В столовой ему был поставлен прибор. Он наскоро пообедал и, не зная, чем заняться, чувствуя, как растет в его теле и в душе недомогание, только что испытанное им, лег и закрыл глаза в надежде уснуть. Напрасно! Его мысли видели, его мысли страдали, его мысли не покидали этой женщины.
Кому достанется она теперь? Графу Бернхаузу, конечно! Он тот самый мужчина, в котором нуждается это тщеславное создание, – мужчина модный, элегантный, изысканный. Он нравится ей; стремясь его покорить, она пустила в ход все свое оружие, хотя и была в то время любовницей другого.
Его душа, одержимая разъедающими образами, все-таки начинала понемногу цепенеть, блуждая в сонливом бреду, где снова и снова возникали этот человек и она. По-настоящему он так и не заснул; и всю ночь ему мерещилось, что они бродят вокруг него, издеваясь над ним, дразня его, исчезая, словно затем, чтобы дать ему наконец возможность уснуть; но как только он забывался, они снова являлись и разгоняли сон острым приступом ревности, терзавшей сердце.
Едва забрезжил рассвет, он встал и отправился в лес, опираясь на палку – большую палку, позабытую в его новом доме прежним жильцом.
Взошедшее солнце бросало свои лучи сквозь почти еще голые вершины дубов на землю, местами покрытую зеленеющей травой, местами – ковром прошлогодних листьев, а дальше – порыжевшим от зимних морозов вереском; желтые бабочки порхали вдоль всей дороги, как блуждающие огоньки.
Возвышенность, почти гора, поросшая соснами и покрытая синеватыми глыбами камней, показалась с правой стороны дороги. Мариоль медленно взобрался на нее и, достигнув вершины, присел на большой камень, так как начал задыхаться. Ноги не держали его, подкашиваясь от слабости, сердце сильно билось; все тело было как будто измождено непонятной истомой.
Он хорошо знал, что это изнеможение не следствие усталости, что оно следствие другого – любви, тяготившей его, как непосильная ноша. Он прошептал: «Что за несчастье! Почему она так властно держит меня? Меня, который всегда брал от жизни только то, что нужно брать, чтобы испробовать ее вкус, не страдая!»
Его внимание, возбужденное и обостренное страхом перед этим недугом, который, быть может, будет так трудно преодолеть, сосредоточилось на нем самом, проникло в душу, спустилось в самую сокровенную сущность, стараясь лучше ее узнать, лучше постигнуть, пытаясь открыть его глазам причину этого необъяснимого перелома.
Он говорил себе: «Я никогда не был подвержен увлечениям. Я не прихожу в восторг, я по натуре не страстный человек; во мне значительно больше рассудочности, чем бессознательного влечения, больше любопытства, чем вожделения, больше своенравия, чем постоянства. По существу, я только ценитель наслаждений, тонкий, понимающий и разборчивый. Я любил блага жизни, никогда ни к чему особенно не привязываясь, я смаковал их, как знаток, не опьяняясь, потому что я слишком опытен, чтобы терять рассудок. Я все оцениваю умом и обычно не слепо следую своим склонностям, а подвергаю их беспощадному анализу. В этом-то и заключается мой великий недостаток, единственная причина моей слабости. И вот эта женщина стала властвовать надо мной наперекор моей воле, вопреки страху, который она мне внушает, вопреки тому, что я знаю ее насквозь; она поработила меня, завладев мало-помалу всеми помыслами и стремлениями, жившими во мне. Пожалуй, в этом все дело. Раньше я расточал их на неодушевленные предметы: на природу, которая пленяет и умиляет меня, на музыку, которая подобна идеальной ласке, на мысли – лакомства разума, и на все, что есть приятного и прекрасного на земле.
Но вот я встретил существо, которое собрало все мои довольно неустойчивые и переменчивые желания и, обратив их на себя, претворило в любовь. Изящная и красивая, она пленила мои глаза; тонкая, умная и лукавая, она пленила мою душу, а сердце поработила таинственной прелестью своей близости и присутствия, скрытым и неодолимым обаянием своей личности, которая заворожила меня, как дурманят иные цветы.
Она все заменила собой, ибо меня уже ничто не влечет; я уже ни в чем не нуждаюсь, ничего не хочу, ни о чем не тревожусь.
Какой бы трепет вызвал во мне, как бы меня потряс в прежнее время этот оживающий лес! Сейчас я его не вижу, не чувствую, меня здесь нет. Я неразлучен с этой женщиной, которую больше не хочу боготворить.
Полно! Эти мысли надо убить усталостью, иначе мне не излечиться!»
Он встал, спустился со скалистой горы и быстро зашагал вперед. Но наваждение, владевшее им, тяготило его, как будто он нес его на себе.
Он шел, все ускоряя шаг, и порою, глядя на солнце, терявшееся в листве, или ловя смолистое дуновение, исходившее от сомкнувшихся сосен, испытывал мимолетное чувство некоторой облегченности, точно предвестие отдаленного утешения.
Вдруг он остановился. «Это уже не прогулка, – подумал он, – это бегство». Он в самом деле бежал – без цели, сам не зная куда; он бежал, преследуемый смертельной тоскою – тоскою разбитой любви.
Потом он пошел медленнее. Лес менял свой облик, становился пышней и тенистей, потому что теперь Мариоль вступал в самую чащу, в чудесное царство буков. Зимы уже совершенно не чувствовалось. Это была необыкновенная весна, как будто родившаяся в эту самую ночь – до того она была свежа и юна.
Мариоль проник в самую гущу, под гигантские деревья, поднимавшиеся все выше и выше, и шел все вперед, шел час, два часа, пробираясь меж ветвей, среди неисчислимого множества мелких блестящих маслянистых листков, отлакированных собственным соком. Все небо закрывал огромный свод вершин, поддерживаемый кое-где прямыми, а кое-где склонившимися стволами, то более светлыми, то совсем темными под слоем черного мха, покрывавшего кору. Они возвышались над молодой порослью, тесно разросшейся и перепутавшейся у их подножия, и прикрывали ее густой тенью, пронизанной потоками солнца. Огненный ливень падал и растекался по всей этой раскинувшейся листве, походившей уже не на лес, а на сверкающее облако зелени, озаренное желтыми лучами.
Вдруг Мариоль в изумлении остановился. Где он? В лесу или на дне моря – моря листьев и света? На дне океана, позлащенного зеленым сиянием?
Он почувствовал себя несколько лучше, дальше от своего горя, более укрытым, более спокойным, и улегся на рыжий ковер опавших листьев, которые эти деревья сбрасывают лишь после того, как покроются новым нарядом.
Наслаждаясь свежим прикосновением земли и мягким, чистым воздухом, он скоро проникся желанием, сначала смутным, потом более определенным, не быть одиноким в этих прелестных местах и подумал: «Ах, если бы она была со мной!»
Внезапно он снова увидел Сен-Мишель и, вспомнив, насколько г-жа де Бюрн была там другой, чем в Париже, подумал, что только в тот день, когда в ней пробудились чувства, расцветшие на морском просторе, среди желтых песков, она и любила его немного – несколько часов. Правда, на дороге, затопленной морем, в монастыре, где, прошептав его имя «Андре», она как будто сказала: «Я ваша», да на Тропе безумцев, когда он почти нес ее по воздуху, в ней родилось нечто близкое к порыву, но увлечение уже никогда не возвращалось к этой кокетке, с тех пор как ее ножка снова ступила на парижскую мостовую.
Однако здесь, возле него, в этой зеленеющей купели, при виде этого прилива – прилива свежих растительных соков, разве не могло бы вновь проникнуть в ее сердце мимолетное и сладкое волнение, некогда охватившее ее на Нормандском побережье?
Он лежал, раскинувшись, на спине, истомленный своею мечтой, блуждая взором по волнам древесных вершин, залитых солнцем; и мало-помалу он стал закрывать глаза, цепенея в великом покое леса. Наконец он заснул, а когда очнулся, то увидел, что уже третий час пополудни.
Поднявшись, он уже не чувствовал такой печали, такой боли и снова тронулся в путь. Он наконец выбрался из лесной чащи и достиг широкого перекрестка, в который, словно зубцы короны, упирались сказочно высокие деревья шести аллей, терявшихся в прозрачных лиственных далях, в воздухе, окрашенном изумрудом. Придорожный столб указывал название этой местности: «Королевская роща». Это была столица королевства буков.
Мимо проезжал экипаж. Он был свободен. Мариоль нанял его и велел отвезти себя в Марлот, откуда рассчитывал дойти пешком до Монтиньи, предварительно закусив в трактире, так как очень проголодался.
Он вспомнил, что видел накануне вновь открытое заведение, «Гостиницу Коро», пристанище для художников, отделанное в средневековом духе, по образцу парижского кабаре «Черный кот»[20]20
…по образцу парижского кабаре «Черный кот». – Кабаре находилось сначала на бульваре Монмартр, затем на улице Виктора Массе; открыто в 1880 г. Родольфом Салисом. Играло большую роль в жизни художественного Монмартра в 1880—1890-х гг.
[Закрыть]. Экипаж доставил его туда, и он через открытую дверь вошел в просторную залу, где старинного вида столы и неудобные скамейки как будто поджидали пьяниц минувших веков.
В глубине комнаты молоденькая женщина, должно быть, служанка, стоя на стремянке, развешивала старинные тарелки на гвозди, вбитые слишком высоко для ее роста. То приподнимаясь на носках, то становясь на одну ногу, она тянулась вверх, одной рукой упираясь в стену, а в другой держа тарелку; ее движения были ловки и красивы, талия отличалась изяществом, а волнистая линия от кисти руки до щиколотки при каждом ее усилии принимала все новые грациозные изгибы. Она стояла спиной к двери и не слышала, как вошел Мариоль; он остановился и начал наблюдать за ней. Ему вспомнился Предоле. «Какая прелесть! – сказал он себе. – Как стройна эта девочка!»
Он кашлянул. Она чуть не упала от неожиданности, но, удержав равновесие, спрыгнула на пол с легкостью канатной плясуньи и, улыбаясь, подошла к посетителю.
– Что прикажете, сударь?
– Позавтракать, мадемуазель.
Она дерзнула заметить:
– Скорее пообедать, ведь теперь уж половина четвертого.
– Ну пообедать, если вам так угодно, – сказал он. – Я заблудился в лесу.
Она перечислила блюда, имевшиеся к услугам путешественников. Мариоль выбрал кушанья и сел.
Она пошла передать заказ, потом вернулась накрыть на стол.
Он провожал ее взглядом, находя ее миловидной, живой и чистенькой. В рабочем платье, с подоткнутой юбкой, с засученными рукавами и открытой шеей, она привлекала милым проворством, приятным для глаз, а корсаж хорошо обрисовывал ее талию, которой она, по-видимому, очень гордилась.
Чуть-чуть загорелое лицо, разрумяненное свежим воздухом, было слишком толстощеким и еще детски-пуxлым, но свежим, как распускающийся цветок, с красивыми, ясными карими глазами, в которых все, казалось, сверкало, с широкой улыбкой, открывавшей прекрасные зубы; у нее были темные волосы, изобилие которых говорило о жизненной силе молодого и крепкого существа.
Она подала редиску и масло, и он принялся за еду, перестав глядеть на нее. Чтобы забыться, он спросил бутылку шампанского и выпил всю, а после кофе – еще две рюмки кюммеля. Перед уходом из дому он съел только ломтик холодного мяса с хлебом, так что все это было выпито почти натощак, и он почувствовал, как его охватил, сковал и успокоил какой-то сильный дурман, который он принял за забвение. Его мысли, тоска и тревога словно растворились, утонули в светлом вине, так быстро превратившем его измученное сердце в сердце почти бесчувственное.
Он не спеша вернулся в Монтиньи, пришел домой очень усталый и сонный, улегся в постель с наступлением сумерек и тотчас же заснул.
Но среди ночи он проснулся, чувствуя какое-то недомогание, смутную тревогу, как будто кошмар, который удалось прогнать на несколько часов, снова подкрался к нему, чтобы прервать его сон.
Она была здесь, она, г-жа де Бюрн; она вернулась сюда и бродит вокруг него в сопровождении графа Бернхауза. «Ну вот, – подумал он, – теперь я ревную. Почему?»
Почему он ее ревновал? Он скоро это понял. Несмотря на все свои страхи и муки, пока он был ее любовником, он чувствовал, что она ему верна, верна без порыва, без нежности, просто потому, что хочет быть честной. Но он все порвал, он вернул ей свободу; все было кончено. Будет ли она теперь жить одиноко, без новой связи? Да, некоторое время, конечно… А потом?.. Не исходила ли самая верность, которую она до сих пор соблюдала, не вызывая в нем никаких сомнений, из смутного предчувствия, что, покинув его, Мариоля, она от скуки в один прекрасный день, после более или менее длительного отдыха, должна будет заменить его – не потому, чтобы она увлеклась кем-либо, но утомясь одиночеством, как она со временем бросила бы его, устав от его привязанности? Разве не бывает в жизни, что любовников покорно сохраняют только из страха перед их преемниками? К тому же смена любовников показалась бы неопрятной такой женщине, как она, – достаточно разумной, чтобы чуждаться греха и безнравственности, наделенной чуткой нравственной стыдливостью, которая предохраняет ее от грязи. Она светский философ, а не добродетельная мещанка; она не пугается тайной связи, но ее равнодушное тело содрогнулось бы от брезгливости при мысли о веренице любовников.
Он вернул ей свободу… и что же? Теперь она, разумеется, возьмет другого! И это будет граф Бернхауз. Он был уверен в этом и невыразимо страдал. Почему он с нею порвал? Он бросил ее, верную, ласковую, очаровательную! Почему? Потому что был грубой скотиной и не понимал любви без чувственного влечения?
Так ли это? Да… Но было и нечто другое! Был прежде всего страх перед страданием. Он бежал от муки не быть любимым в той же мере, как любил он сам, от жестокого разлада между ними, от неодинаково нежных поцелуев, от неизлечимого недуга, жестоко поразившего его сердце, которому, может быть, никогда уже не исцелиться. Он испугался чрезмерных страданий, он побоялся годами терпеть смертельную тоску, которую предчувствовал в продолжение нескольких месяцев, а испытывал всего несколько недель. Слабый, как всегда, он отступил перед этим страданием, как всю жизнь отступал перед всякими трудностями.
Значит, он не способен довести что бы то ни было до конца, не может всецело отдаться страсти, как ему в свое время следовало бы отдаться науке или искусству; вероятно, нельзя глубоко любить, не испытывая при этом глубоких страданий.
Он до рассвета перебирал все те же мысли, и они терзали его, как псы; потом встал и спустился к реке.
Рыбак забрасывал сеть у плотины. Вода бурлила под лучами зари, и, когда рыбак вытаскивал большую круглую сеть и расстилал ее в лодке, мелкие рыбки трепыхались в петлях, будто живое серебро.
Теплый утренний воздух, насыщенный радужными брызгами падавшей воды, успокаивал Мариоля; ему казалось, что река уносит в своем безостановочном и быстром беге частицу его печали.
Он подумал: «Все-таки я поступил хорошо; я так страдал!»
Он вернулся домой, взял в прихожей гамак и повесил его между двумя липами; в гамаке он старался ни о чем не думать и только смотреть на воду.
Он пролежал так до завтрака – в сладком оцепенении, в блаженном состоянии, и по возможности растянул завтрак, чтобы сократить день. Но его томило ожидание: он ждал почты. Он телеграфировал в Париж и написал в Фонтенбло, чтобы ему пересылали сюда письма. Он ничего не получал, и ощущение полной заброшенности начинало тяготить его. Почему? Он не мог ожидать ничего приятного, утешительного и успокаивающего из недр черной сумки, висевшей на боку у почтальона, ничего, кроме ненужных приглашений и пустых новостей. К чему же тогда мечтать об этих неведомых письмах, словно в них таится спасение для его сердца?
Не скрывается ли в самой глубине его души тщеславная надежда получить письмо от нее?
Он спросил у одной из своих старушек:
– В котором часу приходит почта?
– В полдень, сударь.
Был как раз полдень. Он со все возрастающим беспокойством стал прислушиваться к звукам, доносившимся извне. Стук в наружную дверь заставил его привскочить. Почтальон принес только газеты и три не важных письма. Мариоль прочитал газеты, перечитал их, заскучал и вышел из дому.
За что ему взяться? Он вернулся к гамаку и снова растянулся в нем, но полчаса спустя настойчивая потребность уйти куда-нибудь охватила его. В лес? Да, лес был обворожителен, но одиночество в нем ощущалось еще глубже, чем дома или в деревне, где иногда слышались какие-то отзвуки жизни. И это безмолвное одиночество деревьев и листвы наполняло его печалью и сожалением, погружало в скорбь. Мысленно он снова совершил вчерашнюю большую прогулку, и, когда ему вновь представилась проворная служаночка из «Гостиницы Коро», он подумал: «Вот идея! Отправлюсь туда и там пообедаю». Такое решение хорошо на него подействовало; это все-таки занятие, средство выиграть несколько часов. И он тотчас же тронулся в путь.
Длинная деревенская улица тянулась прямо по долине, между двумя рядами белых низеньких домишек с черепичными крышами; некоторые домики выходили прямо на дорогу, другие прятались в глубине дворов за кустами цветущей сирени; куры разгуливали там по теплому навозу, а лестницы, обнесенные деревянными перилами, взбирались прямо под открытым небом к дверям, пробитым в стене. Крестьяне не спеша работали возле своих жилищ. Мимо прошла сгорбленная старуха в разорванной кофте, с седовато-желтыми, несмотря на ее возраст, волосами (ведь у деревенских жителей почти никогда не бывает настоящей седины); ее тощие, узловатые ноги обрисовывались под каким-то подобием шерстяной юбки, подоткнутой сзади. Она смотрела прямо перед собой бессмысленными глазами – глазами, никогда ничего не видевшими, кроме нескольких самых простых предметов, необходимых для ее убогого существования.
Другая, помоложе, развешивала белье у дверей своего дома. Движение ее рук подтягивало кверху юбку и открывало широкие лодыжки в синих чулках и костлявые ноги – кости без мяса, между тем как ее талия и грудь, плоские и крепкие, как у мужчины, говорили о бесформенном теле, вероятно, ужасном на вид.
«Женщины! – подумал Мариоль. – И это женщины! Вот они какие!» Силуэт г-жи де Бюрн встал перед его глазами. Он увидел ее, чудо изящества и красоты, идеал человеческого тела, кокетливую и напряженную для того, чтобы тешить взоры мужчин, и содрогнулся от смертельной тоски по невозвратимой утрате.
Он зашагал быстрее, чтобы развлечь свою душу и мысли. Когда он вошел в гостиницу, служаночка сразу узнала его и почти фамильярно приветствовала:
– Здравствуйте, сударь!
– Здравствуйте, мадемуазель!
– Хотите чего-нибудь выпить?
– Да, для начала, а потом я у вас пообедаю.
Они обсудили, что ему сначала выпить и что съесть потом. Он советовался с ней, чтобы заставить ее разговориться, потому что она изъяснялась хорошо, на живом парижском наречии и так же непринужденно, как непринужденны были ее движения.
Слушая ее, он думал: «Как мила эта девочка! У нее задатки будущей кокотки».
Он спросил ее:
– Вы парижанка?
– Да, сударь.
– Вы здесь уже давно?
– Две недели, сударь.
– Вам здесь нравится?
– Пока не особенно, но еще рано судить; к тому же я устала от парижского воздуха, а в деревне я поправилась; из-за этого-то главным образом я и приехала сюда. Так подать вам вермута, сударь?
– Да, мадемуазель, и скажите повару или кухарке, чтобы они приготовили обед получше.
– Будьте покойны, сударь.
Она ушла, оставив его одного.
Он спустился в сад и устроился в лиственной беседке, куда ему и подали вермут. Он просидел там до вечера, слушая дрозда, свистевшего в клетке, и поглядывая на проходившую изредка мимо него служаночку, решившую пококетничать и порисоваться перед гостем, которому, – это ей было ясно, – она пришлась по вкусу.
Он ушел, как и накануне, повеселев от шампанского, но темнота и ночная прохлада быстро рассеяли легкое опьянение, и неодолимая тоска снова проникла ему в душу. Он думал: «Что же мне делать? Остаться здесь? Надолго ли я обречен влачить эту безотрадную жизнь?» Он заснул очень поздно.
На следующий день он опять покачался в гамаке, и вид человека, закидывавшего сеть, навел его на мысль заняться рыбной ловлей. Лавочник, торговавший удочками, дал ему несколько советов по поводу этого умиротворяющего вида спорта и даже взялся руководить его первыми опытами. Предложение было принято, и с десяти часов до полудня Мариолю с большими усилиями и великим напряжением внимания удалось поймать три крошечные рыбки.
После завтрака он снова отправился в Марлот. Зачем? Чтобы убить время.
Служаночка встретила его смехом.
Такое приветствие показалось ему забавным; он улыбнулся и попробовал вызвать ее на разговор.
Чувствуя себя более непринужденно, чем накануне, она разговорилась. Ее звали Элизабет Ледрю.
Мать ее, домашняя портниха, умерла в прошлом году; ее отец, счетовод, всегда пьяный, вечно без места, живший на счет жены и дочери, внезапно исчез, так как девочка, которая шила в своей мансарде теперь с утра до ночи, не могла одна зарабатывать на двоих. Устав от этого однообразного труда, она поступила служанкой в дешевый ресторанчик и пробыла там около года; она очень устала, а в это время хозяин «Гостиницы Коро» в Марлоте, которому она как-то раз прислуживала, пригласил ее на лето вместе с двумя другими девушками, которые должны приехать немного позже. Этот содержатель гостиницы, видимо, знал, чем привлечь посетителей.
Рассказ пришелся по душе Мариолю. Он ловко расспрашивал девушку, обращаясь с ней как с барышней, и выведал у нее много любопытных подробностей об унылом и нищем быте семьи, разоренной пьяницей. А она, существо заброшенное, бездомное, одинокое и все же веселое благодаря своей молодости, почувствовав неподдельный интерес со стороны этого незнакомца и живое участие, была с ним откровенна, раскрыла ему всю душу, порывов которой она не могла сдерживать так же, как и своего проворства.
Когда она умолкла, он спросил:
– И вы… будете служанкой всю жизнь?
– Не знаю, сударь. Разве я могу предвидеть, что со мной будет завтра?
– Надо все-таки подумать о будущем.
Легкая тень озабоченности легла на ее лицо, но быстро сбежала.
– Покорюсь тому, что выпадет мне на долю. Чему быть – того не миновать, – сказала она.
Они расстались друзьями.
Он пришел через несколько дней, потом еще раз, потом стал ходить часто, – его безотчетно влекла туда простодушная беседа с одинокой девушкой, легкая болтовня которой рассеивала его печаль.
Но вечерами, когда он возвращался пешком в Монтиньи, думая о г-же де Бюрн, на него находили страшные приступы отчаяния. С рассветом ему становилось немного легче. Когда же наступала ночь, на него снова обрушивались терзавшие душу сожаления и дикая ревность. Он не получал никаких известий. Он сам никому не писал, и ему никто не писал. Он ничего не знал. Возвращаясь один по темной дороге, он представлял себе развитие связи, которую он предвидел между своей вчерашней любовницей и графом Бернхаузом. Навязчивая мысль с каждым днем все неотступнее преследовала его. «Этот, – размышлял он, – даст ей именно то, что ей нужно: он будет благовоспитанным светским любовником, постоянным, не слишком требовательным, вполне довольным и польщенным тем, что стал избранником такой обворожительной и тонкой кокетки».
Он сравнивал его с собой. У графа, разумеется, не будет той болезненной чувствительности, той утомительной требовательности, той исступленной жажды ответной нежности, которые разрушили их любовный союз. Как человек светский, сговорчивый, рассудительный и сдержанный, он удовольствуется малым, так как, по-видимому, тоже не принадлежит к породе страстных людей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































