Текст книги "Фес"
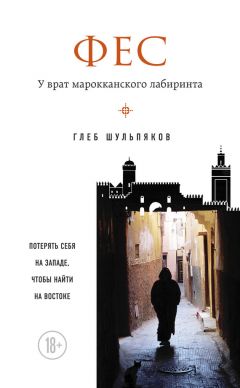
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
18.
Был ранний час, но у ворот уже собралось десятка полтора человек. Они были подпоясаны лиловыми кушаками. Когда ворота во двор открылись, часть людей протиснулась внутрь, а те, кто остался, расселись на дороге, достали лепешки и дук и принялись завтракать под музыку, которую кто-то включил на карманном приемнике. Многие покачивали головами и жевали в такт песне. Через полчаса, бесшумно подпрыгивая на резиновых покрышках, к воротам подкатила двухколесная повозка. Щебенка в повозке подпрыгивала на кочках тоже и поблескивала, как колотый сахар. Появление табры люди встретили одобрительными возгласами. Несколько человек поднялись и с любопытством сгрудились у повозки – так, словно это не камни, а товар, который они тщательно рассматривали и даже взвешивали на ладони. Потом чернокожий возница распряг ослика и вкатил повозку на двор.
Щебенка с шелестом высыпалась на траву. Яма, вырытая под кипарисом у стены, напоминала узкий и неглубокий колодец. Свежая земля лежала тут же. Толпа притихла, часть людей снаружи притиснулась к воротам и заглядывала во двор. Несколько стариков во главе со старейшиной в белом тюрбане о чем-то заспорили, то и дело ударяя себя по лбу и щелкая пальцами. Наконец во двор вкатилась еще одна телега. Перехваченный веревкой, на ней лежал большой куль из белой мешковины. Если бы не прядь черных женских волос, выбившаяся наружу, можно было решить, что в дом привезли крупного теленка.
19.
Кончик мешка на голове женщины мелко подрагивал все то время, пока чернокожий утрамбовывал землю. Потом пустую тележку выкатили в переулок, ворота захлопнулись. Люди во дворе отступили к стене, пропуская человека с жидкой бородой, муллу. Тот подошел к яме, поправил на носу очки и открыл книгу. Оглашение приговора заняло не больше минуты, потом по мешку щелкнул удар плетки. Мулла отбросил ее на землю и, подобрав полы балахона, спешно отошел к стене и сложил руки в молитве.
Первый камень ударил в ствол кипариса, но женщина в мешке все равно вскрикнула. Второй попал ей в плечо, следующий в грудь. Стон перешел в глухое бормотание, как будто человек в мешке заговаривал кого-то. При виде крови, которая пятнами распустилась на мешковине, толпа загудела. Чем больше камней попадало в цель, тем ниже наклонялся вкопанный в землю мешок и тем реже вздрагивал кончик колпака, пока, наконец, не замер. Тогда люди отступили и прижались к стене. В тишине слышалось дыхание сотни глоток и то, как бе зучастно дрожат от ветра ветки кипариса. Через минуту кончик мешка дернулся и снова мелко задрожал. С этого момента камни летели градом.
20.
Подземный ход был частью ганатов, или нижнего города, этой древней и чрезвычайно запутанной водопроводной системы. Когда-то здесь находились христианские катакомбы, и на стенах часто попадались рисунки, а в иных тоннелях даже сохранились высеченные в камне храмы. Именно эти катакомбы и стали основой для системы водоснабжения города. Они располагались под наклоном, внутри горных террас, поэтому вода могла поступать с гор самотеком. Водопровод пронизывал землю под городом наподобие кровеносной системы, и каждая клетка города, будь то жилой дом или мини-маркет, мечеть или площадь, имела доступ к этой системе. По мере того как развивалась и расселялась жизнь в городе, разветвлялись и водостоки, к нашему времени ганаты объединяли уже тысячи мелких капилляров, домашних или уличных стоков, с широкими отводами, принимающими отходы рыночных или производственных кварталов. Можно сказать, что под городом лежала точная проекция его внешней каждодневной жизни, той самой, какой она складывалась год за годом на протяжении столетий; через ганаты выражалось время, принимавшее их форму по мере постепенного и неумолимого своего течения; ганаты были своего рода его книгой, в которую заносилась сама жизнь – та жизнь, что наполняла этот город, это время и его книгу. Тонкие сосуды объединялись с крупными, те открывались в анфилады накопителей, откуда осадок выводился через дамбы в долину, лежавшую по ту сторону гор. За столетия стоки заброшенных или разрушенных домов, заложенных улиц, закрытых рынков и упраздненных казарм давно и безнадежно закупорились; в таких местах под землей образовывались затоны, многие из которых размывали землю до грунтовых вод, в результате чего под землей образовывались целые озера, заброшенные дома над ними оседали и проваливались. В этих озерах водилась рыба, причем довольно крупная, хотя из-за вечного полумрака эта рыба не имела пигментации и была прозрачной настолько, что сквозь чешую просматривался скелет и внутренние органы. И вот человек спускается в эти ганаты. Он спасается от преследователей по длинной лестнице, которая уходит под землю со двора дома, где он очутился, спасаясь от погони – тех, кто заметил и узнал его во время свершения казни. Да, он был именно тем человеком, из-за которого эта казнь свершилась, хотя и не знал об этом. Спуск настолько глубок, что последний отрезок пути человек проделывает в полной темноте, на ощупь. Но странно, площадка, где он очутился, имеет освещение. Источник света находится над головой. Отдышавшись, человек долго прислушивается – нет ли погони? – а потом замечает этот свет. У него над головой голубое пятнышко неба размером с пуговицу. Значит, то, куда он спустился, есть дно колодца, огромную глубину которого можно представить по размерам колодезного отверстия. Из этого колодца, куда погоня загнала человека, уводят низкие тоннели. Чтобы своды этих тоннелей, а точнее, нор, не обвалились, много веков назад их укрепили глиняными кольцами, вбитыми один за другим в землю, но взрослый человек может поместиться в этих норах только сидя на корточках, в позе эмбриона. Сколько метров он одолевает в таком положении? Сколько времени вообще проходит? Об этом человек не думает, иначе ему начинает казаться, что под землей он провел всю жизнь, и он вылезет наружу седым и немощным старцем. Однако нора не бесконечна, вскоре она выводит под своды огромного накопителя, и довольно высокие. На потолке этого резервуара видны дыры, пробитые прямо на улицу – это значит, что накопитель находится намного выше общего уровня ганатов и лежит прямо под мостовой города. Свет с потолка еле заметен, скуден – поскольку наверху наступает ночь. И человек решает никуда не бежать больше, а провести ночь здесь, на каменных ступенях, которые окружают воду амфитеатром. Для сна человек выбирает пустую нишу; если исходить из размеров и формы ниши, а также судить по рисункам рыбы и креста, раньше здесь находилась гробница. И человек залезает в нее, подтягивает ноги к подбородку и тотчас засыпает. Во сне его преследуют картины ужасной казни и погони, ему кажется, что он еще бежит по выгнутым улицам города, спасаясь от разъяренной толпы, узнавшей в нем обидчика жертвы. Он ищет, куда спрятаться от людей, готовых убить его и разорвать на части. Только ближе к утру видения страшного дня и казни оставляют его, а перед самым пробуждением в сознании возникает новая картина, человек видит голого мужчину, который берет женщину, лежащую под ним на каменных ступеньках. Несмотря на то, что эти люди – сон, человек знает, что они каким-то образом связаны. Ему хочется защитить женщину и прогнать мужчину, но когда он пытается это сделать, сон сразу оставляет его. Утро, человек проснулся. Он озирается, вращает со сна глазами и смотрит на воду, заляпанную бликами света, падающего сквозь дыры в сводах. Еще вчера тоннель выглядел тупиком и мертвой точкой, а сейчас в темноте мерцает неяркий свет, и этот свет говорит о том, что в конце тоннеля есть выход.
IV. Искушение
Этот испанец оказался не только художником, но и философом, и поэтом, и мы решили выпустить его книгу на русском. В тот месяц я собирался в Вену, там как раз проходила его выставка. Ее устроили в парке неподалеку от оперы, прямо на газонах между каштанами. Так я впервые очутился внутри времени. Этот испанец был настоящим волшебником, он изображал Время в виде огромных стальных конструкций – то как систему проходовтоннелей, то в виде спирали, куда тебя затягивала сила пространства, то как одно кольцо внутри другого с пустым, само собой, центром посередине.
Я договорился о встрече с агентом художника в кафе с веселым названием «Immervoll». Это была молодая женщина с густыми волосами и вытянутым лицом и с едва заметными усиками в уголках крупного рта. «Моя бабушка родом из Одессы», – сообщила она, словно предупреждая вопрос, откуда у англичанки эдакие цыганские очи. Наш разговор потеплел и стал приятельским. Мы заказали вина и еды, к которым, впрочем, так и не притронулись. Хотя о чем таком особенном шла речь? Я не помню. Рассказывая, она погружала ладонь в волосы и приподнимала их на затылке, и мне мучительно хотелось ощутить их тяжесть и запах. По едва заметным деталям, тому, как, например, растерянно она смотрела на улицу, давая мне возможность любоваться ею – или как быстро оценивала взглядом, стоило мне отвернуться, и незаметно, одними глазами, улыбалась, – я понимал, что наступил момент, когда можно не играть роль, а пригласить ее провести вместе оставшийся вечер, поскольку это приглашение, скорее всего, будет принято. С каким акцентом она говорит и как вставляет русские слова в английскую речь. Как улыбается. Возраст, замужем ли она, где живет и есть ли у нее дети – все это не имело значения, поскольку в те минуты мне казалось, что мы знакомы с детства, но по какому-то недоразумению только сейчас встретились. И все-таки в тот вечер между нами ничего не было. Поразмыслив, я решил, что форсировать события тактически неверно, лучше взять паузу, тем более что все эти дни она будет в городе. Опыт подсказывал, что в подобном случае вознаграждение будет вдвойне щедрым, к тому же на вечер у меня были планы и мне не хотелось менять их.
Мы договорились о встрече на завтра и рассчитались. Усаживая «цыганку» в машину, я обнял ее за плечи и поцеловал в висок. Последнее, что я помню, – это запах волос и бледный овал лица за стеклом такси, которое исчезло среди огней на бульваре. А я медленно пошел в обратную сторону к зданию оперы.
Об этом спектакле я знал еще дома, но тогда было слишком поздно, билеты уже раскупили. Однако перед встречей с «цыганкой» я все-таки решил заглянуть в театр. Наверное, так мне хотелось еще больше растравить себя, педанты вроде меня имеют к этому склонность. Отраженные в дверном стекле деревья взлетели под потолок и с мягким стуком вернулись на мостовую. Я вошел. В пустом кассовом зальчике никого не было, только сидел за конторкой одутловатый господин в белой полосатой рубашке. Его тугой галстук и кожная складка, и безбровое, словно лишенное черт, лицо почему-то особенно врезались в память. Небрежно облокотившись на мраморную стойку, я придал голосу ироническое звучание. Понимаю, сэр, что мой вопрос нелеп, но… Меня устроит любая цена…
Однако тот даже не поднял головы от компьютера. Нет так нет, я пожал плечами и совсем уже развернулся, когда услышал его тонкий голос:
– Два места в партере, на разных концах зала.
До премьеры оставалось время, и я потратил его, как уже рассказал, на встречу с «цыганкой». Через час после того, как она уехала, я стоял на оперном балконе с бокалом шампанского и разглядывал партер. Он был еще полупуст, но я все равно машинально искал глазами. Кого? И зачем? И вдруг пожалел, что не знаю, где находится то, второе место. Какой ряд, какой номер?
Как прошел первый акт и кто исполнял арии? Слушая оперу, я старался утонуть в любимых звуках, но мысли о втором человеке, который, как и я, купил последний билет перед началом спектакля, не давали покоя. Воображение рисовало девушку, молодую и красивую – откуда-нибудь с Востока, например, из Южной Азии. Пусть она приедет в Вену по делам, а лучше по гранту от университета. Пусть она давно мечтает услышать эту оперу, причем именно здесь, в Weiner Staatsoper, – в записи она так часто ее слушала, – и пусть в суете забудет заказать или вовремя выкупить билеты; пусть придет в кассы, как и я, от отчаяния и одиночества. И пусть этот билет достанется ей. Я слушал великую музыку и улыбался своим мыслям. Однако ближе к середине оперы мне представилась другая картина, теперь это был молодой американец в клетчатой рубашке навыпуск, который совершенно случайно наткнулся на оперу и решил купить последний билет, сходить для галочки. И вот я уже ненавидел этого человека; несуществующего, вымышленного – презирал и растаптывал.
Люди, купившие два последних билета, должны иметь что-то общее, думал я. В самом деле, оказаться без пары в прекрасном городе, любить именно эту оперу, но прошляпить билеты, быть настолько фаталистом, чтобы все равно зайти в кассу, где этих билетов заведомо нет, и чудесным образом приобрести их, нарушив привычную логику жизни, поскольку с утра вечер, как правило, уже спланирован… И вот мне уже решительно захотелось узнать, кто этот человек.
В кассах, куда я спустился в антракте, ничего не изменилось: тот же безбровый господин, только галстук чуть опущен, и те же, только потемневшие отражения в стеклянных дверях. Я выдумал ему историю про приятеля, и что мы разминулись в театральной толпе, «так не может ли герр кассир уточнить, какой билет был продан последним, ряд и место – пожалуйста, мне это…». Не дослушав меня, толстяк невозмутимо перевернул лист бумаги. С каждым движением его карандаша сердце мое замирало и тут же принималось стучать. Наконец он что-то чиркнул и протянул бумажку с номером.
Третий акт подходил к концу, вот-вот должна была прозвучать знаменитая ария, где музыкальный лейтмотив оперы, до этого разбросанный по репликам и сценам, теперь звучал ровно и мощно, а я все тянул голову и смотрел туда, где в партере блестели, словно мокрые сливы, головы зрителей. Этот? Эта? Кто? Когда овации взорвались и к сцене хлынули с цветами, я смешался с толпой и тоже пошел вперед. На сцене приседала мадам Баттерфляй и раскланивался Шарплесс, а мой взгляд метался по рядам. Но никого, кто бы подходил мне, в «моем» ряду не было. Наоборот, на глаза попадались совершенно никчемные люди, например, дама с зализанными седыми волосами или пожилой крашеный брюнет с платком на шее. Выводок японцев, топающих от восторга кедами. В какой-то момент мне даже показалось, что я вижу «цыганку»… Но нет, увы – это была не она. И я решил, что больше здесь делать нечего. Я совсем уже протиснулся к выходу, как услышал русскую речь. «В театре! – говорила по телефону какая-то девушка. – Не могу сейчас, я в театре». Ее пепельные волосы коснулись моей щеки, и я в бешенстве отпрянул, а она шла по проходу и продолжала говорить в трубку.
Я вышел из оперы опустошенный и разочарованный и сразу столкнулся с той, русской. Девушка беспомощно оглядывалась и хрустела на ветру картой.
– Простите! – сказал я. – Я случай но слышал, что вы…
Она неопределенно пожала плечами и спрятала руки в карманы, натянув ткань, под которой красиво выступила грудь. А плечи, наоборот, сузились, как у подростка.
– Да?
Не дожидаясь ответа, она развернулась и пошла прочь. При ходьбе ее фигурка раскачивалась как на нитке, то и дело заслоняя собой низкие фонарики, горевшие между деревьев. «Никогда не разговаривай с русскими», – вздохнул я и мысленно выругался. Снова оглядел девушку – как нелепо и жалко уменьшала ее фигуру перспектива. И вдруг опомнился, пошел следом.
– Билет! – окликнул ее. – Не могли бы вы…
Не поворачивая головы, она вынула бумажку и протянула через плечо, словно только и ждала меня.
– Вы контролер?
Не заглядывая в бумажку, я принял решение и взял девушку под руку. Я рассказал ей историю с билетами. Вот почему, сказал я. И она кивнула. Она призналась, что да – она тоже купила последний. От этого неожиданного совпадения мы некоторое время молча шли по бульвару, а потом принялись обсуждать и его, и много другой общей чепухи, которой оказалось довольно много в наших жизнях. Зачем я привел ее в кафе, где мы сидели с «цыганкой», зачем полез целоваться в такси? Как мы оказались на лавке под бетонной башней? Откуда взялся коньяк? Завалились в гей-бар и целовались на плюшевом диване, уже никого и ничего не стесняясь?
В номере я взял ее с яростью человека, упустившего что-то важное, она же отвечала мне так, словно хотела вытеснить нечто из сознания и памяти, выгнать из самой крови. Мы уснули вместе, а утром впервые за много лет я проснулся не один. Она не спала, показывала глазами на мобильный, отчаянно звонивший на кресле. Голый, я слонялся по комнате и врал «цыганке», что у меня срочный вызов, что улетаю и мы обо всем договоримся по почте. Все это время девушка, подперев щеку, с любопытством наблюдала за мной холодным взглядом. Наверное, я прошел испытание и заслужил вознаграждение, мне выдали его сразу, я даже не успел сходить в душ. С каждым движением она все теснее смыкала ресницы, густые и короткие, как щетки. Ее серые прозрачные глаза темнели и сужались. В такие моменты она походила на азиатку с узким змеиным ртом. В те дни и потом, когда мы жили вместе, я часто ловил себя на том, что со мной словно незнакомый человек. А вечером на моей раковине уже стояли ее флаконы и коробочки.
Откуда родом эта девушка? Где живет и кем работает? Я знал, что она приехала в Москву лет пятнадцать назад, вышла замуж за французского бизнесмена. Жили то в Москве, то во Франции, пока она его не бросила, или он ее, неизвестно. От мужа осталась квартира, куда после развода она перевезла из провинции маму и маленького брата. Занималась по специальности дизайном, выставками, последнее время работала в каком-то агентстве, которое устраивало арт-тусовки (у нее оставались французские связи). Так или иначе, в этой женщине меня устраивало большее из того, кем она была на самом деле. Мне нравилась ее вечная «недосказанность» и «недовоплощенность», то, как часто она давала мне возможность побыть одному, удаляясь в собственные мысли, и что оградила меня от своего прошлого, а о моем особенно не спрашивала. К тому же у нее был редкий для женщины дар не принуждать, ничего не требовать, а делать так, чтобы я сам захотел то, что ей нужно. Чисто азиатский метод, между прочим. Но мне, прагматику, это тоже нравилось.
В любви она была жадной до болезненных крайностей, но внешне оставалась холодной, даже безучастной. Этот контраст жара и холода невероятно возбуждал меня. В сущности, я нашел в ней себя, то есть человека своего поколения, чья внешняя природа безразлична, она изменчива и управляема, а внутренняя непреодолима в последней правоте и цели. В чем состояла ее цель и какой правотой она обладала? Я не знал или не хотел знать, поскольку у моих сверстников эти цели часто оказывались не столько непредсказуемыми, сколько пугающе разными.
Представляя ее лицо, я никогда не мог увидеть его целиком, каждый раз оно ускользало, стоило мне вообразить его. Наверное, поэтому мне хотелось быть рядом как можно чаще, особенно когда мы расставались, пусть ненадолго. А она, наоборот, с легкостью отпускала меня. Удивительно, что даже своим запахом она не обладала. Духи, шампуни, бальзамы – я знал их наизусть и мог сразу сказать, чем она сегодня или даже вчера пользовалась, но как пахла она сама? Ее тело? Пепельный волос на бортике раковины – вот и все, на что я мог рассчитывать.
В самолете из Вены мы вспоминали «нашу историю», как будто время придвинуло будущее и то, что было буквально на днях, превратилось в глубокое прошлое. Однако билет в оперу, из-за которого все началось, найти мне так и не удалось. Вернувшись, мы стали жить вместе уже через месяц, сначала в моей студии, за рекой – а потом, когда она забеременела, в новой квартире рядом с офисом. Тогда же и поженились тихим вторником где-то в Хамовниках. «Кого тебе хочется, мальчика или девочку?» – спрашивала она. Я отвечал, что мне все равно, она обижалась, хотя в моих словах не было ни капли притворства, в глубине души мне действительно казалось безразличным, кто появится на свет, лишь бы появился. Лишь бы прочнее связал меня с этой ускользающей, неуловимой женщиной. И в самом деле, чем больше выпирал живот, тем спокойнее она входила во все обстоятельства нашей будущей жизни. Она изучала пособия так, словно беременность и рождение – это большое путешествие, и нужно подготовиться к нему, запастись билетами и путеводителями. Да, живот спустил ее на землю буквально, и она забыла – и о своих выставках, и о своих проектах, и о себе. Летом на исходе седьмого месяца ее любимым местом в доме стал наш ковер. Разложив толстые глянцевые книжки и распечатав коробки, она часами сидела, поджав ноги, а я смотрел на нее и думал, что, наверное, так сидели ее прабабки в каком-нибудь глиняном городе, в каком-нибудь желтом переулке без дверей и окон, в какой-то позапрошлой жизни, куда мне хотелось попасть хотя бы в воображении.
В то лето к нам часто захаживал мой художник, он появлялся «как бы ненароком», хотя, по правде говоря, это я просил его, чтобы он развлек жену, рассказал ей новости из «мира искусства», сплетни о том, кто и сколько заработал или сколько они просили и сколько взяли, а если нет, кто куда эмигрировал и сколько смог вывезти. В такие моменты она вопросительно смотрела на меня, и я поспешно переводил разговор на другую тему, поскольку все, о чем рассказывал художник, могло случиться с нами, причем в любую минуту, и она это знала. Все вопросы по обустройству семейной жизни по-прежнему решались мной, но после разговоров с художником она не пропускала случая, чтобы спросить, все ли у нас в порядке. В ответ я смеялся и сообщал, что да, а ночью лежал и слушал ее дыхание, и чувствовал, как меня переполняет необъяснимая, паническая тревога. Один коньяк, другой – я боролся с этими приступами выпивкой в ночном баре, и постепенно тревога отступала, я доставал монеты и укладывал их на лимон, плавающий в кувшине. Это была местная игра, монеты соскальзывали. А однажды, когда принесли счет, я нашел в кармане застиранный билетик… «Madama Butterfly, Weiner Staatsoper»… Это был билет на балкон, в тот вечер она просто пересела на свободное место в партере, которое так и осталось некупленным. Так испарилась наша история с билетами, но теперь это не имело никакого значения.
Мотор глохнет, теперь лодка скользит по течению. Лодочник перебирается на корму и что-то показывает человеку на карте, где изображена река и ее бесчисленные, похожие на густые ветки, протоки. И тому вдруг становится невероятно интересно. Действительно, почему? – спрашивает он себя, как ребенок. Как будто мир, лежащий за бортом, требует, чтобы его открыли и объяснили заново.
На реке тем временем темнеет. Сперва к желтому оттенку воды прибавляется торфяной, но еще минута, и река мерцает черным маслянистым блеском. Небо в этих краях гаснет сразу после захода солнца, как бывает в театре, если за кулисами выключили подсветку. Теперь на небе горит одна дежурная лампочка. Вечер, но воздух все так же влажен. Влага покрывает тело человека, как пленка, которую хочется содрать, снять вместе с кожей. Но человек лишь напрасно царапает грудь и плечи.
Судя по мелким огонькам, широко высыпавшим на горизонте, лодка выходит на большую воду. Лодочник садится на руль, винт опускается в воду, мотор тихо стучит, и лодка на медленных оборотах идет по направлению к огням. О чем лодочник говорит на своем языке? Или он поет? Обрывки песни долетают на корму, и человек улыбается – то ли незнакомой песне, то ли деревне, куда приближается лодка, то ли запаху еды, который уже летит над водой.
Когда лодку швартуют в протоке, человек пытается встать, но в затекшие от длительного путешествия ноги впиваются тысячи ледяных иголок. Он падает обратно на циновки и нетерпеливо подвигает кожаную сумку лодочнику, показывая жестом: «Возьми сам». Тот пересчитывает деньги мокрыми руками. В первую стопку он складывает деньги, которые достает из сумки. Во второй лежат его собственные. А третью пачку, тоже из сумки, он сжимает в кулаке. Это – плата за лодку. Не пересчитывая, человек бросает остатки денег в сумку. В сумке виднеется цепь, она лежит с той самой ночи и зловеще поблескивает. Лодочник вопросительно поднимает глаза и переводит взгляд на цепь. Человек равнодушно перебрасывает цепь за борт. Некоторое время она висит над водой, словно не хочет падать, и оба, как завороженные, не сводят с нее глаз. А потом цепь с треском бежит за борт и исчезает под водой…
Сбитый из бамбуковых палок, дом покрыт вязанками тростника, уложенными на балки. Он отодвигает москитную сетку и свешивает ноги с кровати. Плеск, разбудивший его, доносится снизу. Вода между досок блестит, но неожиданно блики растворяются, щель заслоняет черная макушка, это снизу на человека смотрит пара блестящих глаз.
Он встает и подходит к окну. Стекла нет, окна закрывают соломенные ставни. Створка отодвигается, он выглядывает – и задыхается от восторга. Освещенное утренним солнцем, за окном, сколько хватает взгляда, лежит озеро. Привыкнув к бликам, его глаза различают дальний берег, обрамленный силуэтами крыш, какие бывают у пагод. А может быть, это и есть пагоды. Озеро пересекают плавучие грядки, и несколько человек, согнувшись, что-то собирают на них в заплечные корзины. Когда он собирается закрыть окно, из-под дома выныривает лодка. Ему уже знаком взгляд черных глаз, и он машет девочке рукой. Смуглая, в коротком платьице, она неуверенно улыбается, а потом вдруг протягивает связку с бананами.
Бананы теплые и гладкие. Вода стекает под рукомойник, и человек с наслаждением моет лицо и шею, а потом и бананы. Ложится на кровать и закрывает глаза. Глиняный город, откуда ему чудом удалось выбраться, сотни километров по желтой реке и новый город на деревянных сваях, новое видение – разве все это не сон? И тогда нет никакой разницы, что находилось в жестянках или за что казнили несчастную девушку.
Размышляя таким образом, он чувствует, что, взятые по отдельности, эти события все-таки неразрывно с ним связаны. Они являются частью его, как сон и страх. Но в чем заключалась эта связь и откуда этот страх? Чем дольше он лежит с закрытыми глазами, тем меньше ему хочется отвечать на эти вопросы. Между человеком и тем, что случилось в прошлой жизни, стена; и с каждой минутой эта стена становится все толще.
Одежда! Куда исчезает одежда человека, когда его самого больше нет? Сколько ее хранят, если он умер, а сколько – если пропал без вести? Он переворачивается на другой бок, открывает глаза. При чем здесь одежда? Перед тобой дверь, за которой лежит другой мир и новая жизнь. Город, где никому до тебя нет дела. В этом городе можно сыграть новую роль, собрать новую цепочку причин и следствий. Или ничего не собирать вообще. Однако что-то мешает тебе открыть эту дверь. Твои мысли снова и снова вращают тот ключ, открывают ту дверь. В который раз ты входишь в свой дом. Перешагиваешь через детские вещи, которые, наверное, разбросаны в коридоре. Перебираешь матерчатые игрушки, которые, скорее всего, висят над деревянной кроваткой. Рассматриваешь семейные фотографии. Осторожно! Это щелчок замка, шум в коридоре. Спустя минуту входит женщина. Она зажигает лампу и кладет на стул пакеты с покупками. Вы встречаетесь взглядами, но несмотря на то, что кухню заливает электрический свет, взгляд женщины не задерживается на тебе, она тебя не видит. Ты делаешь невольное движение навстречу, ты протягиваешь этой женщине руку, но в этот момент из прихожей долетают мужской смех и детский визг. Женщина улыбается, но не тебе, а этим звукам и, развернувшись, щелкает выключателем, бросив тебя в темноте.
Раньше, когда ты представлял себе эту картину, в тебе поднималась волна отчаяния из-за невозможности исправить что-то, но сейчас ты ничего не чувствуешь. Безмятежное спокойствие, умиротворение – вот что на тебя нисходит, потому что, когда ты крадешься из кухни в спальню и открываешь шкаф – когда ты перебираешь одежду на своей полке – ты видишь, что твоих вещей в шкафу больше нет.
На майке, которую человек купил у лодочника, читается надпись «Celebrate your image!», дальше шорты и пластиковые шлепанцы – надев на себя все это (и еще кепку), он смотрит в зеркало: теперь по виду он ничем не отличается от туриста, разве что вместо фотоаппарата у него кожаная сумка. Осталось только разложить мелкие купюры и перетянуть резинкой. Человек вспоминает, как мальчишка, оставшийся в глиняном городе, помогал цеплять ему эти пачки, но никакой жалости к нему не испытывает, поскольку перед ним новая жизнь, и она отрезана от предыдущей непроходимой стеной забвения. Теперь человек готов к ней и выходит в новый город, которым представляется ему новая жизнь. Автобусы без стекол и грузовики, легковые машины и мотороллеры, повозки, запряженные буйволами и верблюдами, велосипедисты и раз носчики газет, продавцы бананов и воды, погонщики верхом на слонах и сами слоны – ничто не стоит на месте в этом городе, каждый преследует свою цель, прокладывает себе путь. Сигналит, кричит, жестикулирует и – движется. Хаос, царящий на улицах города, сперва пугает человека, но постепенно он понимает, что то, как в долю секунды расходятся машины и животные, как маневрируют люди и повозки, все это работает в самом выгодном режиме, когда каждое движение выверено, и если человек сядет на мотороллер и, закрыв глаза, например, просто врежется в толпу, то пройдет сквозь нее, как нож сквозь масло, беспрепятственно.
С верхних этажей домов за движением наблюдают зеваки, другая часть населения, в основном женщины, сидит вплотную к стенам и готовит на открытом огне пищу. Еще одна часть, довольно многочисленная, просто спит, подложив под голову руку или ворох газет. Ни окон, ни дверей в жилых домах этого города нет, вместо них циновки. Они чаще подняты или полуспущены, чтобы в доме циркулировал воздух, и когда человек заглядывает под циновки, ему видны комнаты, заставленные газовыми баллонами и убогой плетеной мебелью. Чем дольше человек изучает место, в котором очутился, тем больше ему кажется, что город словно вывернут наизнанку. Жизнь не прячется за стены и засовы, занавески и двери, а лежит, выставленная на всеобщее обозрение. Дети сидят вокруг чанов и чистят фрукты; красные и желтые, под ножом плоды превращаются в белые шарики, которые напоминают шарики для пинг-понга, и маленькая женщина, которая приходит, когда чан наполнен, просто выносит его в другую комнату. Другой дом, игрушечный, находится внутри этой комнаты, он стоит на самом видном, чистом месте и похож на скворечник из яркого пластика. Его украшают гирлянды живых цветов и бананы, и лампочки вроде новогодних. Внутри этого домика на возвышении можно разглядеть позолоченную куклу, это статуэтка божка, одного из тысячи, которым поклоняются местные жители. Человек не знает, кто этот бог и какую функцию он выполняет, но глядя на него и на тысячи других богов этого города (больших и маленьких, важных и второстепенных, мужского пола и женского, человеческого облика и звериного), он чувствует, что отныне на душе у него спокойно, ведь в городе с таким количеством богов ему ничего не грозит, это уж точно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































