Текст книги "Фес"
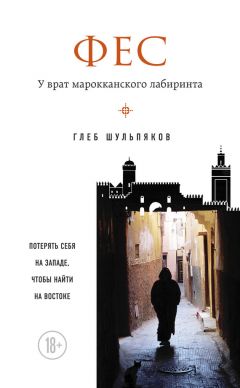
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Ночью, когда я только приплыл в город, река выглядела безбрежной, а сейчас, при свете дня, это просто мелкая, в залысинах отмелей, широкая канава, на откосах которой лежит мусор.
Когда налетает ветер, пластиковые пакеты надуваются и хлопают. Рядом в пальмовой роще стоят мотороллеры, тут же развалились и велосипеды, и рикши. А люди лежат прямо на земле, они спят или пьют пиво. И я ложусь на землю тоже.
Через некоторое время надо мной склоняется девушка. Под мышкой у нее картонка, обернутая тряпкой. Безмолвно прижимая руку к груди, она делает просительные жесты, и я, как заправский турист, достаю купюру.
Девушка кланяется и отходит, я снова ложусь. Когда я просыпаюсь, солнце уже садится, и его лучи, пробиваясь сквозь ветки, заливают рощу пепельно-розовым светом. «Пха, пха!» – кричат люди на газоне. Я оборачиваюсь и вижу, что они показывают на картонку, которую оставила девушка. Я снимаю тряпку – на картине изображен желтый лотос, его контуры художница обвела черным фломастером.
На террасе ночного бара – четверо. Они бегло говорят на английском, хотя акценты звучат по-разному.
– Вы по-настоящему так думаете?
Это спрашивает молодой парень.
– Вы серьезны?
Бронзовый от загара мужик снимает ковбойскую шляпу и откидывается на подушках:
– Да, думаю, что так.
Сигара, которую он пытался зажечь, мешает ему говорить.
– Думаю, что за это можно платить деньги.
Одну из двух девушек, ту, что крупной комплекции, можно назвать «лыжницей». У нее светлые брови, они подчеркивают обгоревший лоб. Девушка сидит в ногах у парня и, наклоняясь, чтобы взять стакан с пивом, обнажает в вырезе белые толстые груди. А другая девушка сидит на коленях у «ковбоя». У нее восточная внешность. На ее узких бедрах, обтянутых джинсами, поблескивает пряжка, а на запястье висят браслеты. Мужская рубашка небрежно повязана на поясе, длинные прямые волосы оттеняют правильный овал лица.
– Но почему? Скажите нам, почему?
Во время разговора «лыжница» часто хлопает выгоревшими ресницами.
– Как вы это знаете? – уточняет она.
– Они всего лишь умеют делать это лучше, – отвечает «ковбой».
Обложенная тропической ночью, терраса напоминает сцену, а люди на ней – актеров.
– Неужели?
Это говорит парень, назовем его «серфер».
– И в чем же их превосходство?
«Ковбой»:
– Просто они делают это, как делали бы для себя. Понимаете?
– Нет, не понимаю.
«Ковбой» смотрит на «лыжницу»:
– Мы же знаем, что девушки могут любить друг друга намного лучше?
«Лыжница» кивает.
Судя по выражению «серфера», реакция девушки его удивляет.
– Но как тебе это известно, дорогая?
«Лыжница» встает и чокается с «ковбоем».
– Каждая девушка имеет свои секреты, не правда ли? – говорит тот.
«Лыжница» вытирает губы:
– И все-таки я нахожусь в уверенности, что женщины делают это лучше.
Музыку в баре прибавляют. Судя по взглядам, которые бросает на азиатку «серфер», она ему нравится. «Ковбой», заметив эти взгляды, берет девушку за подбородок и проводит ладонью по щеке. Запускает руку в волосы и приподнимает их.
– Мужское удовольствие может быть долгим, – медленно начинает «ковбой». – Его можно растянуть на десять, на пятнадцать секунд. Испытать сильно и ярко.
– Вы разговариваете об оргазме?
Это уточняет «лыжница».
– Да, черт возьми, именно о нем я и разговариваю! Или он испытывает что-то другое?
«Ковбой» кивает на «серфера».
– О, я не знаю, – отвечает девушка.
Даже в сумерках видно, что «серфер» краснеет.
– Великолепно.
Это усмехается «ковбой», а «серфер» уходит за пивом.
– Да, – продолжает «ковбой». – Я утверждаю, что мужчина может испытывать оргазм долго. Но ни одна женщина в мире не сможет обеспечить такой оргазм мужчине.
– Значит, вы говорите о гомосексуальности?
– Нет. – Он выдерживает паузу. – Я говорю о другом.
«Серфер» приносит пиво и чистые стаканы.
– Вы совсем не должны быть гомосексуальным для этого. Вы можете по-прежнему испытывать неприязнь при одной мысли о близости с мужчиной. Здесь… – «Ковбой» обводит рукой террасу и озеро, – все прекрасно знают об этом.
– Думаю, женщина будет всегда притягательна мужчине, – сомневается «лыжница».
– Но ее возможности ограниченны, – парирует «ковбой». – Она просто не может знать, что чувствует мужчина. Никогда! Как и мы не знаем, что происходит в этот момент с женщиной. Какова идея выхода из этакой ситуации?
«Ковбой» незаметно убирает руку азиатки.
– Мужчина, который будет женщиной.
Он обводит взглядом собеседников.
– …физиологически он мужчина, самый обыкновенный…
Он переходит на полушепот.
– …но получает именно от этого колоссальное…
– …при этом он знает все о мужском…
– …возбуждает вас, как женщина…
– …вы же знаете, как доставить себе…
– …то же и он…
Из-за стойки выходит хозяйка бара, невысокая белая женщина. Она относит человеку поднос с напитками, а по дороге гладит по спине азиатку. На террасе воцаряется тишина. Теперь «ковбой» только задумчиво пускает дым и прихлебывает пиво.
– И как вы хотите найти такого человека? – спрашивает «лыжница». Азиатка встает и заходит за спину «ковбоя»: – Он уже нашел такого человека – правда, милый?
Она обнимает его за шею и садится к нему на колени. Голос у нее на удивление низкий и приятный. Несколько секунд «лыжница» неподвижно смотрит на азиатку, потом все понимает – и начинает часто моргать. Что и говорить, эффект сильный. В наступившей тишине «ковбой» и азиатка встают и, не прощаясь, уходят.
Крупные зубы водителя рикши отливают в темноте фарфоровым блеском. Не раздумывая, человек выходит из бара, переходит дорогу и садится в кузов. Его каркас украшают разноцветные лампочки, и человеку кажется, что он попал внутрь игрального автомата. Они выскакивают на неосвещенный проспект. Горячий воздух бьет в лицо, а на выбоинах лампочки раскачиваются и мигают. Фара выхватывает то изрешеченный пулями фасад, то ряды толстых складчатых стволов, то разрисованные шкафчики на балконах. На улицах ночные рынки, они облиты мертвенным светом голых лампочек.
– Чеди! – Водитель показывает на ограду, и человек с интересом смотрит на скульптуры тигров, охраняющих вход. Но сам монастырь не видно, машина закладывает вираж и начинает подъем, ограда исчезает в темноте. На земляной улице, куда они выезжают, человек видит полутемные, с выставленными рамами, хижины. Кое-где в комнатах мерцает пятно телевизора, бросая на стены серые отсветы, и видно, что перед телевизором лежат люди. А где-то видны только свечи в маленьких божницах.
Во дворе большого сельского дома мотор рикши глохнет. Тишину сразу наполняют звуки посуды, как шелестит цепь в собачьей будке и отдаленный звон колокольчиков.
Из-под навеса выскакивает мальчишка, они о чем-то разговаривают с водителем. Потом он хлопает по карману и показывает пальцами, что нужны деньги. Кип! Доллар! Бат! И человек, порывшись в карманах, протягивает мальчишке несколько купюр.
В комнате, куда приводит мальчишка, горит свеча, она освещает низкий топчан, застеленный пестрой тряпкой, и бросает отсветы на фотообои с пальмами. Даже в полумраке видно, насколько они выгоревшие.
В углу дребезжит вентилятор. В душевой, которая отгорожена прямо в комнате и которую человек сперва не заметил, дергается занавеска, оттуда выглядывает девушка. Огромные мужские шлепанцы делают ее фигуру совсем невзрослой, в сущности, это ребенок, девочка. Одной рукой она придерживает полотенце, а другой поправляет волосы и несмело улыбается. Поняв, куда он попал, человек поднимает руку, чтобы открыть дверь и выйти, но девушка подбегает и обнимает его обеими руками – как большую игрушку. Глаза у нее закрыты, на губах сладкая улыбка. Полотенце, как нарочно, падает, и теперь он чувствует прикосновение ее маленьких твердых грудей. Не отпуская рук, девушка тянет его к кровати, и они неловко садятся на низкий матрас. Она поворачивает вентилятор, и по комнате прокатывается волна прогорклого воздуха. Девушка дрожит, и он пытается погладить ее по голове, чтобы успокоить. Но она сбрасывает его руку. Даже при скудном освещении видно, насколько тщедушно ее тело, но именно эта незрелая беззащитность – вздернутых плеч, например, или впалого живота, этих едва набухших над ребрами сосков – распаляет человека, заставляя делать то, что он делает. Упираясь в грудь, сначала она театрально отталкивает его, а потом по-настоящему царапает. Но боль делает человека еще более ожесточенным. Одной рукой он отбрасывает одежду, которая мешает ему, а другой покрепче обхватывает девушку. С каждым движением он хочет, чтобы их тела слиплись в розовой пене из его крови и пота. Страдание, которое он причиняет, только возбуждает его, и постепенно боль на лице девушки уступает место наслаждению. Сперва скривленные губы напоминают гримасу, но проходит минута, другая, и рот раздвигается в блаженной улыбке.
…Теперь в тишине подробно стучит вентилятор. На дворе слышен лай. Девушка натягивает покрывало, ложится на бок. Ее плечо еще вздрагивает, по телу пробегает судорога. Но через несколько минут слезы высыхают. Она засыпает… Пока она спит, ему представляется, что они на пляже, который нарисован на обоях. Или что он всю жизнь прожил в этой комнате без окон. Спал на влажных простынях – среди пальм, освещенных свечкой. Под треск вентилятора и цикад. Под взглядом бога, чье имя неизвестно. Рядом с девушкой-ребенком, которая во сне всхлипывает и прижимается. Эта картина совершенно не пугает человека, наоборот, принимая ее с безропотным удовольствием, он ощущает невиданную уверенность и бесстрашие. Собственно, в данный момент он и есть житель этой убогой комнаты.
Когда девушка просыпается, она привстает на локте и разглядывает человека. Он улыбается в ответ, а сам потихоньку изучает ее профиль. Это лицо, на котором запечатлено время, древнее и неумолимое, пугающее в своей слепой силе. Оно в том, как высок и чист ее лоб, насколько аккуратно вылеплен и точно посажен нос, как прорезаны ноздри, похожие на две маслины, и насколько замысловато выточены ушные раковины. Его пальцы касаются ее пухлых, но твердых губ. В том, как они прорисованы и как сочетаются с разрезом глаз, тоже говорит время, его многовековая работа с человеческим материалом, из миллионов комбинаций которого нужно выбрать одну и довести до совершенства.
– Гуд фака! – произносит она.
Чем шире открывается в человеке источник силы, тем больше требует она чужой боли. То неразрешенное, что еще оставалось в нем, то безвыходное и непреодолимое – вместе с этой силой отпускает его, делая человека свободным. А может быть, он просто хочет понять то неизменное, что спрятано в этих людях и чего ему самому так не хватает.
Бетонные лачуги сменяются фанерными палатками талата, городского рынка, а шалаши речной деревни чередуются с задними комнатами семейных жилищ или картонными коробками, которые ставят прямо на газоне, чтобы утром собрать до следующего вечера. Отныне весь город превращается для человека в улей, где в каждой ячейке ждут боль и наслаждение, и свобода. Ночь за ночью он все более груб и безжалостен; распластывая покрытые гусиной кожей тела, он хочет видеть глаза и лицо, и дрожь на губах, и как сквозь гримасу боли проступает улыбка. Она всегда одна, эта улыбка – обнажающая десны, скривленная, заволакивающая глаза пеленой, тоже всегда одной и той же. Кто он? – спрашивает человек, глядя в зеркало. Он трогает нос и щеки, проводит по волосам и скалит мелкие неровные зубы. Кто вживил в меня этого человека? Перед глазами цепь и кровь, капающая на пол, и дом с кипарисом, и двор, где происходила казнь, и площадь с игрищами. Но как ты связан с тем человеком? Сколько их в тебе? Почему, куда бы ты ни попал, в тебе всегда есть тот, кто примет чужое, как свое? Или для этого нужно просто оставаться собой? Но что тогда такое «быть собой»?
Разговаривая с отражением, ему хочется услышать собственный голос, увидеть в зеркале, как двигаются губы. Доказать тем самым, что жив и что хотя бы лицо принадлежит ему. Но внутренний голос насмехается над ним. Ты существуешь отдельно от этих ладоней, говорит он. От ног, покрытых бесцветными волосками. От глаз, бессмысленно сверлящих амальгаму.
Раньше человеку нечего было сказать в ответ, но теперь он спокойно возражает. Ерунда, не согласен он. Я – это я. Еще одно усилие, и мир выдаст мне свою формулу.
В такие минуты человека переполняет чувство победы и свободы. Это чувство схоже с тем, какое испытывает тот, кто купил билет в давно загаданном направлении, но пока не знает, на какой перрон подадут поезд, а значит, у него есть время и можно заняться, например, опиумом. Опиум горит медленно, но одной-двух затяжек человеку вполне хватает. Желтый лотос на картине сплетается в узел и затягивает тебя в воронку. Холодное тепло расходится по телу, руки невесомы и прозрачны, кажется, что сквозь кожу видны мышцы и вены, по которым бежит пустота, пузырящийся газ. А теперь? – говорит он. Вместо подвала и цепи теперь он слышит запах камня и хлеба. Сначала размытая, с каждой секундой картина принимает резкие очертания. Ты видишь пасмурное небо и пляж. Море, бросающее мешки волн на гальку. Купальщиков на полотенцах и мальчика. Парусина оглушительно хлопает над головой этого мальчика. Печка обложена глиной и дышит жаром – вот откуда этот запах, и мальчик завороженно смотрит, как два человека разминают тесто. Их лиц не видно, они покрыты мукой; руки тоже в муке и напоминают ребенку перчатки.
В печи готовят лепешки. Тесто пузырится, и от удивления ребенок резко вдыхает раскаленный воздух. Теперь он задыхается от боли, его связки обожжены, и вместо крика вырывается хрип, но двое с белыми лицами только смеются и суют мальчику лепешку. Увязая в гальке, он бежит обратно. Где отец? Он мечется между взрослыми. Но те пьют вино и тоже смеются. Там! Кто-то показывает на море. Смотри!
Ребенок подбегает к воде, но, кроме волн, ничего не видно. Он уплыл в Турцию, смеется кто-то. И чьи-то руки тут же подхватывают ребенка. Какая высота! И ребенок тут же забывает про боль и страх. Он видит дом и кипарисы, крышу, куда утром залезали с братом. Не бойся! Брат перекрикивает шум прибоя. Вот он, видишь? Показывает на море. Видишь? Ребенок замечает на горизонте черную горошину. Она смешно перекатывается на волнах, а потом исчезает. Мальчику страшно, он вцепляется брату в волосы – но горошина появляется снова, и ребенок смеется.
Монастырские ступы, между которыми идет дорожка, похожи на шахматные фигуры. Между ними сушится оранжевое белье. Под пальмами стоит навес, на верстаке лежит створка двери из цельной доски, над ней склонился монах, он краснодеревщик, и показывает мальчишкам, как резать орнамент. Узор, которым они заняты, обрамляет фигуру бога. В руке краснодеревщика небольшой молоток и долото размером с шариковую ручку. Несколько легких ударов – и тонкий резец, подправить линию. Опять несколько ударов – и шлифовка. То, что лежит в деревянном коробе, напоминает сушеных насекомых, таких продают в городе на ночных рынках. Это буквы, они вырезаны из того же материала, что и дверь, но еще не обработаны.
– Дукка?
Краснодеревщик быстрым взглядом окидывает новоприбывшего и кивает.
– Ниббана.
Мальчишки улыбаются, кто-то отворачивается, чтобы скрыть смех. Мастер пододвигает ящичек. Тонкие напильники лежат вперемешку с лезвиями, а буква, зажатая между пальцев, напоминает улитку. Краснодеревщик показывает – сначала надфилем, потом бархоткой и снова надфилем. Ниббана!
Перемычки в буквах ломаются, и он сердится на себя, беспомощно разводит руками. Закрывает лицо руками и вот-вот разрыдается. Но монах терпеливо сметает обломки и протягивает новую заготовку. Наконец норма выполнена, это пятнадцать букв. Из них складывают надпись, наклеивая буквы на доски. Теперь можно убрать инструмент в коробку и получить деньги. С купюр смотрит лысый господин в аксельбантах.
Он поднимает глаза на монаха – удивительно, как они похожи, тот же лысый череп и оттопыренные уши. Маленький подбородок с ямкой. А утром следующего дня он снова на месте. Он спокойно работает, а в перерыве вместе со всеми садится за стол. Маленькая женщина в цветастой юбке приносит супницу. Размером с ведро, она стоит на железной ноге и похожа на гриб. Супа можно набрать сколько хочешь, ни очередности, ни размеров порции не существует, и человек молча ест, выскребая ложкой остатки рыбы.
Спустя неделю буквы кончаются, коробка пуста. Последняя дощечка со словами уходит к заказчику. Тогда монахи показывают на белые, в грязных подтеках, бидоны. Поскольку человеку все равно, какую работу выполнять, он соглашается чистить выгребные ямы. Они устроены прямо за монастырем, над речным обрывом на деревянных сваях. Содержимое шлепается в бидоны, на которых он с удивлением читает надпись «Contains sylphates». Опорожняя бидоны в реку, он видит на берегу точно таких же золотарей, как он.
По утрам его будит тихая музыка. Никакого развития у мелодии нет, она заунывна и монотонна. Наверное, так звучит время, если превратить его в звуки. Действительно, ни веселой, ни печальной эту музыку не назовешь, никаких эмоций она не содержит и не вызывает. Иногда она кажется наивной, иногда серьезной – все зависит от слушателя, какими эмоциями он ее наделяет. Например, сквозь сон музыка звучит тревожной, потому что тревожны сны, которые человек видит, но стоит ей завладеть сознанием, как тревога исчезает и сознание наполняется светом. Человек просыпается, надевает майку и шорты. Под мостками сверкает вода, уже полдень. Воздух раскалился, день будет жарким. Он идет в сторону музыки. «Какой сегодня праздник?» – спрашивает он себя. Дырявый тент натянут поперек улицы, а столбы увиты гирляндами. Динамики, играющие музыку, украшены цветами тоже. Под навесом столы, сдвинутые по-деревенски, но на лавках пусто, и человек свободно толкает дверь. В доме ничего особенного: циновки, телевизор, вентилятор; а в дальней комнате слышно негромкое бормотание. Он проходит дальше, теперь между ним и этой комнатой только москитная сетка, и он видит, как лучи падают сквозь щели в ставнях, расчерчивая комнату на полосы. Они покрывают белый кокон на носилках. Это мертвое тело. Оно покоится в позе эмбриона. Монах, который сидит в головах, читает вслух, переворачивая карточки. Когда все карточки прочитаны, он убирает их в ящик и приподнимает ткань. Лицо покойника похоже на сморщенную тыкву. Монах пристально смотрит в лицо старухе, потом наклоняется и выдергивает на макушке покойницы волосы. Подброшенные на воздух, волоски на секунду вспыхивают в солнечных лучах. То, что говорит монах теперь, напоминает наставления, как будто один рассказывает другому дорогу, и тот, второй, молча слушает.
Когда ты понял, что не будешь жить вечно? Помнишь ли об этом? Возможно ли такое забыть? В первую ночь на новой квартире он, девятилетний мальчик, не мог уснуть. Запахи ремонта – клеенки и лака, новой мебели и ковра – отвлекали и будоражили. В незнакомой комнате, на «взрослой» кровати, он смотрел в окно, выходившее в лоджию. Он думал: какая странная балконная стена, высокая и темная. Какое узкое и светлое небо. Разве так бывает, чтобы ночью небо было светлее стены?
В соседней комнате бубнил телевизор, родители о чем-то спорили, потом заскрипел диван, отшумела вода в ванной. Все это были родные, до боли знакомые, неотделимые от его внутреннего мира звуки. А комната оставалась чужой и враждебной. Ни привычного рисунка на обоях, ни пружины от матраса, ни старого абажура под потолком. За стеной шла привычная жизнь, но эта жизнь не была с ним связана. От нее отделяла не каменная стена, а слой непреодолимого вещества, навсегда разъединившего ребенка с теми, кто находился с той стороны. От сознания этого он закрыл глаза, а когда открыл, картина в окне переменилась. То, что он принимал за небо, было потолком лоджии. Однако стоило ему закрыть-открыть глаза снова, и небо со стеной менялись местами.
«Неужели ничего не будет? – кричал внутри кто-то. – Когда я умру – ничего? Ничего-ничего-ничего?» И вместе с этим «ничего» его заполнил страх. Даже не страх, а ужас, выжигающий сознание. С каждым «ничего, ничего, ничего» в самой его сути все глубже открывался зазор, как между этой стеной и небом, и он проваливался в эту трещину.
– Ты звал? – В комнате стоял отец и изучающе разглядывал мальчика. – Почему ты на полу?
Губы у ребенка тряслись, по лицу текли слезы.
– Что-то приснилось? – спросил он. – Я сейчас позову маму.
Отец неловко взъерошил сыну волосы. Мальчику хотелось схватить отца за руку и прижаться к ней. Но вместо этого он замотал головой, зарылся лицом в подушку. Отец постоял немного, пожал плечами – и вышел.
Ничего-ничего-ничего! – все это смешные детские страхи… Как бы ему хотелось этого «ничего». А вместо этого он сидит в чужой комнате, в чужой стране; на чужой кровати или в чужой жизни, которые почему-то оказались его собственными; с видом на полоску неба или на стену с фотообоями, неважно; все слышит, видит; даже разговаривает; а вернуться обратно – нет, не может.
Все места за столом заняты, только на одном стуле висит рубашка с вышитым крестами воротником, а под стулом стоят стоптанные женские туфли. Из воротника рубашки торчит картонка, на бумаге грубыми штрихами обозначен силуэт человека в позе лотоса. С каждым новым блюдом, которое выносят к столу, молодой монах обходит гостей и собирает часть еды на тарелку, после чего, поклонившись, ставит тарелку перед стулом с рубашкой. Потом монах встает из-за стола, и остальные гости поднимаются тоже. Монах и другой, старик, ставят перед стулом с рубашкой железный поднос, а картонку с рисунком осторожно вынимают из воротника и кладут на него. Монах зажигает масло в плошке и подносит к бумаге. В дневном воздухе пламя горящей картонки едва заметно. Пока она горит, монахи читают молитвы, гул слов все громче – потом огонь не гаснет. Теперь они выкладывают на блюдо тряпичный узел. Это кусок глины, и монах втирает в нее пепел от картонки, а потом лепит фигурки и раздает гостям.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































