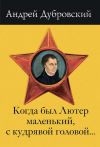Текст книги "Прикосновения. 34 эссе о внутреннем величии"

Автор книги: Грета Ионкис
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
”Мрачная туча нависла над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял”, – так начинается у Пушкина рассказ о нежданном приезде в Горюхино управляющего. Мрачные тучи нависают и над Глуповым, дотла разоренным Угрюм-Бурчеевым, накануне исчезновения сего прохвоста: ”Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч… Оно пришло…” На сходстве этого образа можно было не задерживаться, но значимость, а главное, неразгаданность щедринского финала, в котором появляется эта мрачная туча, беременная загадочным Оно, побудили напомнить об этом схождении. Точно так, как многие советские пушкинисты прочли ”бунт” как знак Крестьянской революции, несущей освобождение, так и исследователи ”Истории одного города” увидели в таинственном ”Оно” гнев народа и будущую революцию (по другой трактовке – наступление реакции).
Планируя показать бунт горюхинцев, Пушкин, судя по всему, имел в виду то, что приключилось в Болдине во время пугачёвщины, когда взбунтовавшиеся крестьяне чуть было не повесили управляющего. Что касается щедринского финала, он должен быть прочитан в контексте пародийной, гротесковой природы книги. Жизнь глуповцев под началом их градоначальников была сплошной фантасмагорией. Явление ”Оно” – еще одно вмешательство фантастических, сверхъестественных сил. Финал оставляет простор для толкований. Он ”открыт”, несмотря на то, что летописец завершает свою запись: ”История прекратила течение свое”, а издатель, подыгрывая летописцу, припечатывает заключительную фразу словом ”Конец”. Но это розыгрыш, мистификация. Само исчезновение Угрюм-Бурчеева (”…бывший прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе”) носит фантастический или сказочный характер. Почти как у Пушкина в ”Сказке о золотом петушке”, где шамаханская царица ”вдруг пропала, будто вовсе не бывало”. Исчезновение Угрюм-Бурчеева, помноженное на апокалиптическое явление ”Оно”, в глазах насмерть запуганных обывателей равносильно концу света, но, как известно, тираны приходят и уходят, а жизнь продолжается. И потому финал книги следует воспринимать как элемент ”игры”. Он органичен, созвучен ее пародийной поэтике. Именно пародийная поэтика, смеховая природа незавершенной ”Истории” Пушкина и книги Салтыкова-Щедрина образуют глубокое родовое сходство, более важное, чем отдельные схождения и переклички.
”История одного города”, по своей жанровой сущности (не по канону) принадлежащая к мениппее (термин Бахтина), – значительное явление в серьезно-смеховой литературе. Создавая ее, Салтыков-Щедрин опирался на традиции смеховой культуры Древней Руси, почти не известные Пушкину. ”Открытие” древнерусской литературы происходило уже после его смерти. Салтыков-Щедрин был современником и знакомцем нескольких этих ”открывателей”, в основном это были фольклористы Ф. Буслаев, Н. Тихомиров, А. Афанасьев, Вл. Даль, А. Пыпин.
Современные исследователи смеховой культуры Древней Руси, Д. С. Лихачёв и А. М. Панченко, увидели своеобразие древнерусской сатиры в том, ”что создаваемый ею ”антимир”, изнаночный мир неожиданно оказывался близко напоминающим реальный мир. В изнаночном мире читатель ”вдруг” узнавал тот мир, в котором он живет сам. Реальный мир производил впечатление сугубо нереального, фантастического – и наоборот: антимир становился слишком реальным миром… В этих условиях смеховая ситуация становилась грустной реальностью. Сатира переставала быть смешной. Сатира в древнерусской литературе – это не прямое высмеивание действительности, а сближение действительности со смеховым изнаночным миром. При этом сближении утрачивалась смеховая сущность изнаночного мира, он становился печальным и даже страшным”. Эти открытия фольклористов дают ключ к пониманию книги Салтыкова-Щедрина, в которой мир Глупова предстает как ”перевернутый”, как антимир.
Мотив безумия, столь характерный для мениппеи и смеховой культуры Средневековья, возникнув в самом начале, развивается и доминирует в дальнейшей истории Глупова. В этом мире, где всё поставлено с ног на голову, возможно самое невероятное: и градоначальники с фаршированными головами или с органчиками вместо головы, и возвращение обывателей к язычеству и поклонение идолам в начале ХIХ столетия, и ”войны за просвещение”, развязанные самим же градоначальником против обывателей, и попытки остановить течение реки, и полное уничтожение города руками самих его граждан, разумеется, по приказу свыше, и бунт на коленях не в переносном, а в прямом смысле слова, и многое другое. По мере знакомства с глуповскими градоначальниками смех уступает место ужасу. Уместно вспомнить замечание Пушкина о том, что иногда ”ужас выражается смехом”. Видимо, здесь имеет место именно такой случай. Смеховой мир, перестав быть смеховым, становится трагическим. Салтыкову-Щедрину близок ”видный миру смех и незримые неведомые ему слезы” Гоголя, на что обращали внимание исследователи его сатиры. Мы же попытались указать на родственность автору ”Истории одного города” – пусть относительную, частичную – и пушкинского смеха.
3. Загадочный и многоликий Э.Т.А. Гофман
Великий совместитель
Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) сыграл в своей недолгой жизни множество ролей: он был прилежным и неподкупным судьей (в 1795 году окончил юридический факультет в своем родом городе Кёнигсберге), был одаренным рисовальщиком (делал карикатуры, декорации), дирижером и композитором – автором первой романтической оперы ”Ундина”. Он известен и как музыкальный критик, раньше других и в полной мере оценивший ”могучий дух Бетховена” и Моцарта, ”вводящего нас в глубины царства духов”. У Гофмана был и певческий дар, и он даже руководил школой пения. Но главным инструментом его творчества было слово.
Стоя у могилы Гофмана на Иерусалимском кладбище в центре Берлина, я подивилась тому, что на скромном памятнике он представлен в первую очередь как советник апелляционного суда, юрист и лишь затем как поэт, музыкант и художник. Впрочем, он ведь и сам признавался: ”По будням я юрист и разве только чуточку музыкант, днем в воскресенье я рисую, а вечерами до поздней ночи я – весьма остроумный сочинитель”. Всю жизнь он – великий совместитель.
Третьим на памятнике стояло его крестильное имя Вильгельм, которое он неспроста заменил на имя обожаемого им Моцарта – Амадей. Он ведь поделил человечество на две неравные части: ”Одна состоит только из хороших людей, но плохих музыкантов или вовсе не музыкантов, другая же – из истинных музыкантов”. Не понимайте это буквально: отсутствие музыкального слуха – не главный грех. ”Хорошие люди”, филистеры, посвящают себя интересам кошелька, что ведет к необратимым извращениям человечности. Филистерами становятся, музыкантами рождаются. Те, к которым принадлежал Гофман, – люди духа, а не брюха: музыканты, поэты, художники. ”Хорошие люди” их чаще всего не понимают, презирают, смеются над ними. Гофман сознает, что его героям некуда бежать, жить среди филистеров – это их крест. И он сам нес его до гробовой доски.
Страницы биографии
Удары судьбы сопровождали Гофмана от рождения до смерти. Он родился в Кёнигсберге, где в ту пору профессорствовал ”узколицый” Кант (по определению Марины Цветаевой). Родители Гофмана быстро разошлись, и с четырех лет вплоть до университета он жил в доме дяди, успешного юриста, но человека чванливого и педантичного. Сирота при живых родителях! При внешней расхлябанности и шутовстве натура его была уязвима до чрезвычайности. Экзальтированная психика определит многое в его творчестве. Природа наделила его острейшим умом и наблюдательностью. Душа ребенка, подростка, тщетно жаждавшая любви и ласки, не ожесточилась, но, израненная, глубоко страдала. Показательно его признание: ”Юность моя подобна иссушенной пустыне, без цветов и тени”.
Университетские занятия юриспруденцией он рассматривал как досадную повинность, ибо по-настоящему любил только музыку. Чиновничья служба в Глогау, Берлине, Познани и особенно в захолустном Плоцке тяготила, но он ею не пренебрегал. В Познани ему улыбнулось счастье: Гофман обвенчался с очаровательной полькой Михалиной, которая стала его верной подругой и опорой до конца, хотя и не разделяла его творческие искания и духовные запросы. Гофман неоднократно влюблялся без взаимности, и муки неразделенной любви запечатлел во многих своих произведениях.
В 28 лет Гофман – правительственный чиновник в занятой пруссаками Варшаве. Здесь раскрылись и композиторские способности, и певческий дар, и талант дирижера. С успехом были поставлены на сцене два его зингшпиля. ”Музы всё еще ведут меня по жизни как святые заступницы и покровительницы; им предаюсь целиком”, – пишет он другу. Вторжение Наполеона в Пруссию, хаос и нескладица военных лет положили конец его недолгому благополучию. Началась скитальческая, материально неустроенная, порой голодная жизнь: Бамберг, Лейпциг, Дрезден… Умерла двухлетняя дочь, тяжко занемогла жена, сам он заболел нервной горячкой. Гофман брался за любую работу: домашний учитель музыки и пения, торговец нотами, капельмейстер, художник-декоратор, директор театра, рецензент ”Всеобщей музыкальной газеты” и т.п. А в глазах обывателей-филистеров этот маленький, невзрачный, нищий и бесправный человечек – попрошайка у дверей бюргерских салонов, шут гороховый. Между тем в Бамберге он проявил себя как человек театра, предвосхитив методы и Станиславского, и Мейерхольда. Здесь он сложился как универсальный художник, став воплощением идеала творческой личности, о котором мечтали романтики.
В Дрездене после написания сказки ”Золотой горшок” определились литературные планы Гофмана, которые реализовались уже в Берлине.
Гофман в Берлине
Осенью 1814 года Гофман с помощью друга получил место в уголовном суде в Берлине. Впервые за многие годы скитаний у него появилась надежда обрести постоянное пристанище. В Берлине он оказался в центре литературной жизни. Здесь завязались знакомства с Людвигом Тиком, Адальбертом фон Шамиссо, Клеменсом Брентано, Фридрихом Фуке де ла Мотт, автором повести ”Ундина”, художником Филиппом Фейтом (сыном Доротеи Мендельсон). Раз в неделю друзья, назвавшие свое сообщество в честь пустынника Серапиона, собирались в кофейне на Унтер-ден-Линден (Serapionsabende). Засиживались допоздна. Гофман читал им свои новейшие произведения, вызывавшие живую реакцию.
Творческие интересы членов сообщества пересекались. Гофман стал писать музыку к повести Фуке, тот согласился стать либреттистом, и в августе 1816-го романтическая опера Гофмана ”Ундина” была поставлена на сцене Королевского Берлинского театра. Состоялось 14 спектаклей, но через год театр сгорел. В огне погибли чудесные декорации, которые по эскизам Гофмана выполнил сам Карл Шинкель, прославленный художник и придворный архитектор, построивший в начале ХIХ века чуть ли не пол-Берлина.
В Берлине занятия музыкой постепенно отошли на второй план. Свое музыкальное призвание Гофман как бы передал любимому герою, его alter ego, Иоганну Крейслеру, который из произведения в произведение олицетворяет высокую музыкальную тему. Гофман был энтузиастом музыки, называл ее ”санскритом природы”, подразумевая под стихией музыки слитность и целостность мировой жизни.
Будучи в высшей степени Homo Ludens (человеком играющим), Гофман по-шекспировски воспринимал весь мир как театр. Его близким другом был знаменитый актер Людвиг Девриент, с которым он встречался в излюбленном кабачке, где они бурно проводили вечера, предаваясь как возлияниям, так и вдохновенным юмористическим импровизациям. Оба были уверены, что у них имеются двойники, и поражали завсегдатаев искусством перевоплощения. Эти посиделки закрепили за Гофманом репутацию эксцентричного пьяницы. Увы, он и в самом деле под конец жизни впал в зависимость от спиртного. В июне 1822 года величайший маг и чародей немецкой литературы скончался в Берлине в муках и безденежье от сухотки спинного мозга.
Литературное наследие Гофмана
Сам Гофман свое призвание видел в музыке, но славу приобрел писательством. Всё началось с ”Фантастических рассказов в манере Калло” (1814–1815), затем последовали ”Ночные рассказы” (1817), четырехтомник новелл ”Серапионовы братья” (1819– 1820), своеобразный романтический ”Декамерон”. Гофман написал ряд больших повестей и два романа – так называемый ”черный”, или готический роман ”Эликсиры сатаны” (1815–1816) о монахе Медарде, в котором находятся два существа, одно из них – злой гений, и незавершенные ”Житейские воззрения кота Мурра” (1820–1822). Помимо этого, Гофман сочинял сказки, самая известная из которых рождественская – ”Щелкунчик и мышиный король”.
”Крошка Цахес, по прозванию Циннобер” (1819) – ”безумная сказка”, ”самая юмористическая из всех написанных мною”, – так говорил о ней автор. Ее сюжет довольно прост. Благодаря трем чудесным золотым волоскам уродец Цахес, сын несчастной крестьянки, оказывается в глазах окружающих мудрее, красивее, достойней всех. Он с молниеносной быстротой становится первым министром, получает руку прекрасной Кандиды, пока волшебник не разоблачает мерзкого уродца.
А речь идет об ослепленном, оглупленном обществе, принимающем ”сосульку, тряпку за важного человека” и творящем из него кумира. Кстати, так было и в ”Ревизоре” Гоголя. Гофман создает великолепную сатиру на ”просвещенную деспотию” князя Пафнутия. ”Это не только чисто романтическая притча об извечной филистерской враждебности поэзии (”Всех фей гнать!”), но и сатирическая квинтэссенция немецкого убожества с его претензиями на великодержавность и неискоренимыми мелкопоместными замашками, с его полицейским просвещением, с раболепием и подавленностью подданных” (А. Карельский).
Двоемирие Гофмана: буйство фантазии и ”суетня жизни”
Каждый истинный художник воплощает свое время и ситуацию человека в этом времени на художественном языке эпохи. Художественный язык гофмановского времени – романтизм. Разрыв между мечтой и действительностью составляет основу романтического миросозерцания. ”Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман” – эти слова Пушкина можно поставить эпиграфом к творчеству немецких романтиков. Но если предшественники, возводя свои воздушные замки, уносились прочь от земного в идеализированное Средневековье или в романтизированную Элладу, то Гофман отважно погружался в современную реальность Германии. При этом он как никто до него смог выразить тревожность, зыбкость, изломанность эпохи и самого человека. По мысли Гофмана, не только общество поделено на части, каждый человек, его сознание разорвано. Личность утрачивает свою определенность, цельность, отсюда мотив двойничества и безумия, столь характерный для Гофмана. Мир неустойчив, и человеческая личность распадается. Борьба между отчаянием и надеждой, между мраком и светом прослеживается почти во всех его произведениях.
При внимательном чтении даже в самых фантастических вещах Гофмана, таких как ”Золотой горшок”, ”Песочный человек”, можно обнаружить весьма глубокие наблюдения за жизненными реалиями. Автор сам признавался: ”Во мне слишком сильно чувство реальности”. Выражая не столько гармонию мира, сколько жизненный диссонанс, Гофман передавал его с помощью романтической иронии и гротеска. В его произведениях полным-полно всяческих духов и призраков, происходят вещи невероятные: кот сочиняет стихи, министр тонет в ночном горшке, у дрезденского архивариуса брат – дракон, а дочери – змейки и прочее и прочее, тем не менее он писал о современности, о последствиях революции, об эпохе наполеоновских смут, которые многое перевернули в сонном укладе трехсот немецких государств-княжеств.
Гофман заметил, что вещи стали властвовать над человеком, жизнь механизируется, автоматы, бездушные куклы берут верх над человеком, индивидуальное тонет в стандартном. Он задумывался над таинственным феноменом претворения всех ценностей в меновую стоимость, прозревал новую силу денег.
Что позволяет ничтожному Цахесу превратиться в могущественного министра Циннобера? Три золотых волоска, которыми наделила его сострадательная фея, имеют чудодейственную силу. Это отнюдь еще не бальзаковское понимание беспощадных законов нового времени. Бальзак был доктором социальных наук, а Гофман – провидец, которому фантастика помогала обнажать прозу жизни и строить гениальные догадки о будущем. Показательно, что сказки, где он давал волю безудержной фантазии, имеют подзаголовки – ”Сказки из новых времен”.
Уходя из жизни, в последнем рассказе ”Угловое окно” Гофман поделился сокровенным: ”Ты, чего доброго, думаешь, что я уже поправляюсь? Отнюдь нет… Но вот это окно – утешение для меня: здесь мне снова явилась жизнь во всей своей пестроте, и я чувствую, как мне близка ее никогда не прекращающаяся суетня”.
Гофман в России
Тень Гофмана благотворно осеняла русскую культуру в ХIХ веке. Это видно на примере творчества Гоголя. Еще Белинский удивлялся, почему Европа не ставит ”гениального” Гофмана наряду с Шекспиром и Гёте. Герцен восхищался им. ”Русским Гофманом” называли Антония Погорельского и князя Одоевского. Страстный поклонник Гофмана, Достоевский писал о ”Коте Мурре”: ”Что за истинно зрелый юмор, какая сила действительности, какая злость, какие типы и портреты и рядом – какая жажда красоты, какой светлый идеал!” Это достойная оценка творчества Гофмана в целом.
В ХХ веке влияние Гофмана испытали Кузмин, Хармс, Ремизов, Набоков, Булгаков. Маяковский не всуе поминал его имя в стихах. Ахматова не случайно выбрала его в провожатые: ”Вечерней порою / Сгущается тьма, / Пусть Гофман со мною / Дойдет до угла”.
В 1921 году в Петрограде при ”Доме искусств” сложилось сообщество литераторов, которые назвали себя в честь Гофмана – Серапионовы братья. В него вошли Зощенко, Вс. Иванов, Каверин, Лунц, Федин, Тихонов. Они тоже собирались еженедельно для чтения и обсуждения своих произведений. Вскоре они навлекли на себя упреки пролетарских писателей в формализме, что ”аукнулось” в 1946 году в Постановлении ЦК ВКП(б) о журналах ”Нева” и ”Ленинград”. Шельмовали и подвергли остракизму Зощенко и Ахматову, но ”под раздачу” попал и Гофман: он был назван ”родоначальником салонного декадентства и мистицизма”. Для наследия Гофмана в советской России невежественное суждение ”партайгеноссе” Жданова имело печальные последствия: его перестали издавать и изучать. Трехтомник его избранных произведений вышел лишь в 1962-м в издательстве ”Художественная литература” стотысячным тиражом и сразу стал раритетом. Гофман долго оставался на подозрении, и только в 2000 году вышло 6-томное собрание его сочинений.
Прекрасным памятником этому гению и чудаку мог бы стать фильм Андрея Тарковского, который он намеревался снять. Не успел. Остался лишь его дивный сценарий – ”Гофманиада”.
В июне 2016-го в Калининграде стартовал Международный литературный фестиваль-конкурс ”Русский Гофман”, в котором участвуют представители 13 стран. В его рамках состоялась выставка в Москве в Библиотеке иностранной литературы ”Встречи с Гофманом. Русский круг”. В 2018 года в прокате появился полнометражный мультфильм ”Гофманиада”, и таким образом произошла встреча с ожившим Homo ludens – Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом.
4. Игры Оскара Уайльда и Романа Виктюка на сломе веков
Вызывающе-прекрасный спектакль Виктюка ”Саломея” настолько сильно задел струны души (каюсь, штамп, да еще и банальный!), что пришлось воспользоваться единственным и самым доступным способом унять дрожь – излить свое впечатление на бумаге. Давняя неутоленная страсть к Уайльду, прерафаэлитам, модерну, ”мирискусникам” прорвалась-таки наружу. Так что прими, читатель, души невинной – ой ли? – излиянья…
Fin de siecle. Этот французский термин прочно связан в нашем сознании не только с концом ХIХ века, но и с такими явлениями, как декаданс, символизм, импрессионизм, стиль модерн (французы называют его Арт Нуво, немцы – Югендштиль). Минуло сто лет, и Fin de siecle (конец века) наступил для нас. Уайльд был по-своему прав, утверждая, что Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.
Есть нечто общее в пограничных, порубежных эпохах. Искусство на сломе веков становится утонченнее, изысканней. В густом пряном аромате позднего цветения нет-нет да и потянет прелью увядания, а то вдруг пахнет свежестью новизны. Промежуточность…
Эстетизм Оскара Уайльда – феномен конца ХIХ века. Он вписан в контекст 1880–1890-х годов, в его камерный круг, где еще задавали тон прерафаэлиты (английские поэты и художники, ориентировавшиеся в своем творчестве на дорафаэлевское искусство раннего Возрождения: прерафаэлиты Россетти, Ли Хант, Берн-Джонс, теоретики искусства Пейтер, Рёскин, Моррис; последний, впрочем, был и практиком-дизайнером, как мы бы сейчас сказали). Рядом с Уайльдом блистал американский художникимпрессионист Уистлер, творивший на холстах свои колдовские миры-симфонии. Тогда же бурно расцвел талант графика Обри Бердслея. Но если английский круг расширить до европейского, то в нем окажутся французские поэты Бодлер, Верлен и Малларме, художники-импрессионисты и постимпрессионисты, Роден и Дебюсси, Ницше и Рильке, Роденбах и Метерлинк, Бёклин и Климт, русские поэты-символисты и художественная группа ”Мир Искусства”… Всё это искусство известно под названием fin de siecle, и всё это вызывало особое восхищение и любовь Уайльда: ”Это цвет и краса нашей цивилизации, единственное, что ограждает мир от пошлости, грубости, дикости”.
В Париже на кладбище Пер-Лашез Уайльд покоится неподалеку от Бальзака, которого он обожал, в ком видел отнюдь не основоположника критического реализма, а собрата-художника, который ”творил, а не копировал жизнь”. ”Весь ХIХ век придуман Бальзаком!” – таково было его убеждение. Разглядывая надгробие работы Джейкоба Эпштейна: огромное крылатое существо из желтоватого камня, распростершееся на могильной плите, но готовое взлететь, – я почувствовала в его стилизованных очертаниях что-то неуловимо знакомое. Это определенно был Сфинкс, и его присутствие здесь не случайно. ”Сфинкс” – поэтическая вершина молодого Уайльда, в нем воплощено трагическое противоречие любви, две ее ипостаси: чувственная и духовная. У древних греков чудовище Сфинкс загадывает трудноразрешимые загадки людям. А разве Уайльд не занимался тем же? В египетской мифологии Сфинкс – хранитель пирамид, он стар, как они, как сама вечность. Говорят же: время боится пирамид. Уайльд, творец и жрец Красоты, тоже принадлежит вечности. Символично, что его последний покой охраняет Сфинкс.
Уайльд был великим мифотворцем. Чуждый космичности Вагнера и Ницше, которые творили один – национальный, другой – всечеловеческий миф, Уайльд создавал миф, прежде всего, из своей собственной жизни. Он обожествлял себя как Творца Красоты, отнюдь не из гипертрофированного эгоизма. ”Я был символом искусства и культуры своего века, – пишет он не без гордости в „De Profundis“. – … Всё, к чему бы я ни прикасался, – будь то драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, остроумный или фантастический диалог, – всё озарялось неведомой дотоле красотой… Я относился к Искусству как к высшей реальности, а к жизни – как к разновидности вымысла; я пробудил воображение моего века так, что он и меня окружил мифами и легендами”.
Мифотворчество многих современных писателей погранично философии. Ницше открывает этот ряд, его книги – яркий пример сращения поэзии и философии. У Оскара Уайльда мифотворчество оборачивается игрой: срабатывает инстинкт театральности, он всегда был одержим идеями ”театрализации жизни”. Играя, он делает искусство философией, а философию – искусством.
Уайльду в высшей степени было присуще карнавальное мироощущение. Если говорить о его чисто внешних, театральнозрелищных проявлениях, то легко заметить, что маскарад, пришедший из придворной жизни ХVIII века, ему ближе площадного народного карнавала, с его грубым шутовством, разнузданным весельем, ряжеными и апелляцией к телесному низу. Стало уже почти дурным тоном ссылаться на Бахтина, но в случае Уайльда невозможно пренебречь его характеристикой карнавального мироощущения. Ученый понимает его как особую форму ви́дения мира и человека, а главное – как поистине божественную свободу в подходе к ним. Это мироощущение освобождает от страха и от хмурой официальной серьезности. Уайльд был в высшей степени свободным человеком, склонным к фантазиям.
Всё в Уайльде начиная с его внешности и одежды и кончая неиссякающим остроумием, словесной Ниагарой, рассыпающей мириады сверкающих брызг – шуток, острот, каламбуров, волновало воображение современников по обе стороны океана. ”Принц Парадокс” (одно из его прозвищ) провел сенсационное турне и по Америке в 1882 году с целью привить ее гражданам интерес к эстетизму, предприятие совершенно безнадежное и фантастическое, если смотреть на янки глазами Марка Твена, но Уайльда страшно воодушевившее.
Природный артистизм, страсть к позе, подчеркнутый аристократизм, унаследованный от матери и воспитанный с детства, позволили Уайльду блестяще играть роль апостола Красоты. Экстравагантный костюм, который помог ему завоевать Лондон: короткая бархатная куртка, короткие – до колен – атласные штаны, жилет в цветочек, лакированные туфли с серебряными пряжками, берет на длинных каштановых кудрях, лилия или подсолнух в руке, – призван был эпатировать чопорную викторианскую публику и одновременно сеять интерес к его религии – эстетизму. Однако вскоре на смену этому маскарадному одеянию пришли безупречные сюртуки и фраки, живописные плащи с атласными подкладками, ослепительной белизны сорочки с жабо, элегантный цилиндр, трости (правда, в тростемании ему не удалось превзойти его любимца Бальзака). Он стал настоящим dandy.
Дендизм Уайльда не сводим к внешнему лоску. Обожаемый Уайльдом Шарль Бодлер в большой статье ”Поэт современной жизни” (1863) посвятил дендизму как образу жизни несколько глубоких страниц, пройтись по которым я вас приглашаю: ”Неразумно сводить дендизм к преувеличенному пристрастию к нарядам и внешней элегантности. Для истинного денди все эти материальные атрибуты – лишь символ аристократического превосходства его духа. […] Прежде всего, это непреодолимое тяготение к оригинальности, доводящее человека до крайнего предела принятых условностей. Это нечто вроде культа собственной личности. Это горделивое удовольствие удивлять, никогда не выказывая удивления. […] Как бы ни назывались эти люди – щеголями, франтами, светскими львами или денди, – все они сходны по своей сути. Все причастны к протесту и бунту, все воплощают в себе наилучшую сторону человеческой гордости – очень редкую в наши дни потребность сражаться с пошлостью и искоренять ее. В этом источник высокомерия денди, вызывающего даже в своей холодности”. Бодлер нарисовал обобщенный портрет, тип, но как всё поразительно совпало, будто он писал его с Уайльда, этого Короля Жизни! Он словно всё наперед расчислил в поведении Уайльда, в его судьбе. Он почти предсказал его трагедию: ”Дендизм – последний взлет героики на фоне всеобщего упадка”. Обреченность элитарного мира Уайльда определена переходностью периода, его промежуточностью, за которым грядет прилив всё уравнивающей демократии.
ХХ век прошел под знаком мифотворчества самого разного толка: не только художественного, но и религиозного, и политического. Такие несходные книги, написанные на разных материках, на разных языках, как ”Иосиф и его братья” Т. Манна и ”Сто лет одиночества” Маркеса – романы-мифы. Главная книга Уайльда ”Портрет Дориана Грея” (1891) тоже может быть прочитана как миф. При всем пристрастии Уайльда к художественной детали, это роман символов, а не конкретных реалий. Автор, как и миф, предлагает некий архетип, если угодно, архетип греховности красоты или красоты имморализма. Звучит парадоксально, но не забудем, что сам Уайльд мыслил парадоксами, точнее, парадоксы были крыльями его мысли.
Приверженность к парадоксам в случае Уайльда есть одно из проявлений дендизма, но парадоксальным беллетристом называли другого ирландца, Бернарда Шоу, в дендизме не уличенного. Максим Горький, говоря о стремлении Уайльда и Шоу в их пьесах ”вывернуть наизнанку общие места”, резонно заметил, что ”парадокс в области морали очень законное оружие в борьбе против пуританизма”. Уайльд не первым взялся раскачивать отечественный пуританизм, не первым восстал на торгашеский дух старой доброй Англии. Он принял эстафету от романтиков, из другого порубежья. Это они на заре ХIХ века противопоставили унылой прозаической реальности Идеал, Мечту. Это они в поисках идеала обратились к античности. Это они заразили Уайльда любовью к ”божественной эллинской речи”.
Романтики пробудили интерес к античной мифологии, причем чем дальше, тем предпочтительнее из двух начал – аполлонического и дионисийского – становится второе, темное, оргийно-экстатическое (его апологией явилась книга Ницше „Рождение трагедии из духа музыки“, на которой воспитаны многие поэты, в том числе и Блок, и Белый).
Аполлон представляет светлое, гармоническое начало. Его любимый музыкальный инструмент – лира. Когда сатир Марсий, один из спутников Диониса, виртуозно игравший на флейте, вызвал солнечного бога на состязание, Аполлон жестоко покарал его за дерзость, содрав с живого кожу. Аполлон стоял на страже гармонии. Олимпийцу Аполлону казалось, что флейта привносит диссонанс, ее резкие звуки портят мелос.
На рубеже ХIХ—ХХ веков возобладала дисгармония. Еще немного – и русские поэты-символисты Блок и Белый услышат гулы стихий: снежных вихрей, метелей, ветра, – дикие, несочлененные, грозные звуки. В них станут прозревать музыку революции. Еще один великий ирландец, поэт У.Б.Йетс, в стихотворении ”Пасха 1916” сформулирует самую суть происходящих перемен: „Уже родилась на свет Угрожающая Красота“. Всё это не за горами. Но в искусстве fin de siecle всё чаще слышался плач Марсия, Уайльд явственно различал его: ”У Бодлера он полон горечи, у Ламартина – нежной жалобы, у Верлена – мистики. Он звучит в медленных блужданиях музыки Шопена. Он – в тревоге на всегда повторяющихся лицах женщин Берн-Джонса”. Плач Фригийского Фавна звучит поначалу и на страницах Уайльда. Но в ”Саломее” он делает резкий поворот, он осуществляет прорыв из области Печальной Красоты в область Красоты Грозной. Впрочем, постараемся – по порядку.
Тяготение к прадионисийству обернулось на рубеже ХIХ—ХХ веков повышенным интересом к тайнам и экзотике Древнего Египта, Африки, Индии, Китая, Японии, Иудеи, скифства. Уайльд не первым обратился к библейскому новозаветному мифу об убийстве Иоанна Крестителя царем Иродом-Антипой и женой его Иродиадой. Пионером был Стефан Малларме, к которому Уайльд в письмах обращался не иначе как ”дорогой мэтр”. В 1869 году он создает драматическую поэму ”Иродиада”. Спустя 8 лет одноименную новеллу публикует Флобер. По их мотивам Масснэ напишет оперу ”Иродиада” (1881), музыку которой использует прославленный французский балетмейстер Бежар в своем балете ”Как красива царевна Саломея сегодня вечером” (1975). От века к веку прядутся Мастерами связующие нити…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?