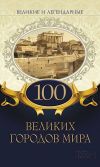Текст книги "Утраченный воздух"
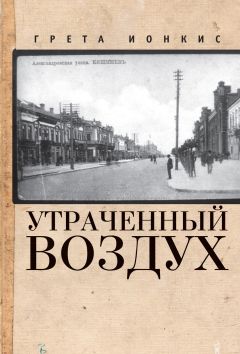
Автор книги: Грета Ионкис
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Работа в образцовой сушильне и на фабрике консервов шла полным ходом. Но более всего его поразили подростки-евреи, трудами которых велась обработка земли, уход за растениями и производство консервов. «Здесь не было видно испуганных, худых лиц, тощих, болезненных форм и робких, неуверенных движений. Краснощёкие, смуглые юноши с блестящими глазами, широкими плечами и мускулистыми руками, которых я увидел в „ЕКО“, напомнили мне еврейское сказание о сильных людях полей, которых Библия противопоставляет кротким людям, живущим в шатрах». Так, сам того не ведая, но следуя очевидному, правде жизни, Урусов разрушал вековые предрассудки и антиеврейские мифы.
И в завершение хотелось бы отметить, что, посетив старообрядческую церковь в Измаиле, обедню в православной церкви в Хотине, губернатор там же, в Хотине, побывал на царском молебне в еврейской хоральной синагоге. В синагоге он никогда не бывал и с готовностью согласился на просьбу местных евреев посетить их богослужение. После молитвы кантор и хор запели «Боже, царя храни». «В эту минуту мне впервые пришлось неожиданно и быстро практически разрешить трудный вопрос этикета: в синагоге нельзя снимать головной убор, а народный гимн надо слушать с непокрытой головой. Я вышел из затруднения, приложив руку к козырьку форменной фуражки, как бы отдавая кому-то честь, и в таком положении прослушал гимн».
Посещение синагоги запомнилось Урусову ещё и тем, что среди хористов он различил удивительно чистый, сильный и верный альт. Раввин сказал, что он принадлежит тринадцатилетнему сыну бедного портного. Урусов даже поднялся и отошёл в угол, чтобы лучше видеть подростка. «Без преувеличения скажу, что такого альта я в жизни ни разу не слышал; он наполнял всю залу, пел необыкновенно уверенно, с удивительным драматическим подъёмом, исполняя какое-то мне незнакомое произведение Мендельсона». Его порывом было чем-то одарить мальчика, и в конце концов, с разрешения раввина, князь вручил ему золотой, ибо раввин, проявив изворотливость ума, объяснил, что монета в данном случае не деньги, а просто золотая вещь, которую певец может принять в подарок. Дальнейшая судьба этого еврейского Робертино Лоретти осталась неизвестной. И эта история с посещением синагоги, как и вышеприведенный эпизод, говорит о многом и добавляет немало уважения к автору этой и впрямь удивительной книги.
Будучи депутатом Первой Государственной Думы, князь Урусов принял участие в обсуждении вопроса об ответственности правительственных органов в погромах 1905 года (они произошли во всех губерниях Белоруссии, Одессе, Кишинёве, Ростове-на-Дону, Екатеринославе, Симферополе). Бывший губернатор Бессарабии сделал вывод, что опасность погромов не исчезнет, «пока на дела управления и судьбы страны будут влиять люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждениям – погромщики». Вот к какому заключению пришёл потомственный русский дворянин, надышавшись «особенным еврейско-русским воздухом».
А что касается евреев, то они ответили на погромы массовым исходом. До Первой мировой войны эмигрировал каждый четвёртый российский еврей.
Глава 9. Кишинёв Довида Кнута: реальный и в контексте вечности
Бывают в жизни странные схождения… Надо же было такому случиться, что Мирон (Меир) Фиксман, отец будущего известного поэта русского зарубежья Довида Кнута (он принял как псевдоним девичью фамилию матери), прибыл в Кишинёв со своим семейством почти одновременно с новым губернатором и поселился именно на Азиатской улице, в этом эпицентре погрома! Выбор места проживания говорит о том, что материальное положение семьи оставляло желать лучшего. Лавочка, которую открыл отец семейства, была убогой. Во всяком случае, его сын и через двадцать лет вспоминает:
И дым, и вонь отцовской бакалейки —
Айва, халва, чеснок и папушой, —
Где я стерёг от пальцев молдаван
Заплесневелые рогали и тарань.
Весьма скудные сведения о детстве и юности поэта в Кишинёве можно почерпнуть исключительно из его прозы и стихов. Он родился вместе с ХХ веком в бессарабском городке Оргеев (Орхей), ему было три года, когда семья перебралась в Кишинёв, и двадцать лет, когда она, по инициативе юноши, его покинула.
В 30-е годы в парижских периодических изданиях печатались рассказы Кнута о кишинёвской жизни, своего рода физиологические очерки, картины еврейских нравов провинциального города. Их герой – образ автобиографический, а потому доверимся тексту:
«Вот, к примеру, Мончик Крутоголов. Сколько этот мальчик получил отцовских пинков, щипков и самых разнообразных пощёчин – дай Бог моим друзьям столько дней здоровья, хорошего заработка и веселья. И всё за то же: за свою несчастную любовь к чтению. <…> Он читал утром за чаем, читал под партой на уроках, читал за обедом, читал в отцовской лавке, продавая отвратительную вонючую селёдку и керосин, читал на улице, по дороге на городской базар». Заметим, читал мальчик без разбора, никто не руководил его чтением, и это были книги на русском языке.
Другой его болезнью стали стихи. «Учителями Мончика были популярные поэты реалистической ориентации, вышедшие из моды в столицах, но всё ещё властители провинциальных дум – Некрасов, Апухтин, Фруг, Надсон. Стихи Дмитрия Цензора: „Я знаю, Бог меня отметил / Лучом багряным в час зари, / И я иду, красив и светел, / Путём, которым шли цари“, – Мончик знал наизусть. В них он узнал себя, они казались Мончику фактом из его, Мончиковой, биографии, написанными специально для него и о нём, хотя он не был ни красив, ни светел».
Княгиня Зинаида Шаховская, хорошо знавшая Кнута в парижский период его жизни, вспоминает, что он был «маленький, худенький, смуглокожий». «Смуглый отрок бродил по аллеям…» Знай он в юности эти стихи Ахматовой о Пушкине, мог бы примерить к себе. Он ведь отроком тоже бродил, пусть не по царскосельским, а по аллеям кишинёвского парка, который назывался Александровским, а во времена Кнута – Пушкинским. Смуглый отрок… И ранние стихи в городском журнальчике Молодая мысль юноша подписывал псевдонимом Давид Смуглый. Псевдоним Кнут появится позже, в Париже.
Углубившись в аллеи парка, подросток непременно встречался с бронзовым автором «Евгения Онегина», замысел которого рождался, возможно, тоже на этих дорожках. Он подходил к памятнику поэту, склонял голову с благоговением, читал и перечитывал строки на постаменте: «Здесь, лирой северной пустыню оглашая, скитался я…» Скиталец, странник, изгнанник… Это делало кумира, почти родного – через смуглость! – ещё более близким. Кнуту ещё неведома собственная скитальческая судьба, хотя изгойство своё он уже ощущает, но одно прибежище у него определённо есть – русский язык, русская поэзия. Это может показаться странным: ведь в семье говорят на идиш, казалось бы, это его родной язык, но книги читает запоем и стихи начинает писать в четырнадцать лет на русском языке. Что поделаешь: еврейско-русский воздух!
Судя по кишинёвским рассказам, Кнут учился в казённом еврейском училище и кончил четвёртый, последний класс уездного училища. «В казённом еврейском училище мальчиков усиленно русифицировали. Преподавательский штат состоял из воспитанников виленского учительского института, специально подготовленных к делу русификации еврейского населения.
В училище дети и впрямь ощущали себя полноправными российскими гражданами и даже как будто русскими. Но за стенами еврейского училища начиналась улица. А на улице начиналась дерусификация. Удивлённые мальчики просыпались от сна, от гипнотических часов, проведённых с преподавателями из виленского института, и с недоумённым любопытством и горечью открывали, что они не такие люди, как все: и не русские, и даже не евреи, а жиды. За стенами училища вокруг них нередко начиналось жужжание: «жиды – жидов – жидам – жидами – о жидах…». Это слово было для Кнута – как удар хлыста. Сколько он их получил?!
На исходе ХХ века на русском языке были опубликованы беллетризованные воспоминания Татьяны-Мириам Доган, дочери Ариадны Скрябиной от первого брака, – «Благотворная жажда». В них она, ссылаясь на рассказ матери, которая стала женой Кнута в конце 30-х годов, сообщает о том, что отчим якобы вспоминал, как по субботам его мать зажигала свечи, читала молитву, а потом отец и тринадцать детей усаживались за длинный стол, накрытый парадной скатертью. Когда приключился погром в 1905 году, мальчику было пять лет, но он запомнил гогот пьяных мужиков, их матерную ругань, вспышки пламени, вопли евреев. Когда рассвело и погромщики ушли, родители, прятавшиеся у соседей, увидели во дворе трупы своих восьмерых детей. Братьев и сестёр Давида якобы забили камнями. Полностью доверять этому рассказу трудно, поскольку он противоречит зафиксированным фактам: в погроме 1905 года в Кишинёве погибло 19 человек, если бы половину из них составили дети семьи Фиксман, это зверство получило бы широкую огласку. Невозможно поверить этому, и зная ментальность еврейской матери, которая не станет прятаться, оставив без защиты своих восьмерых детей. Но бесспорно другое: память о недавних погромах в семье была жива. Само слово погром передавало слишком трагическую реальность, и Кнут не употреблял его всуе. Но в стихотворении «Из моего окна гляжу глубоко вниз» (из сборника «Вторая книга стихов», 1928) он создал панорамно-обобщённую картину погрома. Хоть в ней и угадываются приметы кишинёвских бесчинств, это скорее образ «погрома как метафизического состояния, как архетипа еврейской жизни» (Ф.П.Фёдоров):
Я видел много бед и всяческого зла,
Тщету людской судьбы, затейливой и нищей,
Я знал живых людей, обугленных дотла,
И слышал голоса лежащих на кладбище.
Я видел, как весной здоровый человек,
Среди весеннего земного изобилья,
Стоял и каменел, не поднимая век,
И каменно рыдал от страха и бессилья.
Я слышал вой в ночи – нечеловечий зык,
Отчаянье живых пред гибелью бесцельной.
Таких не знает слов ни мой, ни ваш язык,
Чтоб рассказать об этой скорби беспредельной.
К теме погрома поэт больше не обращался.
В пору отрочества и юности Кнута Кишинёв продолжал преображаться. Прямые улицы верхнего города с красивыми зданиями были обсажены тополями и белой акацией. Широкие тротуары содержались в порядке, середина улиц замощена была каменными плитками. Дом-дворец дворянского пансиона и приют княгини Вяземской стали гимназиями, наполнились детскими голосами, зажили своей особой жизнью. Земский музей пополнялся новыми экспонатами.
При Кнуте рядом с Митрополией был возведён трёхэтажный епархиальный дом в византийско-русском стиле, выходивший фасадом на Александровскую улицу (архитектор – Георгий Купча). Освящённый в 1911 году, дом получил название Серафимовского по имени владыки Серафима, который вникал во все детали его строительства. Владыка – в прошлом блестящий офицер, награждённый многими орденами, Леонид Михайлович Чичагов – внук адмирала Чичагова, того самого, который почти столетием ранее принимал Бессарабию в состав царской России по Бухарестскому договору. Выйдя в отставку в 38 лет, полковник Чичагов избрал путь священства. Именно отец Леонид добился канонизации святого угодника Серафима Саровского, а после смерти горячо любимой жены постригся в иеромонахи Троице-Сергиевской Лавры и сам получил имя Серафим. Епископом Кишинёвским и Хотинским преосвященный стал в 1908 году. В советское время он разделил мученическую судьбу многих высших иерархов: на исходе 1937 года старец восьмидесяти двух лет, доставленный в тюрьму НКВД на носилках, был расстрелян на полигоне в Бутово.
Серафимовский дом ненадолго пережил архипастыря, но во времена отрочества Кнута его только возводили, освящали, он принял первых посетителей. Первый этаж дома сдавался в аренду, и там были лучшие магазины, в том числе и книжный, куда юный Кнут заходил частенько, а на втором этаже располагались библиотека, читальный зал, музей-древлехранилище, где оказалось много бесценных раритетов. Жемчужиной здания стал концертный зал на 800 слушателей, занимавший в высоту второй и третий этажи. В нём выступали Рахманинов, чей род восходил к местному боярству, и Шаляпин. А до этого в городе уже открылись два театральных зала – в Благородном собрании и в Пушкинской аудитории, что давало возможность иметь не только свою постоянную драматическую труппу, но и позволяло горожанам посещать гастрольные спектакли таганрогского и одесского театров, театра Комиссаржевской и бывать на выступлениях известных столичных актёров. Изредка и молодой Кнут мог себе это позволить.
Конку на Александровском проспекте в 1913 году сменил электрический трамвай, появились новые трамвайные линии: от Армянского кладбища вниз через Николаевскую, почти до Бычка, другая линия соединила вокзал, через Николаевскую, с Еврейской больницей, где неподалеку выстроили большое трамвайное депо. По улицам, за исключением Александровской, была проложена всего одна колея, но было при этом на маршрутах несколько разъездов, где встречные трамваи могли разойтись на недолгий отстой в ожидании, когда освободится линия. Трамвайное депо по-прежнему принадлежало Бельгийской кампании, сами вагоны изготавливались в Германии. Они были не обтекаемые по форме, как ныне, а прямоугольные, дверей в них не было, скамейки – деревянные, но кроме водителя была кондукторша, которая продавала билеты, рулончиком висевшие на груди, и командовала отправкой вагона. Для этого она дёргала за кожаный ремень, прикреплённый к проволоке, тянувшейся под крышей вагона, при этом раздавался мелодичный звонок – сигнал для водителя: «Трогай!» В свою очередь, в кабине рядом с водителем в полу было устройство, нажав на которое, он издавал резкие звуки – требование освободить рельсовую колею (бывало, какой-то неповоротливый балагула не успевал убрать заднюю часть телеги с рельсов).
На памяти юного Кнута произошло открытие больницы Красного Креста Гербовецкой общины на углу Синадиновской и Фонтанного переулка. Архитектором этого сооружения молва называет то уже знакомого нам Чекеруль-Куша, то П.Асвадурова. Поскольку моё послевоенное отрочество прошло в Одессе на улице Троицкой, напротив внушительного Дома Асвадурова с рыцарями на фронтоне (в ту пору в нём размещалось Управление Одесско-Кишинёвской железной дороги), я склоняюсь к его авторству. В обустройстве больницы принял деятельное участие Тома Чорба. В ней было электричество, имелся рентгеновский аппарат, кислородные баллоны. Помимо стационара вёлся приём больных (ежедневно до 200 человек, не только состоятельных, но и бедняков). При больнице существовала аптека, где изготавливали всякие снадобья, в основном настойки и мази из трав.
При румынах в здании разместился военный госпиталь, а при советской власти это была больница Лечсанупра. В независимой Молдове двухэтажная пристройка, где находились лаборатория и аптека, была разрушена, а главное здание долгие годы пылилось в ожидании покупателя.
Запомнившимся Кнуту событием было открытие памятника императору Александру I рядом с Серафимовским домом. На торжестве присутствовала вся царская семья. Происходило это накануне Первой мировой войны. Подросток Кнут присутствовал на Соборной площади.
Эмалевый крестик а петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны…
Он не сводил с них глаз. Стихотворение Георгия Иванова, процитированное здесь, будет написано много позже, Кнут его вряд ли прочтёт, а открытку, на которой царская семья была запечатлена именно такой, он видел в книжном магазине Кишинёва в том самом Серафимовском доме.
Сам памятник был очень красив: постамент и ступени из розового гранита, бронзовую фигуру императора изваял итальянский скульптор, а у его ног размещался бронзовый горельеф – фигуры двух женщин: Россия принимала в объятья исстрадавшуюся Бессарабию. Величественные и вместе с тем динамичные женские фигуры понравились будущему поэту даже больше императорской.
После Октября 1917-го власть Советов не успела разгуляться в Кишинёве, и население не вкусило всех её прелестей. В 1918 году Бессарабию приняла под свою длань Румыния, и евреи поначалу автоматически получили румынское гражданство. Однако Кнут тотчас почувствовал, что жизнь стала значительно провинциальней, чем в прежние годы: сказалась, видимо, ничтожность государственного опыта румын. «Бесспорно, мешала румынам извечная и бессильная жадность полунищего, неуважаемого королевства»[9]9
Семён Липкин. Квадрига. М., 1997. С.154.
[Закрыть]. Однако власть свою румыны проявили: памятники русским императорам в центре города были демонтированы и исчезли. В присутственных местах и школах появились объявления на латинице: Vorbiti numai romaneste! («Говорите только по-румынски!») Известный поэт и прозаик Семён Липкин, одессит по рождению, вспоминает, что он и его сверстники с детства привыкли смотреть на Румынию «как на пригород, на предместье». Русская языковая ориентация Кнута побудила его в 1920 году покинуть Кишинёв. «В одно прекрасное утро я проснулся румыном и решил сменить своё новое и малопривлекавшее меня отечество на Париж». В эту пору ещё помнили выражение великого князя Николая Николаевича: «Румын – не национальность, а специальность, профессия смычка и отмычки». Сейчас его приписывают Бисмарку. Вот Кнут и не захотел быть румыном.
В Париже существовала большая колония выходцев из России – «королевство в королевстве», по выражению Кнута. Русская эмиграция не была однородной. Белоэмигрантская масса с нескрываемой неприязнью относилась к интеллигенции, которая «сделала революцию» и несёт поэтому ответственность за все ужасы и разрушения. Беззаветная любовь к России как к священному бытию звала на подвиг, рождала рыцарскую готовность жертвовать собой: «Смело мы в бой пойдём / За Русь святую / И как один прольём / Кровь молодую». Но у многих правых эмигрантов ненависть к интеллигенции соединялась с ненавистью к евреям, помогавшим делать революцию. И к жертвенному героическому вдохновению примешивалась мерзость погромной идеологии: «Смело мы в бой пойдём / За Русь святую / И всех жидов побьём, / Сволочь такую». В таком окружении Кнут не мог себя чувствовать своим.
Но кишинёвский провинциал довольно легко вошёл в мир парижской литературной эмиграции, быстро сошёлся с писателями и художниками-авангардистами, вступил в Союз молодых поэтов и писателей, который возглавлял Юрий Терапиано. Это было новое поколение, оказавшееся в эмиграции в юношеском, а то и в детском возрасте. Владимир Варшавский назовёт его «незамеченным поколением». Но в Париже находились и пользовались авторитетом «отцы». А потому Кнут одновременно посещал и квартиру Ходасевича, а также литературнофилософский салон «Зелёная лампа» и «воскресенья» Гиппиус и Мережковского, где его приняли благожелательно. В сознание современников Кнут вошёл книгой «Моих тысячелетий» (1925), странное название которой вызвало немало недоумений, а содержание – высокую оценку. Голос Кнута был услышан русским Парижем, первой русской эмиграцией.
Сознательно выбранные русские культурные ориентиры, с одной стороны, и импульсы, идущие от еврейского мира, еврейская мифология, еврейский быт семьи – с другой, образовали сложный симбиоз, он-то и определил характер мироощущения и творчества Кнута. Его приятельница Рут Ришин, с которой Кнут долгие годы был в дружбе и переписке, свидетельствует, что он в зрелые годы именовал себя «евреем, помноженным на русского», и ещё более ярко и вызывающе – «жидороссом».
Одно из самых знаменитых стихотворений, которым открывался его первый поэтический сборник, «Я, Довид-Ари бен Меир…», – своего рода автопортрет. В нём кнутовское еврейское самосознание проявилось с наибольшей полнотой и силой. В стихотворении явлены два мира – бессарабский и ветхозаветный. Эти столь далёкие друг от друга миры соединены лирическим героем, имя которого – Довид-Ари бен Меир. Попытаемся прикоснуться к этому миру. Вот первая строфа:
Рождённый у подножья Иваноса,
В краю обильном скудной мамалыги,
Овечьих брынз и острых качкавалов,
В краю лесов, бугаев крепкоудых,
Весёлых вин и женщин бронзогрудых,
Где, средь степей и рыжей кукурузы,
Ещё кочуют дымные костры
И таборы цыган…
Таков образ родного для Кнута, но при этом не вполне своего края – Бессарабии, яркий, сочный, зримый, пахучий, по-раблезиански или, если угодно, по-бабелевски плотский, телесный и очень чувственный. «Бронзогрудые женщины» вкупе с «весёлыми винами» и «бугаями крепкоудыми» рождают мотив буйной, яростной, поистине первозданной страсти. И вот этот вызывающе земной образ малой родины поэт связал с образом мифологизированной прародины, с трёхтысячелетней историей своих предков, с историей, всё ещё полнящейся грохотом Синая, «когда разверзлось с громом небо» и глянул на свой народ «тяжёлый глаз Владыки Адоная». Автобиографические реалии поэт вплел в исторические, ветхозаветные и более близкие по времени – пушкинские (дымные костры и таборы цыгын!) и тем придал грандиозность обыденному.
Двадцатипятилетний Довид Кнут, что называется, на подножном корму сотворил свой миф о Бессарабии. Ни один из молдавских поэтов не возвысил свой край, как этот «чужак» – «жидан», жид в глазах многих его поныне «тёмных» земляков. (Дремучесть аборигенов отметил ещё Пушкин: «О Кишинёв, о тёмный град!») Кнут выстроил во времени и пространстве мост, который соединил Бессарабию с пустыней Ханаана, молдавские кодры – с ливанскими кедрами, позволил утробному мычанию «бугаев крепкоудых» влиться в «гортанный стон арабских караванов». Он вывел Бессарабию за пределы её исторического времени и приобщил к вечности.
Мощный белый стих с библейскими интонациями о своей малой и исторической родинах этот талантливый, но сегодня малоизвестный, по крайней мере в Молдове, поэт сложил на русском языке. С детских лет его кумиром был Пушкин, но он многим обязан Тютчеву, Фету, Блоку, Бунину, Белому, Ходасевичу, Г.Иванову, Цветаевой, Есенину и даже Маяковскому, и он не стыдился признать себя учеником в чуждом семействе: «Я… пришёл в ваш стан учиться вашим песням». Его русский язык – это язык, родившийся на окраине империи, южный, кишинёвско-одесский, в основе его певучести, образности и метафоричности – идиш. Голос Кнута подобен иногда неогранённому алмазу, он косноязычен, но это косноязычие Моисея.
Слово Кнута, обращённое к братьям-евреям, имеет целью пробудить самосознаниея изгнанников во имя нового Исхода. Плен и ис-
ход – главные мотивы стихотворения, где явственно проступают библейские парафразы: «при реках вавилонских сидели мы и плакали» – эта строка из псалма Давидова отозвалась у Кнута «скорбью вавилонских рек».
Апофеоз стихотворения – его финал, призванный поведать о том, что копилось веками и переполняет еврейскую душу: рассказать «про тяжкий груз Любови и тоски – / Блаженный груз моих тысячелетий». Последние два слова Кнут вынес в название поэтического сборника – «Моих тысячелетий». Искать и тем более видеть в этом родительном падеже нарочитую неправильность, особую бессарабскую интонацию, как это сделала в своём опусе моя кишинёвская коллега, – это значит опошлять стихотворение, низводить его с высот Синая до кишинёвского базара. Кнут, упорно боровшийся с «кишиневизмами» в своей поэзии, никогда бы не использовал подобный ход.
Завершая разговор об этом программном стихотворении, хочу процитировать Владимира (Зеева) Жаботинского: «В наше сложное время „национальность“ литературного произведения далеко ещё не определяется языком, на котором оно написано. <…> Решающим моментом является тут не язык, и, с другой стороны, даже не происхождение автора, даже не сюжет: решающим моментом является настроение автора – для кого он пишет, к кому обращается, чьи духовные запросы имеет в виду, создавая своё произведение». А в случае Кнута в пользу еврейства его стиха говорят дополнительно и происхождение автора, и сюжет, и образность стихотворения. Еврейская национальная струна звучала в поэзии Кнута с особой силой. Этим он походил на Фруга, который тоже писал на русском языке. Уместно привести отклик Бялика на смерть Фруга, ибо эти слова я бы целиком отнесла и к написанному Кнутом: «Читая Фруга даже на чужом мне языке, я чувствовал в нём родную душу, душу еврея, я обонял запах библии и пророков. Читая его русские стихи, я чувствовал в его каждом слове язык предков, язык библии, я чувствовал душу человека, страждущего за еврейский народ». Еврейско-русский воздух рождал подобную поэзию.
Стихотворение «Кишинёвские похороны» (1932), откуда взят эпиграф к нашей книге, является не реквиемом, а гимном жизни, вечному бытию. Стихотворение стало триумфом Кнута, оно принадлежит к немногим, которым суждено пройти «веков завистливую даль». Название появилось позже, вначале его знали по первой строке «Я помню тусклый кишинёвский вечер…» Этот зачин не предвещал той мощи, которая обрушится на читателя. Кое-кто поначалу думал: ну что ж, поэт опять вводит в книгу тему Бессарабии, альтернативную Парижу, нас ждёт воспоминание поэта о случившемся в далёкой кишинёвской жизни… Приметы кишинёвского топоса: Инзовская горка, пыльная Азиатская, Родильный Приют, лай рышкановских собак – узнаваемые приметы нижнего города, где поэт вырос, укрепляли предположение, что это воспоминание о городе детства и юности. А впрочем, может быть, это стихотворение о погроме? Ведь в центре – похоронная процессия евреев. И неслучайно она появляется «за пыльной, хмурой, мёртвой Азиатской», где убивали. Возможно, хоронят погибшего в погроме? Сторонников такого прочтения смущало одно: автор был слишком мал, чтобы хранить эту картину в памяти как воспоминание.
Композиционно стихотворение образует своего рода кольцо: состоит из рамки (первая и заключительная части) и ядра (похоронная процессия). Вот его начало:
Я помню тусклый кишинёвский вечер;
Мы огибали Инзовскую горку,
Где жил когда-то Пушкин.
Только из заключительной части становится понятно, что «мы» – это автор, начинающий поэт (мои стихи в «Курьере») и его спутница, «доверчивая гимназистка Оля». Это они во время прогулки огибали Инзовскую горку. На ней сто лет тому назад стоял дом наместника Бессарабского, генерал-лейтенанта и кавалера Ивана Никитича Инзова, под начало которого и был отправлен с берегов Невы в 1820 году Пушкин, надежда российского Парнаса.
Как характеризует прибывшего в Кишинёв поэта, только недавно закончившего Царскосельский Лицей, Кнут? «Курчавый низенький чиновник / Прославленный кутила и повеса / С горячими арапскими глазами / На некрасивом и живом лице». Дерзость кнутовского портрета предвосхищает «Прогулки с Пушкиным» Синявского – Терца. В глазах многих современников Пушкина (понимающих-то единицы!) он и впрямь в то время – только коллежский секретарь, чиновник 12-го класса из 14-ти возможных, согласно Табели о рангах. Александр Вельтман, прибывший в Бессарабию двумя годами ранее, был чиновником 8-го класса. Но в присутствии Пушкина, в глазах Кнута, даже холм, на котором гордо высился дом наместника, выглядит «жалким». Пушкин у Кнута – жизнь, энергия, страсть. Они – источники творчества, поэзии. Пушкин – это русский художественный мир, русское начало, заполняющее пространство. На таком «пушкинском» фоне и происходит «простой обряд еврейских похорон».
Однако обратимся к картине похорон. Она лишена внешнего эстетического благообразия. Первым возникает образ мёртвого еврея, «Обглоданного жизнью человека, / Обглоданного, видимо, настолько, / Что после нечем было поживиться / Худым червям еврейского кладбища». «Обглоданность» – это и экспрессивная метафора, и обобщённый знак трагической еврейской судьбы. Похоронная процессия – «кучка мане-кацовских евреев, / зеленовато-жёлтых и глазатых». Мане-Кац, известный еврейский художник, родившийся и обучавшийся в Киеве, окончательно переселился в Париж одновременно с Кнутом. В 1928 году в Париже проходила выставка его работ, изображавших повседневный быт евреев изгнания. Кнут через пластические образы Мане-Каца подчеркнул в своём стихотворении типичность кишинёвских евреев. Его обобщённый портрет похоронной процессии поначалу подчёркнуто антиэстетичен:
От их заплесневелых лапсердаков
Шёл сложный запах святости и рока,
Еврейский запах – нищеты и пота,
Селёдки, моли, жареного лука,
Священных книг, пелёнок, синагоги.
При этом профанное, обыденно-земное сочетается у Кнута с сакральным. Задумайтесь, в какой ряд включает он священные книги, как тесно соседствуют у него святость и рок (судьба презренного еврея)! Неудивительно, что старики, сопровождающие усопшего, казалось бы, укоренённые в местечковом быте, преображаются на наших глазах.
Большая скорбь им веселила сердце —
И шли они неслышною походкой,
Покорной, лёгкой, мерной и неспешной,
Как будто шли они за трупом годы,
Как будто нет их шествию начала,
Как будто нет ему конца… Походкой
Сионских – кишинёвских – мудрецов.
В этом бесконечном шествии сквозь века и тысячелетия кишинёвские старики в траченных молью и плесенью лапсердаках трансформируются в предшественников – ветхозаветных мудрецов или, скорее, даже отождествляются с ними.
Центральной фигурой в этом панорамном шествии, несомненно, является женщина, идущая «за печальным чёрным грузом», её песнь – смысловой центр стихотворения. «Не видно было нам её лицо./ Но как прекрасен был высокий голос!» И главное, что «пел он – обо мне, / О нас, о всех, о суете, о прахе, / О старости, о горести, о страхе, / О жалости, тщете, недоуменьи, / О глазках умирающих детей». И вновь происходит переход за грань времени: реальная плакальщица, идущая за гробом мужа по пыльным улицам нижнего Кишинёва, вырастает в грандиозную фигуру, скорбящую «о нас, о всех». Она уподоблена старинным вопленицам, древнееврейским пророчицам и даже мифической Всеобщей Матери.
Кнут создал величественный образ еврейки, вырастающий из Ветхого Завета, она достойна его героев – родоначальников, патриархов, царей и судей иудейских. Поэт называет её: женщина из книги Бытия. Её песнь сродни псалмам царя Давида. «В ней были слёзы сладкого смиренья, / И преданность предвечной воле Божьей, / В ней был восторг покорности и страха…» Но были в ней угрозы и проклятья, которых нет в псалмах, и это делало её песнь «неслыханной». Её бунт против Бога продиктован её трагической жизнью, за которой – судьба всего избранного народа. Женщина в этом стихотворении Кнута – национально-исторический тип, но при этом в бунте своём очень современный. Ведь у Бялика в поэме «Город резни» Бог жаждет услышать не робкие моленья, не плач иудеев, он ждёт проклятий, которые потрясли бы Его небесный престол. От кнутовской женщины Он их и слышит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?