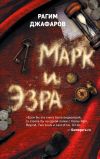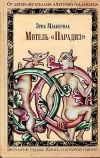Текст книги "Улыбнись нам, Господи"

Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Разве допрос закончен? – срывающимся голосом спросил Семен Ефремович. Пока допрос длится, Гиршу ничего не грозит. И ему, Шахне, ничего не грозит.
Семен Ефремович не спешил брать у него ключ, старался заново возбудить интерес Князева к Гиршу, но тот и не думал допрашивать арестанта, терпеливо дожидаясь, когда Семен Ефремович возьмет у него ключ.
– Надеть легче, чем снять, – сказал Ратмир Павлович. – Щелк, и ты в неволе.
Шахна смотрел на наручники и думал о том, что до сих пор, до этой князевской просьбы, он еще был свободен, принадлежал себе, и вот наступила минута, которая перевернет вверх дном всю его жизнь, обесценит в ней то, что было дорого, и до неимоверных размеров укрупнит то, что в ней тлело подспудно, тайно от всех. Шахна понимал, что щелканье железа, поворот ключа сделают его уже не толмачом, а тюремщиком, Крюковым или Митричем, выкормышем ига, что после этого он не сможет называться слугой Господа. Хорош господен слуга, заклепывающий в кандалы своего ближнего.
Его вдруг пронзила удивительная по своей ясности и безысходности мысль, что он, Шахна, уже осужден, ему уже вынесен приговор, что закованный в кандалы Гирш свободней и счастливей его. Все вдруг сместилось, опрокинулось. Кто здесь господин и кто здесь раб? Кто здесь лисица и кто здесь рыбка? Гирш идет на виселицу, чтобы господин перестал быть господином. Но ведь куда важней, чтобы раб перестал быть рабом.
Раб, раб, прошептал по-еврейски Шахна. Он смотрел на брата с боязливым восхищением, с испуганной надеждой, рассчитывая на его сочувствие и понимание, но взгляд Гирша был непроницаем.
Вместо того чтобы поддержать его беспомощный и жалкий протест, его благородную нерешительность, Гирш добровольно протянул руки, как будто в кандалах чувствовал себя в большей безопасности, чем без них.
– Запирай, – приказал Князев. Он расценил медлительность Семена Ефремовича как сговор, как безмолвное подстрекательство к непослушанию. – Это только первый раз страшно, – сказал он и положил перед толмачом ключ.
Семен Ефремович не сводил глаз с ключа; ключ вдруг словно ожил, взмыл к потолку, зажужжал, как муха, перелетел с потолочной балки на эполеты Ратмира Павловича, а потом с эполетов на шашку императора. Шахна даже услышал звон.
– Сходи на Погулянку, попроси лекарства, – напомнил ему Гирш.
– Что за лекарство? – допытывался Семен Ефремович.
– Порошки… От бессонницы… Так и скажи: «Брат просил порошки от бессонницы»…
– О чем он тебя просит? – насторожился Князев.
– Он просит, чтобы я сходил к его жене… Мире… и попросил порошки от бессонницы.
И чтобы у Ратмира Павловича не оставалось сомнения в его искренности, Семен Ефремович взял наручники, подержал их на весу, словно стараясь взвесить, и сунул в железные кольца собственные руки.
– А они тебе к лицу, ласковый ты мой, к лицу… Ей-богу, – сказал Князев и улыбнулся.
В кабинет вошли ротмистр и Крюков.
– Карета готова, – доложил Крюков, косясь на закованного толмача.
– Езжайте! – разрешил Князев.
Крюков замялся.
– Которого прикажете? – осведомился Крюков, совершенно сбитый с толку.
Семен Ефремович почти не сомневался, что Князев ткнет пальцем в него, накажет за своеволие, снова отправит в 14-й номер, на сей раз навсегда, до скончания века, а Гирша, может, оставит в жандармском управлении, сделает своим толмачом; в конце концов, не все ли равно, кто будет переводить показания бедных арестантов, а кто висеть с петлей на шее; от этой путаницы никакого урона империи не будет. Трепещите, рыбки! Ратмир Павлович вполне может отправить на смерть их обоих. А если пожелает, то и Крюкова в придачу.
– Этого, – сказал полковник и пальцем прицелился в Гирша.
Ратмир Павлович закрыл ящик письменного стола, поправил крест на мундире – большая толстая ворона сидела на его поперечине и таращила на Семена Ефремовича свои жадные глаза – и медленно направился к двери.
– Куда вы? – остолбенел толмач.
Ему и в голову не приходило, что Князев может уйти, оставить его одного в пустом кабинете, в наручниках.
– Домой, – просто сказал Князев. – И ты, ласковый мой, ступай. Завтра и послезавтра меня не будет… Едем с Антониной Сергеевной в Ригу…
Ратмир Павлович подошел к нему, проверил, крепко ли замкнуто железо, похлопал Семена Ефремовича по плечу.
– Ваше высокоблагородие, ваша шутка… – начал было Шахна, но осекся. Нет, больше он ничего не скажет. Ничего. Что с того, что он обзовет его самодуром? Ратмир Павлович не изменит своего решения.
– Будет тебе урок. Когда говорят: заковывай – заковывай, когда говорят: снимай, то снимай, – прыснул Князев.
И вышел.
Когда за Ратмиром Павловичем закрылась дверь, Шахна занес над головой руки и с такой силой трахнул по столу, что щепки полетели.
Господи, взмолился он. Когда ты кончишь надо мной глумиться?
Чем я тебя прогневал?
Тем ли, что хотел добра всем, кроме себя?
Тем ли, что поступил в услужение злу вопреки твоему желанию?
Что мне делать? Ответь!
Если мой брат Гирш стрелял в человека только за то, что тот унизил его поркой, то как же мне отплатить за мое унижение?
Кто мы, Господи? Гроздья или змеи в твоем винограднике? Если гроздья – убереги нас от порчи; если змеи – вырви наше жало!
Слышно было, как за окном дребезжит на рельсах конка.
Разносчица пирожков неистово предлагала свой товар:
– Пирожки! Горячие мясные пирожки!
Шахна вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд и обернулся. Со стены на него глядел император. Чем больше Семен Ефремович вглядывался в него, тем отчетливей на лице самодержца проступали знакомые черты Беньямина Иткеса, получеловека-полуовна. На голове его величества чернела ермолка, а в руке был уже не скипетр, а филактерии.
– Горячие мясные пирожки! – стонала разносчица.
Если бы не этот голос, Семен Ефремович, наверно, рехнулся бы. Надо дождаться вечера, подумал он, боясь взглянуть на стену. Разве станешь при свете расхаживать по городу в наручниках? От Георгиевского проспекта до Большой улицы полверсты, не меньше; не успеешь дойти до дома, как тебя тут же схватят и препроводят в ближайший околоток, а то и прямо в Лукишки, в тюрьму; и не смей возражать, увещевать, объясняться – сомнут, растерзают. Кому ты докажешь, что ты не беглый каторжник, а толмач его высокоблагородия Ратмира Павловича Князева, что его высокоблагородие изволил пошутить, заковал тебя токмо для назидания и до тех пор, пока он с Антониной Сергеевной не вернется из Риги.
Надо ждать вечера.
Или, может, никуда не уходить, оставаться до его приезда, тут, в кабинете, вместе с ними – императором и Беньямином Иткесом, у которого на боку длинная позолоченная шашка.
Семен Ефремович снова глянул на портрет и зажмурился.
Господи! Если он отсюда уйдет, не сочтет ли Ратмир Павлович его уход бегством?
Уйти, как только стемнеет!
Уже темнеет.
Уже в доме напротив портной зажег керосиновую лампу.
Как далеко до нее, как далеко, подумал Шахна. До нее столько же, сколько до Мишкине, до его детства, до отцовской козы с козлятами, хотя между ними только эти казенные, эти заржавевшие наручники.
– Пирожки! Горячие пирожки с мясом!
Шахна знал эту торговку: высокую, длиннорукую, в мужских ботинках.
Вечно растрепанная, она время от времени извлекала из лотка свой товар и впивалась в него зубами, видно, таким образом набивая ему цену.
– Кошерные!.. Только что из печи! Как огонь горячи!.. Покупайте!
Семен Ефремович открыл окно, высунулся и крикнул сверху:
– Эй!
Торговка подняла голову и, испугавшись, бросилась прочь.
От нечего делать Семен Ефремович принялся ходить из угла в угол, стучать наручниками по облупившимся стенам, по письменному столу Князева, осыпать себя и полковника самыми страшными проклятиями.
– Наручники!.. Кошерные… горячие… с мясом, – простонал он и опустился на стул.
Тьма за окном еще больше сгустилась.
Шахна сидел неподвижно за князевским столом и, казалось, дремал. На самом же деле это была не дрема, а какое-то сладкое, избавительное забвение, блаженная, бесчувственная отрешенность, какая бывает у детей и притихших после грозы деревьев.
Пистолет, мелькнуло у него, пистолет.
Звеня наручниками, Семен Ефремович попытался выдвинуть один ящик, другой.
Тщетно!
И уж совсем Семен Ефремович опечалился, когда стал перебирать в памяти, кто – если ему удастся выбраться отсюда – кто мог бы его расковать.
В синагоге ломовых извозчиков лучше не показываться.
Мама-Ротшильд, кантор Исерл, синагогальный староста Хаим только обрадуются, что он в наручниках.
Так ему и надо, скажут.
И еще в свое презрение закуют. С ног до головы.
А еврейское презрение весит больше, чем кандальные цепи.
В раввинское училище?
Рабби Элиагу мертв. А рабби Акива умеет отмыкать только железные засовы Торы.
Семен Ефремович с ужасом обнаружил, что во всем Вильно, в этом большом городе, населенном тысячами и тысячами людей – евреев, литвинов, поляков, русских, караимов, – нет ни одной души, которая могла бы прийти ему на помощь.
Один. Один!..
Как подумаешь – он только две ночи был не один. Две ночи, которые провел с братом Гиршем в тюрьме.
К кому же пойти?
К антиквару Гавронскому?
И тут в темном лесу Шахниной памяти зацвенькала неказистая хриплоголосая птица – Магда!
Как же он про нее забыл?
Магда! Прачка Магда!
Она ни о чем не станет его спрашивать – со свадьбы ли он бежал, с каторги ли. Магда впустит его, распилит на нем наручники; если надо, зубами перегрызет. К ней! К ней!
Магда простит ему все прегрешения – и трусость, и презрительное равнодушие, приютит его в своей убогой квартирке на Конской, где он первый и единственный раз в жизни познал ядовитую радость плотской любви, где случайная женщина с загрубелыми, шершавыми от стирки руками учила его искусству, так с той поры ни разу ему и не понадобившемуся.
Семен Ефремович вдруг поймал себя на мысли, что Магда, эта бесстыдница, эта горемыка, сделает для него больше, чем всемогущий и всесильный Бог.
Встреча, которая еще совсем недавно казалась невозможной, даже опасной для его будущего, вдруг сделалась желанной и необходимой.
Семен Ефремович вспомнил, как на прошлой неделе, дав околоточному с Конской улицы два бумажных рубля, расспрашивал служивого, не знает ли тот такую прачку Магду. «Кто ее на Конской не знает», – степенно отвечал тот; вспомнил, как допытывался, есть ли у нее ребенок или нет.
– А тебе надо, чтобы ребенок был или чтобы его не было? – томил Шахну неведением околоточный, стараясь вытянуть из него как можно больше денег.
Теперь Семен Ефремович уже знал, что в том беспамятливом угаре, в том подсиненном аду ничего от их несчастливого и столь случайного скрещения зачато не было. Теперь уже его не страшили ни расшатанная кровать, ни груды чужого накрахмаленного белья, которое Магда разносила по утрам своим клиенткам, ни ее искренние, нетребовательные ласки.
Тем не менее по мере того как Семен Ефремович приближался к Конской, сердце его все больше полнилось стыдом и тревогой.
Вина, вина, вина – вот наши наручники до гроба, размышлял Семен Ефремович.
Может, Господь Бог руками Князева защелкнул на нем наручники, чтобы руками Магды их отомкнуть?
Он шел по ночному городу, тщась ублаготворить свою тревогу, и время от времени ему казалось, что он издает какой-то звон.
Улицы были пустынны.
Только кое-где, сливаясь с сиянием звезд, клевали сумрак копеечные огоньки.
Прислушиваясь к своим шагам, пробираясь через какие-то темные, затхлые проулки, Семен Ефремович нес к Магде свой позор и вину. Позвякиванье железа вызывало у него в памяти картины детства, скрип уключин на реке, метанье собаки на цепи, бубенцы под дугой. Ему вдруг вспомнился его первый приход в Вильно осенней беззвездной ночью. Тогда он также шел по городу один, только вместо наручников у него был маленький деревянный чемоданчик, на дне которого лежала субботняя хала, подаренная ему лесоторговцем Маркусом Фрадкиным, потрепанное Пятикнижие и сидур-молитвенник. Он кружил по уснувшим улицам до рассвета, а на рассвете очутился у раввинского училища, и первым, кого он встретил, был Беньямин Иткес, подметавший огромной метлой двор. Ничего не говоря ему, Шахна взял у него метлу и стал подметать – ему хотелось, чтобы всюду было чисто – и в душе, и во дворе, и в целом мире.
– Так приходит мессия, – сказал ошеломленный Беньямин.
Но Шахна только рассмеялся. Потом оперся о метлу и, понизив голос, сказал:
– Настанет день, и свет будет неотличим от тьмы, рассвет – от сумерек, молчание – от речи, речь – от истины, истина – от страха, страх – от смерти…
Из какой-то подворотни вынырнула кошка и перебежала Семену Ефремовичу дорогу. Все ему казалось выморочным и нереальным: и город, и звезды, и эта кошка, и он сам, закованный в железо.
Из ночной мглы вместо Беньямина Иткеса с метлой вдруг вычленилась фигура Князева, увеличенная до чудовищных размеров; головой Ратмир Павлович касался шпиля церкви Святого Николая, а ноги его охватывали всю улицу вширь, и Шахна проскользнул между ними, как в ворота.
Только запах конской мочи – поблизости был базар, где продавали лошадей, – возвращал миру привычную плотность и размеренность.
Шахна шмыгнул во двор, вспугнул летучую мышь, взмывшую с галереи, и, оглядываясь, стал подниматься по расшатанной деревянной лестнице наверх, где под самым чердаком находилось жилище Магды.
Постучался.
Тишина.
Спит, подумал он. Умаялась и спит. Шутка ли – столько за день надо перестирать.
Боясь разбудить соседей, Семен Ефремович постучался еще раз, только тише.
Ни звука.
Летучая мышь снова села на деревянные перила галереи. Она наблюдала за ним из темноты, и Семену Ефремовичу это было неприятно. Никто о нас столько не знает, сколько птицы и звери, подумал он.
Стук, стук.
Он услышал, как заскрипела дверь, и вскоре вместе с этим скрипом, похожим на шелест крыльев летучей мыши, в проеме возник белый и зыбкий силуэт женщины.
Магда была в длинной белой сорочке, как бы рассекавшей темноту надвое.
– Ты? – изумилась она.
Белый и зыбкий силуэт качнулся в сторону.
Магда зевнула, и этот зевок не разъединил их, а соединил.
Непонятно было, рада Магда его приходу или нет, но у Семена Ефремовича не было другого выхода; он юркнул в темноту, споткнулся о корыто, в котором мокло чье-то белье, остановился посреди комнаты.
Магда почему-то медлила, неподвижно стояла на пороге, словно досматривала сон.
– Зажги свет, – взмолился Шахна.
Не говоря ни слова, ни о чем не спрашивая, Магда нашарила в темноте спички, сняла с комода лампу, подкрутила фитиль, зажгла, и желтый, тягучий свет топленым маслом разлился по квартире.
Пахло синькой, выжатым бельем, весной.
Семен Ефремович прислушался, не слышно ли в комнате еще одного дыхания. Может, у Магды все-таки ребенок…
Тихо.
И от того, что они были с Магдой вдвоем, у Семена Ефремовича отлегло от сердца.
– Ложись, – сказал Шахна.
Он все еще испытывал перед ней какую-то неловкость, хотя она не корила его, не напоминала о прошлом, просто пялилась на него заспанными глазами.
Магда истолковала его слова по-своему, покорно заковыляла к кровати, легла.
При скудном свете лампы Семен Ефремович видел ее полные натруженные ноги с крепкими, как бы завязанными в узел пальцами; под сорочкой бугрились заметенные ситцем груди; сухим валежником потрескивали в сумраке ее рыжие жесткие волосы.
Больше всего Шахну поразило то, что Магда не обращала никакого внимания на его наручники. Она вообще старалась не смотреть на него, опасаясь, видно, его взглядов и его вопросов.
– Ты такой смешной, – Магда прыснула. После долгого молчания она придвинулась к стене и как бы освободила для него место.
– Спи, – сказал Шахна.
– Я не усну, когда рядом мужчина, – призналась Магда.
Уловки ее были бесхитростными, и Семену Ефремовичу не составляло никакого труда их разгадать. Сама мысль о том, что он может с ней лечь, причиняла ему физическую боль.
– Спи, – повторил он.
– Погаси, – попросила она. – В темноте все кошки серы и все люди счастливы.
Ее сорочка белела в сумраке, как большое перистое облако.
Семен Ефремович не двигался.
– Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь? – спросил он, не желая потакать ее прихотям.
– А зачем? – удивилась Магда. – Собака ничего не знает о своем хозяине, а любит его…
– Глупости.
– Бог покарал меня за мое бесстыдство… щенка не дал… маленького… черноголового, с кудрявыми, как хмель, пейсами… Тыне бойся… У нас никогда не будет щенка… Никогда… Зря ты ко мне околоточного подсылал…
Шахна подошел к кровати, сел в изножье.
– Разденься.
– Нет, нет.
– Не бойся, – прошептала Магда. – Я спрячу тебя… я никогда тебя не выдам… мне все равно, в чем твои руки – в золотых перстнях или наручниках… Только обними меня… Когда меня обнимают, я забываю, что я прачка… что дом мой провонял чужим бельем…
Ну как ей объяснить, что ему сейчас не до объятий, что у него скованы руки, что он пришел к ней не за ласками, а за помощью; пусть сбегает к соседям, принесет напильник.
Магда на коленях подползла к нему, запустила руки в его волосы и принялась их ерошить.
– Перестань! – взмолился он.
Господи, скорей бы кончилась эта ночь, подумал он с каким-то тупым отчаянием.
Магда наклонилась к нему и стала целовать – слепо, алчно, прощально.
– Ты же наручники целуешь! – крикнул он, слабо и безнадежно сопротивляясь, но крик его был не в силах остановить ее.
– Ну и пусть!.. Если бы не наручники, ты бы не пришел ко мне. Ведь не пришел бы?
Утро наступило неожиданно; тьма сменилась резким, пронзительным светом, он хлынул в комнату, и вместе с ним рассвели груды чужого белья, наручники, потрескавшиеся половицы.
Шахна ждал, когда Магда оденется, сходит к соседям за напильником, но она не спешила, по-прежнему лежала в одной сорочке, с растрепанными волосами, заштриховавшими подушку, как полосы дождя окно в осенний день.
Наконец Магда встала, оделась, подхватила ведра, вышла во двор. Семен Ефремович видел, как она черпает воду, как медленно, словно молоко, наливает и несет по двору, стараясь не пролить ни капли.
– Магда! – поторопил ее Шахна.
Но та как будто не слышала его, плеснула воду в корыто, поставила на огонь, и кисловатый запах подогретого белья смешался с заклубившимся паром.
– Магда! – снова напомнил он о себе и наручниках.
Ближе к полудню Магда сварила картошку в мундире, очистила ее, нарезала селедку и стала кормить его с рук, как ребенка.
Шахна ел, давясь, обжигая нёбо, а она влюбленно смотрела на него и приговаривала:
– Ешь! Ешь! Я еще отварю… Вон какой ты тощий!
И обнимала его, и снова целовала.
– Перестань! – отстранялся от нее Шахна.
– Может, сала хочешь?.. Или тебе сала нельзя? От сала – сила!.. – не унималась Магда. – А правда, что вы в мацу христианскую кровь кладете?
– Магда! – простонал Семен Ефремович.
– Тебе не терпится уйти? Ведь не терпится?
Шахна подавленно молчал.
– Ладно, – сказала Магда. – Белье закипит, и я схожу к Арону… точильщику… А пока ты мой… мой. Мой…
Точильщика она привела, но только назавтра.
Чучело, безвольное, набитое трухой чучело, думал Семен Ефремович, возвращаясь в потемках к себе домой. Его вдруг мутной и жгучей волной захлестнула презрительная, тошнотворная жалость к себе. Впервые в жизни пришло ощущение, будто ему осталось совсем немного жить, может, даже меньше, чем Гиршу, но, как ни странно, близость смерти не столько испугала, сколько обрадовала его. Наконец-то он разделается со всем, что унижало и угнетало, что заставляло его быть игрушкой в чужих руках, что лишало его способности к сопротивлению и протесту.
Никогда Семен Ефремович не был так противен себе, как сейчас. Казалось, точильщик Арон избавил его не только от кандалов, но и от того, чем он, Шахна, прежде так гордился. Вместо желанного, как сон, облегчения, на него вдруг навалилась какая-то смертельная тяжесть; она росла с каждой минутой, грозя задавить его, и он, убежденный трезвенник, противник всякого хмельного зелья, уже подумывал, не свернуть ли ему на Трокскую улицу и не напиться ли у Зивса до полусмерти.
Семен Ефремович вдруг поймал себя на мысли, что зря отдал точильщику Арону эти наручники. А вдруг Ратмир Павлович потребует, чтобы он, его толмач, вернул их – как-никак казенное имущество. Семен Ефремович готов был броситься назад, разыскать Арона, вымолить у него это казенное железо, но страх встретиться с Магдой удержал его.
Домой, домой!
Занавесить окна, лечь и впервые за двое суток уснуть!
Еще поднимаясь по деревянной лестнице, Шахна услышал чье-то дыхание и приглушенный, заговорщический шепот.
Облокотившись о стертые, поблескивающие в сумраке перила, стояли двое. Лиц их не было видно, и от этого Семену Ефремовичу стало почему-то не по себе. Чутье подсказывало ему, что они ждут его, и он не обманулся.
– Вы – Шахна Дудак? – спросил один из них и шагнул из темноты ему навстречу.
– Да.
Семену Ефремовичу понравилось, что незнакомец обратился к нему по старинке, не так, как его величал Ратмир Павлович.
– Позвольте спросить, с кем имею честь? – высокопарно осведомился Семен Ефремович, тщетно пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Пальцы дрожали, и ключ то и дело соскальзывал в темноту.
– Мы – друзья Гирша, – представился незнакомец.
Он по-прежнему говорил один. Другой – более рослый и, как показалось Семену Ефремовичу, стриженный наголо – молчал, и от этого молчания казался еще выше и плечистей.
– Милости прошу, – сказал Шахна, открыв наконец дверь.
Те, что назвали себя друзьями Гирша, проследовали за Семеном Ефремовичем в комнату.
– Сейчас, сейчас, – пробормотал хозяин.
Незнакомцы стояли и терпеливо ждали, пока Шахна зажжет керосиновую лампу.
– Чем могу быть полезен? – спросил Шахна и потрогал полоску света на щеке.
Из него лезли какие-то чужие залежалые слова, которые ограждали его от незнакомцев и как бы освобождали от искренности и излишнего доверия.
– Вы знаете, что грозит вашему брату Гиршу? – спросил тот, который все время молчал.
– Да, – коротко ответил Шахна.
Они, конечно, знают, где я служу, подумал Шахна. Иначе не пришли бы сюда. Видимо, один из них – Арон Вайнштейн, он же – Андрей Миронович Дорский, он же – Коммивояжер, а другой – Федор Сухов, он же Суслик.
– Вы должны нам помочь, – продолжал тот.
Семен Ефремович вдруг спохватился, что даже не предложил гостям сесть, забормотал «садитесь, садитесь», но пришельцы не откликнулись на его предложение, стояли посреди комнаты, засунув руки в карманы, и Шахна готов был поклясться, что они вооружены.
– Больше всех себе помочь может сам Гирш, – уклончиво заметил Семен Ефремович, косясь на их руки.
– Вы так полагаете? – сверкнул на него глазами говорун.
– Я беседовал с присяжным поверенным господином Эльяшевым… Господин Эльяшев – опытный судейский…
– Что он предлагает?
Казалось, они задали этот вопрос вместе.
– Он прежде всего предлагает, чтобы Гирш не упорствовал на суде…
– На суд надеяться нечего, – сказал говорун.
– Если на суд надеяться нельзя, на что же, господа, можно?
Семен Ефремович почувствовал, как у него слипаются глаза.
Из поля его зрения сперва выпал Арон Вайнштейн, Андрей Миронович Дорский, Коммивояжер, а потом и Суслик, Федор Сухов. Сон, желанный, спасительный сон, сковывал суставы, и у Семена Ефремовича не было сил сопротивляться ему даже ради собственного брата. Еще мгновение, и он уснет стоя.
– У нас есть свой план, – объяснил говорун, – при котором суд исключается.
Слова молчуна не сразу дошли до сознания Семена Ефремовича, он встрепенулся, расправил плечи, погладил натертые наручниками запястья и выдохнул:
– Бегство?
– Да, – сказал говорун.
Помолчал и добавил:
– Или виселица.
Семен Ефремович знал и третий путь – самоубийство, но у него не было никакой охоты продолжать с ними разговор. Пусть уходят с миром, он, Шахна, забудет их голоса и лица, он никому не скажет про их ночной визит. Никому.
Вглядываясь в пришельцев, Семен Ефремович без труда узнавал в них тех, о ком Ратмиру Павловичу докладывал ротмистр Лиров и кто собирался возле Калварийского моста отбить Гирша у охраны. Смешные, жалкие юнцы! Он, Шахна, знает, что значит нападение на жандармскую карету. Кровь, кровь и еще раз кровь. Гирша спасут, а тех же Лирова и Крюкова прихлопнут. Крюков и Лиров, конечно, мерзавцы. Но в том, что Гирш стрелял в генерал-губернатора, они не виноваты. Нельзя убивать людей за чужую вину. Разве каждого, кто служит злу, надо истреблять? Истребляя прислужников зла, само зло не искоренишь. Корень зла не в том, что кто-то ему служит или кто-то его оберегает, а в том, что оно всегда и всюду играет в добро.
Семен Ефремович не мальчик, он не собирается им подыгрывать, чтобы заслужить их благосклонность или на старости лет – если такие вайнштейны и Суховы победят – переводить в таком же, только названном по-другому, управлении за те же червонцы с еврейского на русский и наоборот.
Брат Гирш дорог ему, но он должен понести наказание, ибо, подстерегая у цирка Мадзини свою жертву, намереваясь убить генерал-губернатора, он, Гирш, прислуживал злу.
– Я все-таки надеюсь на справедливость нашего правосудия, – сказал Семен Ефремович, удивляясь, что еще стоит на ногах.
– Господин Дудак, справедливого правосудия в Российской империи нет и не будет, – промолвил говорун.
– Вы обобщаете… Везде есть честные люди. Даже в суде. Ваш отец, например… Присяжный поверенный Мирон Александрович Дорский. Я слушал в суде его защитительную речь в тот день… когда он умер… – признался Семен Ефремович.
Воцарилось долгое молчание.
Слышно было, как в углу скребется мышь.
В лампе догорал керосин, и свет ее был зыбок и бесцветен.
Сейчас все откроется, мелькнуло у Семена Ефремовича. Сейчас он узнает, кто они, его ночные гости. Не подослал ли их Ратмир Павлович?
– В нечестном суде невозможно быть честным, – промолвил наголо остриженный.
Семен Ефремович не стал возражать. Он подошел к кровати, откинул одеяло, взбил подушку, всем своим видом давая понять, что гостям пора и честь знать.
– Значит, отказываетесь? – без всякой надежды спросил молчун.
– Да, – сказал Шахна. – Гирш просил, чтобы вы через меня передали ему порошки от бессонницы…
– Будут порошки… будут, – не задумываясь, выпалил говорун. – Если другого выхода не останется.
Семен Ефремович не понимал, о чем толкует Арон Вайнштейн, но, верный выработанной за годы совместной работы с Князевым привычке, не требовавшей особых умственных усилий, кивал, прислушиваясь к мышиной возне.
Господи, подумал Шахна, наверно, яд?! И он говорит об этом так просто, словно речь идет о липовом чае или пасхальной медовухе. Что это за люди, которые не останавливаются ни перед чем – ни перед выстрелами, ни перед отравой. Да знают ли они, что у Гирша беременная жена, что у нее вот-вот родится ребенок? А он сам? Разве он не благословил брата на самоубийство? Разве не снял с себя ремень?
Убийцы, убийцы, все убийцы, подумал Семен Ефремович про себя и вдруг, обезумев от усталости, от отвращения к себе, закричал:
– Оставьте меня! Оставьте!
Переглядываясь и не оборачиваясь, пришельцы засеменили к двери.
Семен Ефремович стоял, не двигаясь, обхватив отяжелевшую голову, ненавидя себя за слабость. Ну чего он ощерился на них? Они доверились ему, а он их, неразумных, выгнал. Дети! Молокососы, не знающие жизни, возомнившие себя героями! Надо было встать перед ними на колени и умолять, чтобы оставили надежду изменить бомбами мир, чтобы взялись за какое-нибудь дело: этот Коммивояжер вполне мог бы пойти по стопам своего отца – присяжного поверенного Мирона Александровича Дорского, а этот Суслик – поступить в ученики к какому-нибудь кузнецу или жестянщику, эдакая у него силища. Надо было не гнать их взашей, а вразумить, объяснить, что главное не столько творить добро, сколько не множить зло. Что проку в добре, запятнанном кровью?
В углу зашуршала мышь.
– Нехама, – тихо позвал ее Шахна. – Нехама! – еще раз повторил он, и мышь зашуршала бойчей, чем прежде.
За долгие бессонные ночи они привыкли друг к другу.
Семен Ефремович уже и сам не помнит, когда и как вырвалось у него это имя – Нехама. Так звали дочку рабби Авиэзера, которую прочили ему в невесты.
– Нехама, невеста моя, – прошептал он.
Светло-серый зверек метнулся из угла на середину комнаты, и Семен Ефремович отчетливо различил в темноте серебристую шкурку и кончик хвоста.
– Зачем мы приходим в этот мир, Нехама, если и ты, и я до скончания дней своих вынуждены жить в подполье… Мое подполье – мое тело. Оно темней и глубже, чем твое, Нехама, и нет в нем ничего, кроме страха и крох надежды.
Семен Ефремович не почувствовал, как у него брызнули слезы.
Он не стыдился их, не вытирал, и они спокойно текли по его небритому, исхудалому лицу, пробиваясь через терновник щетины. Слезы делали его прежним, возвращали из Вильно к забытым истокам, в иные, неблизкие, пределы, к своему старому, нерусскому, имени – теперь он уже был не Семен Ефремович Дудаков, а Шахна, Шахнеле, как ласково называла его мать.
Слезы заменяли материнскую ласку, очеловечивали привычное жилье, утепляли, придавали что-то родное этим углам, затканным паутиной, этим окнам, выходящим в темный и глубокий, как колодец, двор, этой мебели, которую он, Шахна, купил за бесценок прежде, чем вселиться сюда.
Семен Ефремович вдруг поймал себя на мысли, что без слез дом не очаг, а приют, временный, неверный, и даже обрадовался, что плачет.
– Нехама! – сказал он, испуганный тем, что мышь перестала шуршать.
Ему казалось, что он обращается не только к мыши, но и к давно умершей матери, к угрюмому отцу, упрямо долбящему кладбищенский камень, к этому молчаливому камню, к меламеду Лейзеру, ко всему, что жило, трепетало, переливалось рядом с ним в ту пору, когда он был Шахной, Шахнеле. Казалось, что и сама мышь прибежала сюда, в Вильно, оттуда, с берегов Немана, из дедовской избы.
После смерти, подумал Семен Ефремович, и он, может быть, превратится в мышь, не простую, а кладбищенскую, ту, что живет одновременно с живыми и мертвыми.
Он превратится в мышь и вернется на родину.
Каждый должен вернуться на родину: кто мышью, кто мотыльком, кто зябликом.
Семен Ефремович почувствовал на губах привкус соли, облизал их, все еще продолжая думать о том, что отодвинулось, удалилось, безвозвратно ушло из его жизни, оставшись только в его снах и слезах.
– Спать, Нехама, – пробормотал он и двинулся к кровати.
Он лег, натянул на голову байковое одеяло, но и сквозь его толщу он слышал жалобный писк мыши, и в этом писке умещалась вся несправедливость мира, стоны всех обиженных, всех приговоренных к смертной казни через повешение, всех, ждущих своих мужей из тюрем, всех, тяжко и напрасно добивающихся истины, и всех, разочаровавшихся в ней.
От мыши бессонная и тревожная мысль Семена Ефремовича перешла к Богу, но и Бог сейчас казался скорее вместилищем утрат, чем обретений.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?