Текст книги "Избранные сочинения в пяти томах. Том 5"
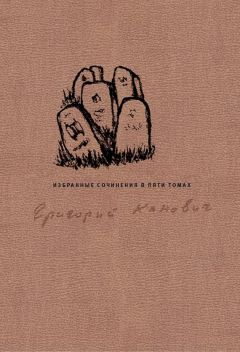
Автор книги: Григорий Канович
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
О том, как уберечь Элишеву от «выжигателей» и «чистильщиков», Чеславас думал беспрестанно. Думал он о ней и на скошенном, пахнущем дурманящими пряностями лугу, бережно поддевая вилами сено и укладывая его, как живое существо, в телегу. Облака опускались все ниже и ниже, где-то за лугом, на горизонте, они уже сливались с купами деревьев, с их величавыми кронами. Лошадь то и дело поднимала голову и тревожно оглядывала потучневшее от влаги небо, которое вот-вот должно было разрешиться от бремени и пролиться первым ливнем на израненную бомбами землю. Не дожидаясь Элишевы с полдником, Ломсаргис забрался на облучок и ласково, почти по-родственному, попросил свою вороную, у которой даже имя было христианское, женское – Стасе, Стасите, Станислава, чтобы та тронулась в путь. По его тону Стасите понимала, как и куда ей двигаться, трусцой или рысью, на хутор или в Мишкине; она быстро улавливала его настроение, без труда определяла, когда он трезвый, а когда под хмельком; порой, незваная, подходила к нему, приунывшему или издерганному, и, как баба, тыкалась мордой в хозяйскую грудь. Он жалел ее и запрягал только по престольным праздникам, когда отправлялся на молебен в местечко или когда наступала сенокосная пора и жатва.
– Что ты к ней так привязался? – как-то поинтересовалась Пране, никогда не одобрявшая его любви к кому-нибудь, кроме себя, и страдавшая не только от почечной болезни, но и от избытка никчемных вопросов в крови.
– Я учусь у нее.
– Чему же, если не секрет, учишься? По-моему, это она у тебя должна учиться.
– Учусь у нее быть человеком. От кого, по-твоему, вся скверна на земле пошла? От лошадей и от коров, от овец и от пернатых? От нас, от разумных двуногих тварей. Лошадь против лошади никогда войной не пойдет, если ее к тому возница не принудит; заяц от зависти не ославит овцу за то, что у него нет такой пышной шубы и что, в отличие от нее, его, беднягу, греет не каракуль, а ноги; воробей не обвинит во всех смертных грехах соловья только за то, что тот поет, а он – чирикает… А люди? Люди, Прануте, друг другу за клочок пахотной земли глотку перегрызут, ни за что ни про что на ближнего хулу возведут и донесут куда следует, чтобы только себя выгородить.
Пране не возражала, слушала и гадала, где и у кого он набрался таких премудростей, от которых у нее всякий раз начиналась неприличная зевота.
Когда до усадьбы было рукой подать и за придорожными деревьями уже можно было разглядеть как будто тушью нарисованный конек на крыше, с ближнего облака на гриву Стасите упали первые ядреные капли.
– Скорей, Стасите! Скорей! – взмолился Ломсаргис.
Лошадь понятливо заржала и перешла с ленивой трусцы на рысь, и вскоре взгляд Ломсаргиса выхватил в заштрихованном каплями просторе свою избу-пятистенку и босую Элишеву, которая сломя голову бросилась с крылечка к сеновалу, чтобы настежь распахнуть перед Стасите и Чеславасом двери.
Гроза словно дожидалась, когда телега вкатит на сеновал, и, дождавшись, ударила по хутору наотмашь.
– Успели, слава богу, успели! – ликовал Чеславас. – Спасибо, Стасите, спасибо, Эленуте!
Лошадь замахала головой, а непривычно молчаливая и печальная Элишева принялась помогать ему разгружать телегу, доверху набитую сеном.
– Что это ты, милая, вдруг нос повесила? – уже в избе за накрытым столом спросил Ломсаргис, озадаченный ее видом. – Тебя словно подменили, – продолжал он, не притрагиваясь к еде. – Что-то стряслось, пока меня не было?
– Ничего.
– Так-таки ничего?
Она не ответила, сидела напротив Ломсаргиса, понурив голову и стыдясь своего вранья.
– И все-таки? – Чеславас глядел на нее в упор и ждал прямого и честного ответа.
– Я решила отсюда уйти.
– Куда?
– К отцу, к сестре. Бог меня не простит, если я тут останусь. Не простит, если я в эти дни не буду с ними, – повторила она, обращаясь одновременно и к Ломсаргису, и к Всевышнему.
За окном куролесила июньская гроза.
Молнии огненными плетьми хлестали крышу избы, раскаты грома сотрясали ее стены, ливень поработил весь яблоневый сад и безнаказанно бесчинствовал в ветвях старых вязов, украшавших усадьбу.
– А ты, Эленуте, уверена, что у них там все в порядке? – процедил Ломсаргис. – Может, сначала стоит мне туда подъехать и как следует все разузнать, осмотреться? Из нашей глухомани, если что-то и видно, так только пущу да соседнее болото с куликами. Сама знаешь, какие для вашего брата наступили времена. Не очень-то разгуляешься. А мне как раз нужно к ксендзу-настоятелю заскочить – есть одно важное дельце, которое я не хотел бы откладывать… Ты можешь на меня сердиться, не сердиться, но я тебя одну в Мишкине ни за что не пущу. И не пытайся обвести меня вокруг пальца. Не послушаешься – привяжу, как строптивую телицу, веревкой к частоколу.
Он улыбнулся, но улыбка у него получилась вымученной и кривой, хмурое лицо исказила уродливая гримаса, а коричневые настороженные глаза недобро сверкнули из-под рыжих мохнатых бровей, сходившихся на переносице.
– Когда приеду, все расскажу тебе без утайки – и про отца, и про сестренку, и даже про твоего ухажера Иакова, – сказал Чеславас и принялся шумно хлебать остывший свекольник.
– Может, подогреть?
– Не надо. И так сойдет.
Он опорожнил миску, с аппетитом навернул свое любимое блюдо – свиные ножки и, грузно встав из-за стола, неожиданно промолвил:
– Ты, Эленуте, креститься умеешь?
– Нет! – испуганно выдохнула она.
– Сейчас я тебе покажу, как это делается, – прогудел Чеславас и несколько раз неторопливо перекрестился. – Теперь ты попробуй. Смелей, смелей!
Элишева заморгала, зашмыгала носом, на глаза у нее вдруг навернулись слезы.
– Не робей! Попробуй! От этого еще никто не помер, – подбадривал ее Ломсаргис. – Показываю еще раз. Все очень просто: держишь вот так ладонь и прикладываешь пальцы сначала ко лбу, потом переходишь на пупок, потом на правое плечо, потом – на левое…
– Нет, нет… Не хочу, не могу…
И Элишева расплакалась.
– Ну, чего ты? Чего? Тебя же не четвертовать собираются. Если хочешь в эти сумасшедшие времена выжить, выкинь из головы все эти «не могу». Я понимаю, это не твоя вера, может, ты вообще ни в какого Бога не веришь, но у тебя на сегодняшний день другого выхода нет. Ведь человек верит, пока он жив, а не наоборот – жив, пока верит. Как ни крути, жизнь, как бы это сказать, важнее веры, нашей ли, вашей ли. Хорошо еще, что ты на еврейку не похожа – нос не с горбиночкой, а картошечкой, волосы не дегтем крашены, а в рыжину, да говоришь ты по-нашему бойчее, чем мы сами. Если завтра не будет лить, я отправлюсь в Мишкине и зайду к твоим на Рыбацкую…
Элишева с ужасом слушала Ломсаргиса, не перечила, хотя ее и раздражали и его благонамеренность, и поучения. Что за жизнь без веры? Веру, как и кожу, не меняют.
Назавтра, к радости Ломсаргиса, небеса успокоились, солнце обрело свою прежнюю мощь, и свет его понемногу возвращал все на круги своя – в саду распрямились униженные грозой яблони, очухались от глубокого обморока старые вязы, почистили перья взъерошенные птицы, попрятавшиеся было от громов и молний в свои уютные гнезда.
Взбодрился и Чеславас, который стал собираться в дорогу. Он надел выглаженную пиджачную пару, сшитую искусным Гедалье Банквечером, обулся в начищенные до блеска хромовые сапоги, покрутился перед зеркалом, причесал непокорную чуприну и, довольный собой, кликнул хлопотавшую в сенях Элишеву, которая на все его приготовления смотрела с каким-то трудно объяснимым предубеждением, ибо никак не могла уразуметь, почему он с такой поспешностью отправляется в Мишкине, а не в Занеманье, к больной Пране, о которой он за эти дни ни разу не вспомнил, словно ее и на свете не существовало.
– Вечером буду обратно, – заверил он Элишеву. – А ты не зевай, смотри в оба. По округе всякие типы и типчики шатаются.
– Хорошо, – кивнула Элишева.
– Чтобы с тобой ничего не случилось, я решил перед поездкой приставить к тебе охранника.
– Охранника?
Чеславас полез во внутренний карман почти не ношенного выходного пиджака и своей тяжелой, как железное било, рукой извлек оттуда серебряный нательный крестик с цепочкой.
– Носи его, пожалуйста, и ни в коем случае не снимай. Даже спи с ним. Я его когда-то, лет двадцать тому назад, в священном месте – в Калварии – моей Прануте купил. Он из чистого серебра. Ей он, к сожалению, счастья не принес. Может, тебе принесет.
Ломсаргис подошел к ошеломленной Элишеве и медленно обвил ее шею скользкой, как змейка, цепочкой.
– А теперь подойди к зеркалу и посмотри на себя. По-моему, этот крестик тебе к лицу. Ей-богу, к лицу! Теперь ты уж точно вылитая литовочка!
Но Элишева не шелохнулась. Казалось, она вросла в половицы – если попытается сделать хоть маленький шажок к старому, с облупившейся амальгамой зеркалу в массивной дубовой раме, оторвать от досок ноги, то лишится их и навсегда останется калекой.
Ломсаргис мягко, ненавязчиво старался убедить ее в том, что он преследует одну благую цель – оградить ее и себя от большой беды, но его доводы, видно, не столько утешили, сколько еще больше растравили ее душу…
– Когда все изменится и мы, Бог даст, заживем без немцев и без русских, – не унимался он, – ты сможешь снова стать такой, какой была прежде, и, может, даже исполнишь свою мечту – распрощаешься с Литвой. А пока… Пока, хочешь-не хочешь, придется забыть не только про Палестину, но и про свои имя и фамилию. Заруби себе на носу: с сегодняшнего дня ты больше не Элишева Банквечер, а потерявшая в поезде все свои документы Эленуте Рамашаускайте из Дарбенай, моя племянница, дочь моего сводного брата Доминикаса Рамашаускаса, сосланного в июне прошлого года в Сибирь. Кто бы на хутор ни пришел, с кем бы ты в поле или в перелеске ни встретилась, заруби себе на носу: ты – не еврейка, ты – католичка Эленуте Рамашаускайте.
Он вышел во двор, по-медвежьи зашагал к конюшне, вывел оттуда отдохнувшую Стасите, запряг ее в бричку, черневшую без дела под деревянным навесом (в ней, а не в телеге он по престольным праздникам и по особо важным дням отправлялся в Мишкине или в уездный город Шяуляй), и, проезжая мимо родных окон, громко, помолодевшим голосом выкрикнул:
– Жди меня, Рамашаускайте!
Он надеялся, что Элишева помашет бричке рукой, как это издавна водилось в Юодгиряй, но на сей раз ситцевая занавеска на окне даже не колыхнулась.
Как только скрип колес замолк, Элишева сняла крестик и положила на ладонь, как бы взвешивая свой талисман и прикидывая, куда бы его спрятать так, чтобы при первой же надобности быстро надеть. Не найдя ничего лучшего, она решила намотать его на связку ключей, с которой никогда не расставалась. Весь день она носила ее с собой, ходила с ней в коровник, в конюшню, в погреб и изощряла свой слух долетавшими до нее звуками, предвещавшими негаданную опасность. Услышав лай Рекса, громыханье проезжающей по проселку машины или истошное карканье вспугнутых кем-то ворон, Эленуте съеживалась и тут же надевала на шею Пранин крестик.
Стараясь скоротать время до вечера, когда обещал вернуться Чеславас, Элишева хваталась за любую работу – подметала двор, чистила курятник, дольше, чем обычно, выдаивала коров, кормила прожорливых подсвинков, рассыпала юрким карпам в пруду прошлогоднее, отсыревшее ржаное зерно, стирала, развешивала на частоколе белье, собирала сорванные грозой ветви старого бывалого вяза, не переставая думать об отце и о Рейзл. Она корила себя за то, что проявила малодушие, уступила уговорам Чеславаса и осталась на хуторе, вместо того чтобы быть сейчас с родными на Рыбацкой. Они, видно, считают ее дезертируй, предательницей и, пожалуй, правы – решила, мол, что лучше отсидеться у чужих людей в глухомани подальше от немцев, чем разделить с родными их судьбу, и заменила Палестину на крест.
Элишева ни на минуту не сомневалась, что Ломсаргис привезет с Рыбацкой дурную весть или по-крестьянски, по-мужицки схитрит, отделается туманными намеками и походя бросит: несладко твоим, несладко, что и говорить, сама знаешь, какие для вашего брата сейчас наступили времена, врагу не пожелаешь. Главное – не считай, Рамашаускайте, ворон и смотри в оба. И точка, и больше он не проронит ни одного лишнего слова. Тот, кто много и красно говорит, тот, по его требнику, пашет и сеет впустую.
Ближе к вечеру бдительную Элишеву-Эленуте всполошил яростный лай Рекса, который грозно вставал на задние лапы, скалил свои острые безжалостные зубы и, надрываясь, требовал, чтобы его немедленно спустили с цепи.
Эленуте Рамашаускайте мгновенно надела Пранин крестик и выскользнула из горницы во двор.
Ее появление и вовсе раззадорило пса. Он метался как угорелый и надрывным лаем обстреливал всю окрестность.
Было еще светло, и Эленуте вдруг увидела, как к усадьбе, прихрамывая и опираясь на выломанную где-то палку, приближается какой-то мужчина в красноармейской форме.
Русский, осенило ее. Слава Богу, не немец. Слава Богу! Немцы в одиночку пока по литовским весям не бродят.
Когда он миновал яблоневый сад, обогнул ригу и направился к колодцу, его уже можно было отчетливо разглядеть – высокого роста, наголо стриженный, с черными густыми усами, рваная красноармейская гимнастерка расстегнута нараспашку, грудь в черных овечьих кудряшках, на левой ноге – кирзовый сапог, правая от ступни до щиколотки обмотана кровавой портянкой. Эленуте показалась знакомой не только его форма, но и внешность. И вдруг встревоженная память подсказала ей, кто забрел на хутор…
Да это же тот танкист – грузин с черной сталинской щеточкой усов, с кривыми, как серп с красного флага, ногами, тот самый грузин, который с пустой алюминиевой флягой забрел в сороковом на хутор и попросил воды.
– Baccep! Вассер!..
Она еще тогда приняла этого танкиста за военнослужащего-еврея.
Господи, только его тут не хватало! Ломсаргис не обрадуется такому гостю и вряд ли позволит ему остаться. Ведь это он и его дружки на своих красных черепахах во время учений все озимые Чеславаса гусеницами изрыли.
Когда раненый подошел к крыльцу избы, ошалелый Рекс залаял с новой силой, но вдруг по-старчески закашлялся, захрипел и, наконец, потеряв голос, перешел на визг.
– Цыц! – прикрикнула на него Эленуте. – Это не вор и не разбойник. Цыц!
– Лабас, – неожиданно произнес раненый танкист, видно выучивший за полтора года безмятежной службы только это единственное литовское приветствие – лабас. Измотанный, заросший серой, кабаньей щетиной, он едва держался на ногах и затравленно озирался по сторонам.
Эленуте вдруг представила себе, как после сокрушительной бомбежки танкового полигона он выбрался из горящей машины и, спасаясь от прущих из всех щелей немцев, отбился от своих и заплутал в Черной чаще; как, голодный, бродил по ней, питаясь незрелыми ягодами и кореньями, как, утоляя смертельную жажду, пил из редких лужиц и болотец и, обессиленный, с кровоточащей раной, валился на мшаник или на валежник и засыпал чутким недужным сном.
– Лабас, – дружелюбно ответила Эленуте и поправила крестик на шее. – Вассер?
Танкист благодарно кивнул.
Она подвела его к колодцу, и он принялся жадно, по-звериному пить прямо из бадьи, обливаясь холодными струйками и охая от усталости и удовольствия.
– Если бы не рана, я бы тебе и баньку затопила. Баньку бы затопила. Понимаешь?
Танкист замотал головой и пролопотал:
– Чхеидзе я… Вахтанг. – И, обласканный звучанием собственного имени, побарабанил костяшками длинных пальцев по черным вьющимся кудряшкам на груди. – Вахтанг…
– Как же нам с тобой, Вахтанг, договориться? Ты по-литовски не понимаешь, а я по-грузински ни слова…
Раненый улыбнулся залитыми тоской глазами и снова окунул в бадью небритое, с впалыми щеками лицо и долго не поднимал из воды стынущую голову.
Элишева переминалась с ноги на ногу, пытаясь решить, куда его девать. В клеть, заваленную конской упряжью, боронами, веревками и мешками с удобрениями? На сеновал, где днем и ночью кишмя кишат жуки и мыши? В батрацкую? Туда, пожалуй, лучше всего – там три застекленных оконца, лежаки, набитые соломой, обеденный стол с дубовыми лавками. В избу его не приведешь – Ломсаргис не потерпит. Дай Бог, чтобы Чеславас не взбеленился, – увидит красноармейскую форму и тут же его выгонит взашей. Хорошо бы до возвращения переодеть этого Вахтанга в какую-нибудь гражданскую одежду.
– Тебе обязательно надо переодеться и поесть. И поскорей лечь… А я поищу для тебя что-нибудь подходящее.
На свой страх и риск она принялась рыться в платяном шкафу Ломсаргиса; достала поношенную фланелевую рубаху и протертые на заднице штаны; разыскала в прихожей пару старых тупоносых ботинок с оборванными шнурками – в них Ломсаргис обычно месил деревенскую грязь и утрамбовывал силос; сложила в корзинку хлеб, сало, кружок сыра и поспешила в батрацкую.
Пока раненый переодевался и лениво уплетал хлеб с салом, она стояла под крохотными оконцами батрацкой, на которых играли робкие солнечные зайчики, и думала о превратностях человеческой судьбы. Всего месяц назад этот молодой и пышущий здоровьем Вахтанг был бездумным и счастливым завоевателем. Месяц назад он, как и Арон Дудак, не задумываясь, с радостной готовностью подчинялся любому приказу своего земляка, вождя и учителя – Сталина. Месяц назад он свято верил, что на своем танке привез сюда, в это захолустье, в этот нищенский, сумеречный, неприветливый край, не беду, не страдания, а долгожданное счастье и благоденствие.
Эленуте силилась понять, почему сатане, который всякий раз прикидывается Мессией, удается заманить человека в свои сети и сделать прислужником зла? Чем он его подкупает и очаровывает? Может, тем, что, в отличие от Господа Бога, он требует от человека не жертвенности, а жертв, обещая в награду не призрачное Царство Небесное, а земное, немедленное счастье, и находит виновников во всех его бедах и напастях? Только кликни, и он, вездесущий, тут же, не важно, в чьем обличии – немца или литовца, русского или еврея, – явится и оправдает твою ненависть и твою месть. И благословит тебя даже на убийство. Какой же верой, какими доспехами надо себя оковать, чтобы устоять перед ним и не поддаться его простым и неотразимым чарам?
Стук в дверь изнутри батрацкой прервал ее размышления. Она поняла – можно войти.
В широкой, мешком висевшей рубахе Ломсаргиса и в его штанах, которые рослому грузину были явно коротки, в одном незашнурованном ботинке на правой, неповрежденной ноге он производил впечатление огородного пугала. Вахтанг наклонил голову, наголо, по уставу, остриженную полковым парикмахером, и гортанно пропел:
– Мадлоба!
Эленуте догадалась, что он благодарит ее по-грузински.
– Спасибо, – перевел он свои слова на государственный – русский – язык.
– Не за что. Приедет хозяин, который, кажется, немного говорит по-польски, он и решит, что с тобой делать. – Она жестами изобразила движущуюся телегу, а голосом – цокот и ржание лошади. – А теперь тебе надо бы лечь и отдохнуть!
Он ничего не понял, но снова сказал:
– Мадлоба!
– Вещи твои я заберу. Сейчас Литва перешла на другую форму.
Эленуте собрала в охапку его гимнастерку, штаны, портянки, овдовевший кирзовый сапог, вынесла из батрацкой, облила за ригой керосином и подожгла зажженной хворостиной. Едкий дым от горелого советского сукна и кожи медленно и угарно поплыл с хутора к Черной пуще.
Вернувшись в избу, она не стала гадать, как Чеславас поступит с приблудившимся танкистом, хотя забота о нем даже на какое-то время вытеснила ее тревожные мысли об отце и о сестре Рейзл. Ей хотелось, чтобы Ломсаргис его не выгонял. Было в участи этого несчастного грузина что-то общее с ее участью – может, полная зависимость от доброй воли других, оторванность от родного дома и неизбежная сиротская гонимость, а может, все это, вместе взятое.
Когда Эленуте принялась готовить Ломсаргису ужин, с развилки до кухоньки вдруг донеслось радостное и протяжное ржание Стасите, а через некоторое время бричка Ломсаргиса вкатила во двор, но остановилась не под окнами избы, не у крыльца, как по обыкновению, а въехала прямо под навес.
Это дурной знак, почему-то подумала Эленуте и не ошиблась.
Чеславас вошел в избу, снял пиджачную пару, повесил ее в шкаф и молча бросился открывать и закрывать ящики стола и комода, осматривать в горнице все полочки и полки, полати в прихожей, пока не нашел резную трубку и шелковый кисет с остатками допотопной махорки.
– Вы же не курите, – стараясь выпытать у него, что случилось, сказала Эленуте.
– До сих пор не курил. Но иногда без затяжки, как и без рюмочки, не обойдешься. – Он набил трубку и чиркнул спичкой. – Какая-то чертовщина! Стоит нынче только куда-нибудь выехать, как тут же настроение – вдребезги!
Эленуте из последних сил сдерживала себя, чтобы не задать ему главный вопрос – живы ли ее отец и Рейзл? Раз Чеславас ничего сам не рассказывает, догадалась она, значит, дела плохи.
– Они живы, живы, – опередил он ее вопрос и глубоко затянулся. – Но…
– Что – но? – сдавленно прошептала она.
– Только их нет дома.
– С чего же вы взяли, что они живы?
– Мне этот ваш плутоватый подмастерье сказал.
– Юозас?
– Да. Наверно, Юозас. То же самое подтвердил при встрече и объявившийся в Мишкине Тадукас Тарайла, Пранин племянник: мол, не беспокойтесь, все оставшиеся в местечке евреи живы. Кому-кому, а близкому родственнику он не стал бы врать.
– Но их нет дома, – не сводя с него глаз, пробормотала Эленуте.
– Да, – сказал Ломсаргис и, выдув голубое колечко дыма, уставился на ее крестик. – Других сведений у меня нет. Во вторник к нам на хутор пожалует ксендз-настоятель Повилайтис. Может, мы от него еще что-нибудь узнаем. Надо будет в его честь приготовить обед – зажарить гуся. Святой отец – большой любитель жареной гусятины. Ты меня слышишь?
– Слышу, слышу. Во вторник к нам на хутор пожалует ксендз-настоятель. – Эленуте перевела дух и выдохнула: – Ваш Тадукас или подмастерье Юозас не сказали вам, где они?
– Кто?
– Все оставшиеся евреи. Если я вас правильно поняла, они еще живы, но уже без имени… Как ваши гуси, которых к приезду ксендза-настоятеля надо зарезать и зажарить, или как ваши свиньи, которых по обычаю, непременно забьют к Рождеству.
– Рамашаускайте, не гневи своими речами Господа Бога. Тадукас сказал, что всех евреев отделили от остального населения, чтобы оно не выместило на них свой гнев, а чуть позже их отправят на работу то ли в Польшу, то ли в Германию, как наших в сороковом в Сибирь. Я, правда, успел спросить у Тадукаса: почему же отправляют всех без разбору и почему евреи не могут работать там, где работали? Ведь Мишкине останется без доктора Пакельчика, без парикмахера Коваля и без портных. Тадукас ничего не ответил. – Ломсаргис снова набил махоркой трубку и, вздохнув, промолвил: – Что и говорить, безобразие! Ведь виновных всегда меньше, чем невинных. Такие вот пироги. Но раз мы с тобой не в силах что-то изменить, что же нам, козявкам, остается делать? Только возмущаться и стыдиться за тех, кто своего начальника боится больше, чем Бога.
– А вам-то зачем за других стыдиться? Вы же никого из дома не выгнали, ни от кого не отделили, наоборот, еврейку пригрели. За такое можно сейчас и головы лишиться…
– Все равно стыдно. Взять хотя бы этого вашего шустрого подмастерья. Он-то куда полез? Еще пророчицей Микальдой сказано: тот, кто спокойно спит на присвоенных, еще теплых от чужого дыхания подушках, когда-нибудь проснется на раскаленных добела углях! – выпалил Чеславас и тут же себя оборвал: – Да ладно, хватит душу терзать, давай лучше ужинать.
Она подала ужин, но сама за стол не села. Стояла за его могучей спиной и смотрела, как он, стыдящийся за других, смачно расправляется со сдобренной шкварками огромной глазуньей, словно ничего страшного в десяти верстах отсюда не произошло ни с ее отцом Гедалье Банквечером, столько лет обшивавшим Ломсаргиса, ни с ее другом Иаковом, отменным косарем, ни с теми евреями, которые в базарные дни толпились вокруг его телеги и покупали у него свежую картошку и капусту, яблоки и мед, зерно и лен.
Он говорит: радоваться надо – их же пока не убили, только взяли и отделили от человечества. Крупные, поминальные слезы катились у нее по щекам, но Эленуте-Элишева не смахивала их, не вытирала, потому что оплакивала самое себя.
– Не плачь, – сказал он, не оборачиваясь. – Садись и что-нибудь поешь. А может, клюкнем по шкалику смородиновой наливки? За то, чтобы все отверженные и несправедливо наказанные изгнанием целыми и невредимыми вернулись домой.
Он встал, принес початую бутылку и рюмочки, налил и повторил понравившийся ему тост:
– За то, чтобы все целыми и невредимыми вернулись домой – и твой отец, и твоя сестра, и доктор Пакельчик, и парикмахер Коваль… Все, все…
– И Пране, – сказала она.
– И Пране, конечно, – подхватил он и, опрокинув рюмку, спросил: – А почему ни о чем не рассказываешь? Ты крестик все время носила или в лифчик прятала?
– Все время носила.
– Никто на хутор не заходил?
Она помолчала и вдруг прямо и легко сказала:
– Заходил.
– Иаков?
– Нет. Другой. Не здешний.
– Литовец или еврей? Наверно, еврей. Ведь сейчас по окрестным лесам и хуторам ваши люди в поисках защиты либо поодиночке, либо стайками бродят.
– Не литовец и не еврей.
– Так кто же?
– Грузин. С танкового полигона за конопляником. Раненный в ногу. Это тот самый солдат в шлеме, что приходил на хутор в сороковом… вас тогда не было. – И, чтобы разом покончить со всеми вопросами, Эленуте выпалила: – Сейчас он в батрацкой отлеживается. Форму его я сожгла… Только ремень оставила, чтобы штаны с него не падали… Вы уж меня за своеволие простите – я не могла его прогнать… Не могла… Ведь и вы его не прогнали бы?
– Ты – хозяйка, а хозяйке не за что извиняться, – со значением сказал Ломсаргис.
– Хозяйка? – Его слова, нагруженные двойным смыслом, не обрадовали, а больно задели ее. – Бродяжка! Беженка! Приживалка! Пятая вода на киселе! – И, как бы сглаживая впечатление от своих слов, продолжала: – Этот горец говорит только на своем языке. Может, вы по-польски с ним договоритесь?
– По-польски я не говорю, а чирикаю – слышно, но непонятно… Пусть отлеживается.
Она была рада, что Ломсаргис не рассердился на нее за самоуправство, но ей показалось, что добрым отношением к раненому он как бы искупает перед ней какую-то вину.
Утром они вместе пришли в батрацкую. Кроме еды, Эленуте прихватила с собой лоскуты белой простыни для перевязки нагноившейся раны, а Чеславас для дезинфекции – остатки отборного пшеничного самогона. Вахтанг дремал на старом матрасе, из нутра которого выпирали пучки ломкой соломы. Время от времени он постанывал во сне. Услышав шаги, раненый с трудом продрал сочащиеся хворью глаза, повернулся на другой бок и с удивлением уставился на гостей.
– Здравствуй, товарищ Сталин! – с беззлобной насмешкой сказал Ломсаргис.
– Я не Сталин, я Чхеидзе, – выдавил раненый.
– Сталин, Сталин, но почему-то ты не в кителе, как твой главнокомандующий, а в моей крестьянской рубахе и штанах, – сказал хозяин на ломаном польском.
– Чхеидзе, – упорно повторял танкист. – Вахтанг.
Его лихорадило. Вобрав стриженую голову в плечи, он силился унять мелкую надоедливую дрожь, но совладать с ней ему никак не удавалось.
– Хлебни! Согреешься. – Чеславас вытащил затычку из бутылки и протянул раненому.
Танкист приподнялся, сделал несколько судорожных глотков, поперхнулся и снова рухнул на лежак.
Эленуте наклонилась над ним, промыла рану, перевязала ее чистыми лоскутами простыни, приложила ладошку ко лбу Вахтанга и сказала:
– Пышет жаром, как печка.
От каждого ее прикосновения к ноге Вахтанг вскрикивал, как вспугнутая ночная птица, на которую он и в самом деле был чем-то похож – не то зоркими, неусыпными глазами, не то наклоном красивой точеной головы и прихотливыми звуками грозной и отрывистой, как орлиный клекот, речи.
– Боюсь, что с помощью самогона и вареных луковиц рана у земляка товарища Сталина не затянется, – сказал Чеславас, когда они вышли. – Некрасивая она… Некрасивая. Вокруг какая-то подозрительная синь, и вся нога здорово распухла… Как бы не началось заражение крови. Доктору бы его показать. Без этого ему не выкарабкаться. Но где сейчас доктора найдешь? Пакельчика нет. А до другого лекаря и за сутки не доберешься.
– Молодой! Может, выкарабкается, – пролепетала Эленуте.
– Мне с ним возиться некогда. За Пране в Занеманье еду. Если он до вторника протянет, покажем его ксендзу-настоятелю Повилайтису. Святой отец до семинарии два года в Берлине на врача учился. Если же нет, то литовская земля примет горца в свои объятья и простит его за то, что он ее своими гусеницами изрыл. Земля добрей и справедливей нас. Она прибежище для всех и не допытывается у мертвого, откуда он пришел и какой веры.
– А за Пране вы когда отправляетесь?
– В субботу, с утра пораньше. Путь не близкий. Моя благоверная уже, наверно, заждалась меня…
Как сказал, так и сделал: в субботу он и отправился.
Эленуте не слышала, как он съехал со двора. Когда она встала, умылась, открыла окна, Ломсаргиса на подворье уже не было, и впервые за год с лишним своей жизни на хуторе ей по-настоящему стало страшно. Что, если этот Вахтанг умрет? Ведь от заражения крови, как говорят, никакого спасения нет. Если Ломсаргис задержится, что она будет делать с мертвым?
Из-за этого навязчивого страха Эленуте не находила себе места. Только подоит корову – и тут же мчится в батрацкую, задаст овса лошадям – и стремглав бежит туда же, накормит вечно голодных подсвинков – и шасть под оконца, привстанет на цыпочки и заглядывает внутрь – дышит Вахтанг или не дышит.
Слава Богу, шевелится, стонет, зевает, а иногда, опираясь на палку, даже встает с лежака, выходит во двор и шкандыбает к нужнику. Жалея его, Эленуте притащила в батрацкую ржавый чугунок, чтобы он мог в любое время суток без лишних хлопот справить малую нужду на месте.
– Для пи-пи, – объяснила она.
– Пи-пи, – повторил Вахтанг и подарил ей подобие благодарной улыбки.
Она приходила к нему три раза на дню, садилась возле постели на колченогий табурет и вполголоса начинала что-то ему рассказывать и убеждать, что он еще увидит свою Грузию. Там, в горном селении, наверно, его ждут не дождутся мать и отец, сестры и братья, которых, конечно, никто ни от кого не отделит и не отправит на работу ни в Польшу, ни в Германию. Эленуте верила, что, пока она рассказывает ему и лечит надеждой, ничего дурного с ним не случится: он не умрет и пойдет на поправку. А когда кончится это повальное безумие, этот бесконечный кровавый раздор, Вахтанг Чхеидзе доберется до своего дома и снова будет растить виноград или собирать чай, пить вино, петь «Сулико» и лихо отплясывать лезгинку, как это делали его земляки в счастливых советских фильмах, которые русские по субботам крутили на рыночной площади в Мишкине. Эленуте казалось, что он ее понимает, и от этого понимания светлеет его угрюмое лицо, и в ответ что-то шепчут опаленные лихорадкой губы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































