Читать книгу "История искусства после модернизма"
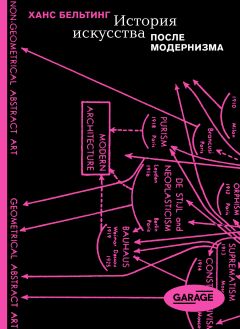
Автор книги: Ханс Бельтинг
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом

ил. 9
Рауль Хаусман. Механическая голова: Дух нашего времени (Der Geist unserer Zeit – Mechanischer Kopf), 1921. Музей современного искусства, Париж
В Голландии это движение приняло название «Де Стейл» (De Stijl) – «стиль», и в 1918 году его участники опубликовали Первый манифест со своими идеями (из Третьего манифеста было изъято кое-что, что в Первом выглядело ясней и откровенней). «Господство индивидуального» следовало пресечь и даже «уничтожить», чтобы могло победить «универсальное». Но «универсальное» уже хуже поддавалось определению: это была формула общей, абстрактной ясности, в рамках которой все предметы, равно как и чувства, распадались на чистые «формы». «Традиция», с ее богатством и бременем прошлого, c ее избытком конкурирующих идей и видов историзма, должна была пасть жертвой этой идеальной скудости; это же относилось и к любой «естественной форме», «стоящей на пути у чистого художественного выражения». «История» должна была, неважно, какой ценой, начаться заново и привести к победе универсального «стиля», в котором человек больше не играл никакой роли.
В Третьем манифесте, написанном в 1921 году, речь идет о «духе», и это может удивить, если связывать понятие духа с индивидуумом. Но имеется в виду не этот дух и уж тем более не дух социализма или капитализма, а «интернационал духа внутреннего». Новая религия духа, которую столь часто вожделели, должна была провозгласить господство «духа» над миром и отдельными людьми. Из-за кулис холодного рационализма, с которым разрабатывались новые формы искусства для нового общества, вышли теософские идеи, давно уже усвоенные не только отдельными членами группы «Де Стейл». У утопии есть и темная сторона, и ее задокументировал искусствовед Беат Висс[91]91
Беат Висс (род. 1947) – швейцарский искусствовед, ординарный профессор истории искусств и теории медиа в Университете искусств и дизайна Карлсруэ, член Гейдельбергской академии естественных и гуманитарных наук.
[Закрыть], заглянув в самую глубину: миф о начале – враг традиции. Мистика и технология тогда создали странный союз. Казимир Малевич, оставивший в Берлине на хранении последнюю версию манифеста супрематизма[92]92
Имеется в виду текст «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» (1922).
[Закрыть], выступил как мистик и одновременно как воинствующий критик, написав: «Искусство предметных отражений дважды «морт», <поскольку> отражает мертвечину культуры. Сама культура – попытка достижения живого, а Искусство, передавая явь живую, делает мертвое; живое не передашь, не скопируешь…»
Примерно в то же время написанная история искусства принесла биографическое или анекдотическое в жертву «законам стиля» и его изменениям. Историческое знание, приобретенное в XIX веке, вдруг начало считаться ненужным, потому что историю искусства учили «вычитывать» из самих форм. Художники и их жизнь перестали быть главной темой. «Стиль» мыслился неким противопоставлением индивидуального, которое символизировало чистое и всеохватное видение, не связанное с предшествующими культурными традициями. Аналогии, проводимые между искусством и историей искусства, говорят сами за себя. Забавно, что даже это понятие стиля предлагало идентичность, как ее в свое время предложил и модернизм, вызвав тогда первые серьезные споры, в ходе которых две идеологии – «новое искусство» и «новое общество» – соперничали за власть.
Поскольку искусство стало предметом открытых дискуссий, в ходе них обсуждались надежды, выходившие за пределы компетенции искусства. В Советской России искусство не показало нового общества, каким его себе представляли: оказалось, что конструктивисты преследуют лишь цели чистого искусства, а не цели партии. Национал-социалисты, со своей стороны, пришли в ужас, когда искусство в своем зеркале отразило уродливый лик современности: реалисты и экспрессионисты бунтовали против той эстетизации политики и жизни, за счет которой славили себя нацисты. Всемогущая партия в обоих случаях хотела идеала, пусть и в виде китча. Если настоящее оказывается больным, то как минимум искусство должно быть здоровым. Говорить об «идеале искусства» по факту означало говорить об идеалах философии партии – и, напротив, в кругах художников не менее воинственно говорили о «новом обществе», в котором появится «новое искусство».
Этот спор быстро перекинулся с искусства на написанную историю искусства, которой – под давлением общественности – пришлось оправдывать востребованное искусство. Вскоре искусство и история искусства многообразными и запутанными способами включились в реальное бытование модернизма, пусть даже иногда кажется, что искусство следовало лишь собственным законам, а история искусства просто излагала свою дисциплину на безупречном научном уровне. Высшая точка этого противоборства была достигнута, когда в Третьем рейхе, как в то же время в Советском Союзе, модернистское искусство было запрещено, и этот запрет затронул также написаную историю искусства, где нежелательный модернизм больше не должен был упоминаться.
Лозунги художников и темы историков удивительным образом были связаны. Между абстракционизмом, отдаленным от всякой внехудожественной реальности, и формальным анализом, пренебрегающим содержанием, существует параллель, связывающая их также с «конкретным искусством», в котором реальными оставались лишь формы и цвета, но больше не было ни предметов, ни насущных тем. Но чистое искусство, равно как и чистый стиль, вскоре было вновь поставлено на почву анализа и реализма. Реалисты бросили критический взгляд на собственное общество, воспроизводя «обнаженную действительность», в то время как искусствоведы обратились к социальной истории, причем с оглядкой на искусство старых мастеров. Сюрреалисты же, изображая «внутреннюю действительность», пустились на поиски бессознательного. Чуть позднее в искусствознании иконологи стали изучать символы, но бессознательному они неизменно предпочитали культурное знание, а чьим-то иррациональным снам – рациональные элементы традиции.
Таким образом, написаная история искусства формировалась не только в изолированном пространстве чистой науки и не была, как любят думать, следствием исключительно внутреннего развития самой специальности, а отражала споры о своем времени, пусть даже в косвенной или противоречивой форме. При этом во времена раннего модернизма она всегда была ориентирована на абстрактный образ законосообразно протекающей истории и уподоблялась в этом самосознанию художников, которые всегда и при любых условиях хотели творить для будущего объективное и универсальное искусство. Те и другие – историки искусства и художники – равным образом были преданы коллективному идеалу модернизма. И лишь тот читатель, кто со мною в этом согласен, посчитает мой дальнейший анализ вопроса об искусстве и истории искусства осмысленным.
Глава 5
Позднейший культ модернизма: «Документа» и «Весткунст»
Два происшествия отделяют современность от раннего модернизма, и они постоянно влияют как на судьбу искусства, так и на образ написаной истории искусства. Я говорю о «происшествиях», потому что они не были частью внутреннего развития искусства, а обрушились на него извне, отбросив прочь красивую идею преемственности. Первое событие – это художественная политика национал-социалистов, второе, без которого не обходится обсуждение ни одного события XX века, – послевоенная гегемония американской культуры в Европе и за ее пределами. Эти события, радикально изменившие последующее искусство и образ истории искусства в свете модернистского искусства, можно легко объяснить, но не в терминах так называемого закона истории.
Спор о «дегенеративном искусстве» стал лишь апогеем уже давно назревавшей полемики о современном искусстве. ил. 10 Новым же оказался официальный запрет как на само искусство, так и на художественную критику. Модернистское искусство, павшее жертвой национальной художественной политики в Германии, стало героем интернациональной культуры, а художественная критика, которую в Германии (а с начала войны и во Франции) заставили замолчать, выступала в изгнании ее голосом. После войны целью новой историографии стала «реституция» «утраченного модернизма», и в историографии, идеализировавшей прошлое, классическое модернистское искусство приобрело безупречный облик. Оно заняло пространство для отправления культа, где уместно только почитание, но уже не критический анализ.

ил. 10
Посетители у входа на выставку «Дегенеративное искусство» (Entartete Kunst). Мюнхен, Галериштрассе, 4, 1937
Многие забывают, что организаторы первой выставки «Документа» в 1955 году в Касселе показывали вовсе не современное художественное творчество, как это происходит сегодня, – ретроспективно они чествовали как новую классику пережившее времена гонений и уничтожения модернистское искусство. Именно в Германии, c ее разграбленными музейными фондами, захотели вернуть предвоенный модернизм, который Вернер Хафтман[93]93
Вернер Хафтман (1912−1999) – немецкий историк искусства; был (вместе с Арнольдом Боде) организатором первых трех выставок «Документа» в Касселе, директором Национальной галереи в Западном Берлине.
[Закрыть] (организовавший эту выставку вместе с Арнольдом Боде) описал в первом издании своей «Живописи ХХ века» (Malerei im 20. Jahrhundert). Естественно, тогда же пали и национальные барьеры, столь высокие накануне войны, а в центре внимания оказалось европейское искусство в роли победителя над националистическим безумием. Потому и американцы поначалу еще оставались на заднем плане, хотя с 1948 года, с ростом числа выставок (например, в Баден-Бадене), американское абстрактное искусство стало олицетворять идеал свободы новой мировой державы.
Всех, кто сегодня рассматривает фотографии выставочных пространств первых выставок «Документы», столь же впечатляет, сколь и повергает в недоумение аура инсценированного храма. Уже само здание разрушенного войной музея Фридерицианум внушало чувство, что из руин прорастает новая жизнь. На центральной лестнице посетителей приветствовала «Коленопреклоненная» (Kniende) Вильгельма Лембрука, ил. 11 словно и она вместе с собранными шедеврами вернулась домой из изгнания. Модернистское искусство, часто активно выступавшее против господствующей культуры, при взгляде назад представало истинной культурой, которую угнетали в ушедшую эпоху варварства и теперь заслуженно реабилитируют. В той же мере, в какой модернизм страдал от цензуры в эпоху нацизма, он стал превозноситься в послевоенную эпоху. Такую идеализацию нетрудно понять, если смотреть на нее как на желание избавиться от чувства вины и мрачных воспоминаний. Но в то же время в процессе она вытесняла реальную историю и заполняла лакуны очищенной, желаемой и пересобранной версией.

ил. 11
Вильгельм Лембрук. Коленопреклоненная, 1911
Тем не менее критики продолжали быть предвзятыми и, пытаясь выявить в работах классического модернизма образ чистого, невинного искусства, все-таки испытывали сомнения. Они прекрасно помнили былые упреки, что это вырожденческое искусство, иначе говоря, искусство, отражающее разрушенность, болезненность и бездарность – во всяком случае, в том смысле, что оно неспособно выражать идеалы гуманизма. В своем стремлении обрести этот вожделенный идеал власть имущие в Третьем рейхе возвели на пьедестал чистый китч. Теперь же появилась возможность смыть былой позор и реабилитировать скрытые идеалы (человека и искусства), имманентные раннему европейскому модернизму. Но для этого модернистское искусство уже в ретроспективе необходимо было подвести под неуязвимое и однозначное понятие искусства – для этого его следовало бы получше узнать. Его «неуязвимость» заключалась в том, что оно не должно было вызывать никаких сомнений, а «однозначность» предполагала связанность с классическими видами искусства. Поэтому технические средства (фотография) и дадаизм с его социальной сатирой остались на заднем плане – на передний вышел гуманизм в полотнах и скульптурах, не запятнанный никакими коллективными слоганами или верой в машины.
По понятным причинам гуманизм стал важной темой в послевоенное время. Варварство войны и безумие расизма оставили после себя глубокую травму и породили «после Освенцима» острую потребность в гуманистических идеалах. «Дармштадтские беседы»[94]94
С июля по сентябрь 1950 года Новым Дармштадтским сецессионом была организована выставка, которая включала 205 работ модернистского искусства и 90 немецких художников-участников. «Дармштадские беседы» (15 июля – 17 июля) были специальным мероприятием, в рамках которого художникам, искусствоведам и ученым из других областей знания предложили поучаствовать в междисциплинарной дискуссии об образе человека в представленных произведениях.
[Закрыть] 1950 года дали возможность для идейного единения и все-таки закончились полемикой: противники модернизма, в том числе недавно приглашенный в Мюнхен историк искусства Ханс Зедльмайр, подвергли модернистское искусство критике именно за «утрату середины», которая воспринималась ими как утрата гуманистического образа человека. Этот аргумент до странности напоминал идеологию нацистов, хоть и был высказан с христианских позиций. Но и раньше международная критика – и Ортега-и-Гассет, резюмировавший общее мнение термином «дегуманизация», – обвинила искусство в том, в чем по большому счету можно было упрекнуть весь интеллектуальный мир.
Поэтому Вернер Хафтман, выступая с речью при открытии первой «Документы», заявил, что прежней «картины вещей» уже недостаточно, чтобы отобразить сущность человека. Он выступил в защиту так называемого абстракционизма и его антропологической истинности, представив модернистское искусство интеллектуальным и одновременно медитативным. Искусство было великолепным примером новой «сферы переживания» (Erlebnissphäre), в которой человек встречал свою собственную сущность. «Современная картина (das moderne Bild) – это глобальная экспедиция в тотально неизвестное». «Неизвестное искусство» (Das Unbekannte in der Kunst) было также заглавием опубликованной в 1947 году книги Вилли Баумайстера[95]95
Вилли Баумайстер (1889–1955) – немецкий художник-абстракционист и теоретик искусства, автор теоретической работы «Незнакомое в искусстве» (Das Unbekannte in der Kunst), которая была опубликована в 1947 году и положила начало теоретическому осмыслению абстрактного искусства в Европе.
[Закрыть]: автор взывает к неизвестной и неописуемой тайне. Все эти дебаты отражали сознательный, хоть и невысказанный ностальгический взгляд. «Современная картина», пожалуй, была модернистской (modern) в смысле эпохи, но современной (zeitgenössisch) не была.
Если первая «Документа» проходила с программой под названием «Это – история» (This is History), то год спустя в лондонской галерее Уайтчепел открылась выставка английского поп-арта под дерзким названием «Это – завтра» (This is Tomorrow). При этом СМИ, от которых «икону модернизма» бережно охраняли в Касселе, были впервые допущены до высокого искусства – это было ответом на призыв о том, что искусство должно открыться для популярной культуры (popular culture). Но с ракурса «Документы» массовая культура оппонировала культуре обычной: ее трактовали как контркультуру, хотя и не в том смысле, какой предложил Жан Дюбюффе в своей лекции «Антикультурные позиции» (Anticultural Positions), прочитанной в 1951 году в Чикаго. В Англии Ричард Гамильтон требовал разрыва с чисто формальной эстетикой, а Лоуренс Аллоуэй, участник «Независимой группы» (Independent Group), призывал ориентироваться на демократические СМИ. Дюбюффе же брал за образец «примитивные культуры» с тем, чтобы дать им новую жизнь в виде ар-брюта, заявляя: «Наша культура – это одежда, из которой мы уже выросли. Она словно мертвый язык и, как культура мандаринов, чужда реальной жизни». Это было сказано целиком в духе модернизма, но с одной неожиданной особенностью: теперь мишенью для атаки оказалась культура традиционного модернистского искусства.
Как только открылась первая «Документа», знатокам искусства стало очевидно, что здесь творят канон, а значит, без возражений не обойтись. Модернизм, уже ставший историческим, объявили вневременным идеалом, с которым могут отождествлять себя «модернисты», но в процессе они превратились в хранителей новой традиции. Прежде всего, встал насущный вопрос о том, что будет дальше, ведь модернизм уже исполнил свою роль в истории. Собственно, достаточно было держаться официального идеала модернизма, который в виде абстракционизма, казалось, уже утвердился во всем мире и теперь должен был «запустить» идею континуальности. Но последующие «Документы» шаг за шагом смещали эту перспективу и способствовали беспрестанным корректировкам, приведшим к ощущению неопределенности и пониманию необходимости нового синтеза. Видимо, неслучайно через двадцать пять лет этот синтез вновь был реализован в Германии.
Выставка, состоявшаяся в 1981 году в Кельне под названием «Западное искусство» (Westkunst), по воле ее кураторов Ласло Глоцера и Каспера Кёнига показывала «современное искусство с 1939 года», то есть с того момента, на котором остановилась первая «Документа». Жалобы «свежего» модернизма на то, что его не историзируют, из довоенного искусства распространились на искусство послевоенного времени – в результате он был включен в канон как вторая волна модернизма. Правда, выдвигая свои претензии, устроители выставки противоречили самим себе, ведь в итоге «современное искусство» у них охватывало период до 1972 года – а художники-современники получили право голоса только на альтернативной выставке «Сегодняшнее искусство» (Heute-Kunst). Все-таки задача заключалась в том, чтобы внушить мысль, что универсальный модернизм продолжается, – мысль, которая уже в то время казалась спорной.
Формирование канона было осложнено обстоятельством, с которым в пору своего зарождения модернизм не сталкивался: в этот раз не случилось никакого перелома, конфликта, то есть не было факторов, благоприятных для критической дистанции, способствующей тому, чтобы он мог оказаться на особом счету у публики. Организаторы выставки прилагали огромные усилия в стремлении донести до каждого зрителя идею, что история искусства идет своим чередом. Мало того, что были выставлены произведения, ключевые для искусства, но даже были реконструированы экспозиции, вошедшие в историю, – так, Ричард Гамильтон и Йозеф Бойс взялись восстановить собственные ранние выставки. История и выставка в истории здесь слились в единый проект, который преследовал противоречивую, но вполне понятную цель: с одной стороны, возвести второй модернизм в ранг истории, с другой – восславить его как живое настоящее.
В этом свете проект 1981 года напоминает первую «Документу» – ее целью тоже было установление канона. Выставка 1955 года так же канонизировала конкретную интерпретацию истории искусства с тем, чтобы определять общественное мнение. Название «Весткунст» оказалось синонимичным второму модернизму, идущему вслед за первой «Документой» как вторая глава великого эпоса. Но эта аналогия была просто новым случаем, когда желаемое принималось за действительное (так же как и во время первого модернизма), а по сути оказалось, что ретроспектива была просто поставлена в правильное освещение. То, что скрывалось под новым названием, по факту было намного более гетерогенным и противоречивым, чем это кажется теперь, да и выбор работ был поспешным. Эти факторы и повлияли на то, что «Весткунст» стала менее успешной, чем ранние «Документы» – даже если опустить тот факт, что первые успехи были обусловлены настроением времени.
При этом название «Весткунст», не объясненное в каталоге, столь же важно, как и отсылки к 1939 году. В 1981 году «западное искусство» пока не противопоставлялось «восточному» (то есть искусству Восточной Европы – как это дифференцируется сегодня), поскольку Восточная Европа не представляла всеобщего интереса. Скорее имелось в виду Western art – расхожее выражение американцев. А 1939 год, который взяла за старт выставка, был ознаменован большой волной эмиграции европейских художников в США. Тогда же началась и эмансипация молодых американцев, нашедших своеобразие в «новой живописи» (new painting), если использовать термин Барнетта Ньюмана. Таким образом, понятие «Весткунст» – «западное искусство», интегрировало в европейский модернизм американское искусство – и дало название примечательному симбиозу, который в послевоенный период все больше определял происходящее.
Тогда, сразу после войны, судьба модернистского искусства казалась неопределенной даже на ближайшее будущее, во всяком случае в Германии, где эта традиция была прервана больше чем на десятилетие. Приверженцы и противники прерванного модернизма начали вести дискуссию о принципиальных вопросах и традиционных ценностях, и ее исход было невозможно предсказать. Сначала казалось, что возвращение к архитектуре Баухауса и абстрактной живописи, реимпорт которых шел из США, сведется к попытке реставрировать модернизм, – это говорило бы о внутренней противоречивости данного процесса. С тех пор страх утратить модернизм (куда более эпизодичный, чем нам кажется) возникал неоднократно. Он влияет и на ход дебатов о постмодернизме, особенно в Европе, где бытует мнение, что вместе с модернизмом будет утрачена и культурная идентичность.
Глава 6
Западное искусство: вторжение США в послевоенный модернизм
Вскоре после 1945 года вторую волну абстракционизма возглавили американцы, которые до тех пор вообще не были представлены в историографии модернизма. Они чувствовали себя свободнее европейцев, имея дело с историей искусства, и теперь все-таки решили стать ее частью. Направления искусства, играющие в Новом Свете хоть какую-то роль, как правило, либо отставали от Европы на целое поколение, либо носили принципиально иной характер. Хороший пример – примитивизм, который в США приобрел значимость только на рубеже 1930-1940-х годов и существенно отличался от примитивизма, пленившего парижских художников 1910-х. С 1930-х годов Адольф Готлиб – впоследствии один из главных представителей абстрактного экспрессионизма – собирал коллекцию африканского искусства. В 1989 году эта коллекция вместе с его собственными полотнами была выставлена в Бруклинском музее под заглавием «Образ и отражение» (Image and Reflection: Adolph Gottlieb's Photographs and African Sculpture). ил. 12 При этом африканские «модели» выставили в том же порядке, в каком они были запечатлены на фотопортрете художника – с той разницей, что «примитивы» для выставки американского искусства собирали, уже не покидая континента.

ил. 12
Адольф Готлиб и его коллекция. Фото Аарона Зискинда, 1942. Буклет к выставке «Образ и отражение». Нью-Йорк, 1989–1990
В обращении к искусству американских индейцев (Indian art) или вообще искусству доколумбовой Америки – Барнетт Ньюман выставлял его уже в 1944 году – содержался протест против тех европейских традиций, от которых хотели отмежеваться художники Нового Света. «Идеографическая картина» (Ideographic Picture), какую они пропагандировали на групповой выставке в 1947 году, наследовала «искусству коренных народов» (native art), в прошлом имевшего доступ к истинным мифам жизни. В отношении него Барнетт Ньюман применил эпитет «возвышенное», когда в 1948 году писал о «крахе европейского искусства», который обнаруживал себя как в геометрическом абстракционизме, так и в сюрреализме – двух ведущих течениях европейского искусства. Он также призвал к «освобождению от бремени европейской культуры» без примыкания к «профессиональным американистам», как он презрительно называл патриотические течения 1930-х.
Теперь оказалось недостаточным просто предложить тихую гавань для международной культуры, в которой бы доминировали эмигранты из Старого Света. Американские художники хотели возглавить интернационал искусства. В этой связи основанная в 1940 году Американская федерация современных художников и скульпторов (American Federation of Modern Painters and Sculptors) «проклинала всякий художественный национализм» и призывала собственную страну «наконец усвоить культурные ценности в поистине глобальных масштабах». Художественные критики – в числе коих был и Клемент Гринберг – поддержали кампанию, целью которой было дать возможность американцами осознать собственную значимость, и обеспечили ее необходимой аргументацией. То, какой травматический опыт этому препятствовал, можно узнать из замечательной биографии Джексона Поллока, написанной Стивеном Найфи и Грегори Уайт Смитом[96]96
Грегори Уайт Смит (1951–2014) – американский биограф Джексона Поллока и Винсента Ван Гога; обладатель Пулитцеровской премии в категории «биография и автобиография» (1991).
[Закрыть]. По их мнению, Поллоку было на роду написано стать «американским Пикассо».
Понятием «второй модернизм», часто используемым в другом значении (достаточно упомянуть Генриха Клоца, который определяет им поздний модернизм после трансформации его мультимедийной культурой), можно легко обозначить послевоенную эру, когда модернизм начался еще раз – на сей раз не в Европе, а в США. В то время в Америке возникло масштабное движение, которому предстояло дать ход истинно американскому модернизму и которое поначалу старалось дистанцироваться от европейской сцены, где первый акт модернизма закончился при драматических обстоятельствах. Эта дистанция ощущается и в инсталляции Джорджа Сигала, изобразившего в 1967 году нью-йоркского галериста Сидни Джениса с подлинным полотном Мондриана – его Дженис еще в 1933 году купил у художника. ил. 13 Эта работа оказалась за рамками привычного образа коллекционера, и этим она выявила принципиальное различие между европейским и американским модернизмом, заключающееся не только в разности жанров, но и в полярности концепций искусства. Новый американский реализм пришел на смену европейской геометрической абстракции, которая – как вид исторической иконы – превратилась в цитату внутри инсталляции.

ил. 13
Джордж Сигал. Портрет Сидни Джениса с картиной Мондриана (Portrait of Sidney Janis with a Mondrian), 1967. Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йорк. Коллекция Сидни и Харриет Дженис
Тем временем события в искусстве периода окончания войны, многократно пересказываемые, были включены в миф о модернистском искусстве и напоминали американцам о героическом миге их культурного прорыва, тревожно совпавшем с политическим и экономическим подъемом и получением Соединенным Штатами статуса мировой державы. Это внушало беспокойство, потому что культурный успех никогда не хочется объяснять экономическими и политическими причинами. Американский модернизм вывел культуру на интернациональный уровень, а Европа стала довольствоваться ролью второй скрипки и, скорее, просто реагировала. Лишь теперь в обоих полушариях Земли история искусства начала развиваться симультанно, и вскоре возникло впечатление, что осталась лишь одна-единственная культура, связанная с общим рынком.
И все же еще некоторое время ход событий определял диалог между Старым и Новым Светом. Казалось, в Европе авангард все успешней отрывается от истории искусства и тем не менее (или именно поэтому) ведет искусство к цели – освобождению. Новый «час ноль» в искусстве наступил в 1960-м, когда немецкая группа Zero представила искусство, казалось, выходящее за пределы абстракционизма, – «абсолютное искусство», в котором идея и произведение сливались воедино. Это было благодарное время, когда верили, что избавляются от формы, а Ив Кляйн вселял надежду, что история искусства достигла своей цели и все исторические изменения прекращаются. Но эта утопия оказалась всего лишь новым миражом.
Известный художественный критик Пьер Рестани в 1960 и 1961 годах предпринял отчаянную попытку разграничить искусство Старого и Нового Света. Представители «нового реализма» (le nouveau réalisme) во Франции, чей голос он представлял, скоро втянулись в безнадежное состязание с нью-йоркскими поп-артистами, которых какое-то время (вопреки их желанию) называли неодадаистами. Казалось, идеал тех и других – реди-мейд, понимавшийся уже не как «апогей отказа» от занятия искусством, а как новое средство выразительности, в котором «реальность обгоняет вымысел». В 1961 году на общей выставке французов и американцев Рестани всячески старался дифференцировать своих соотечественников от «романтичных» американцев с их «модернистским объектным фетишизмом».
Год спустя спор разрешился в пользу американского поп-арта, когда в галерее Сидни Джениса – того самого, которого я упоминал в контексте инсталляции Сигала, – еще раз были выставлены обе группы под европейским названием «Новые реалисты» (The New Realists). Каталог рекламировал новое «интернациональное искусство», которое как разновидность «городского фольклора» произрастало из той самой глубоко презираемой Рестани массовой культуры. Популярный образ (popular image) начал свое победное шествие с передвижных выставок 1963 и 1964 годов, но в них европейскими оставались уже только термины, и те – лишь на какое-то время. Поп-арт, поначалу ложно понимавшийся в Европе как критика потребления, снес барьеры между повседневностью и культурой – при том, что в 1956 году историк искусства Мейер Шапиро в своем панегирике абстракционизму назвал их непреодолимыми. «Тотальное искусство» европейцев стало собственной противоположностью, как только американское искусство апроприировало образы масс-медиа. С тех пор происходящее в искусстве уже нельзя было делить между двумя культурами (возможно, это разделение еще даст о себе знать в будущем).
Двадцать лет спустя, в 1981 году, был предпринят первый бунт против господства США: на выставке «Новый дух в живописи» (A New Spirit in Painting) в Королевской академии в Лондоне – которая через год была повторена под названием «Дух времени» (Zeitgeist) в Берлине – провозгласили возвращение центральноевропейской экспрессионистской традиции. Американцы там были в явном меньшинстве, а американских критиков обвиняли в упорном отстаивании ортодоксальной позиции: «Все, что создавали нью-йоркские художники, они объявляли искусством универсальных ценностей, по сравнению с которым остальное в лучшем случае могло считаться провинциальным». Однако на «Документе» в Касселе и на Венецианской биеннале по-прежнему показывали единую культуру западного мира. Организаторы выставок, вроде «Бинационале» (в 1988 году на ней представляли немецкое искусство в США и американское – в Германии), регулярно делали неловкие попытки определить относительно друг друга две культуры, которые в искусстве довольно часто выглядели похожими как две капли воды, но громогласно заявленное «бракосочетание» неравных партнеров делало все подобные поползновения бессмысленными. Уже в 1986 году Дональд Каспит[97]97
Дональд Каспит (род. 1935) – американский искусствовед, поэт, известный психоаналитической художественной критикой; исследовал авангардную эстетику, постмодернизм, концептуальное и современное искусство.
[Закрыть] говорил в журнале Artscribe International о «мифе интернационализма».
С возникновением идеи единой западной культуры вдруг исчез образец господствующего художественного стиля, всегда репрезентировавший то или иное поколение. Вероятно, в рамках сюжета евро-американского искусства выделить что-то одно было просто невозможно. Искусство усвоило одновременно несколько направлений, которые в принципе исключали друг друга и обычно совсем не подходили для того, чтобы стать единым принципом. Ритм художественных проектов ускорялся, а история искусства приходила в полное расстройство. Она была вынуждена постоянно реагировать на то, как само искусство непрерывно меняет свое направление. Парадоксально, что при этом с установленными образцами исторического повествования по-прежнему считались – несмотря на то, что диапазоны между изменениями внутри искусства стали намного короче, а конкретное направление задавало общий тон максимум на два года. В контексте отдельных событий это привело к тому, что искусствоведение все больше теряло представление о том, что происходит в искусстве в общем. С 1960 года какое бы явление ни оказывалось на сцене, оно не успевало исчерпать весь потенциал – а часто даже не получало развития – до окончания своего «срока годности», который маркировали галеристы, анонсируя следующий тренд. Критики, в свою очередь, зачастую оказываются не в состоянии идти в ногу с арт-рынком и поэтому многие из них просто капитулируют и, наблюдая за его движением, примеряют на себя роль рыночных аналитиков.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































