Текст книги "Томас Невинсон"
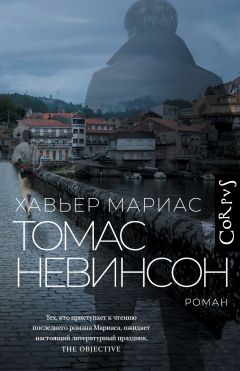
Автор книги: Хавьер Мариас
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Право выбрать место встречи я предоставил ему, хотя на сей раз это он хотел со мной увидеться, но трудно было пренебречь законами иерархии, даже если подчиненный перестал уважать шефа, презирает его, чувствует себя оскорбленным и не забыл старой обиды. Меня удивило, что Тупра предложил для разговора, несмотря на зиму, сквер (дело было 6 января 1997 года, в День волхвов, но для него не существовали испанские праздники, он о них ничего не знал и, естественно, с ними не считался), расположенный ближе к моему дому на улице Лепанто, чем к району, с которым его самого могли связывать дела во время краткого пребывания в Мадриде, то есть к британскому посольству. Во время нашего предварительного разговора он не сказал ничего, что не имело бы прямого отношения лично ко мне: не дал номера своего телефона, не упомянул названия гостиницы, в которой остановился, хотя, возможно, ему дали в посольстве комнату, предназначенную для важных гостей, или он оккупировал квартиру какого‐нибудь сотрудника британского консульства либо преподавателя Британской школы, где я учился до четырнадцати лет, после чего перешел в школу “Студия”, которую Берта посещала с первого до последнего класса, – там мы с ней и познакомились.
Тупра был персоной влиятельной, как я считал, и не только в своих кругах и в своей стране, где занимал более высокое положение, чем представители почти любой видимой властной структуры, – выше, разумеется, любого полицейского чина, в чем я смог убедиться еще в Оксфорде на примере сержанта Морса – кажется сержанта, – а может, и выше тех военных, кому положено открыто носить форму; я никогда не знал звания Тупры – не знал раньше, не знаю и теперь (но думаю, за несомненные заслуги его не раз повышали), хотя внешне он выглядел человеком сугубо штатским. А что касается невидимой власти и тех начальников, что редко покидают свои устланные коврами кабинеты, то Тупра, надо полагать, часто водил их за нос или предпочитал не консультироваться с ними, если догадывался, что ответом ему будут скептически поднятые брови и долгое молчание, равнозначное отказу. А кроме того, этим начальникам всегда очень удобно, когда подчиненный действует на свой страх и риск, или нарушает приказы, или не задает неприятных вопросов, чтобы потом, если дело закончится провалом либо громким скандалом, можно было вполне искренне заявить, что они ни о чем подобном даже не слышали.
Тупра был влиятельной персоной и в большей части Европы, и в Содружестве наций, и, возможно – кто знает? – в Соединенных Штатах, а также в союзных азиатских государствах. Он предпочитал не раскрывать своего местонахождения, чтобы его не застали врасплох, и по мере необходимости сам выходил на связь: появлялся неизменно своевременно, управлял ходом событий и брал инициативу в свои руки. Он терпеть не мог, когда его о чем‐то просили или сообщали о непредвиденных проблемах, зато сам то и дело о чем‐то просил других или ставил в тупик, требуя едва ли не подвигов и давая соответствующие инструкции.
В маленький и уединенный сквер, расположенный рядом с Соломенной площадью, я пришел раньше Тупры и сел на одну из двух каменных скамеек без спинки. Сквер выглядел зеленым пятачком в центре старого Мадрида, который называют “Австрийским”. Как мне теперь кажется, это вряд ли был сад Принца Англоны, открытый для публики лишь несколько лет спустя, хотя моя ненадежная память указывает именно на него (память играет со мной все более неприятные шутки: отдельные имена, факты и детали я воспроизвожу с фотографической точностью, а другие, относящиеся к тому же периоду, покрыты густым туманом). День был холодным, и я надел кепку с длинным козырьком, скорее в голландском или французском стиле, чем в испанском или английском, и она, по словам Берты, делала меня похожим на моряка. В мои сорок пять лет лысина мне еще не угрожала, нет, даже намека на нее не было, а вот залысины уже наметились, хотя их вполне можно было назвать интересными, и они, к счастью, не увеличивались, однако волосы в целом стали редеть. Кепку я снимать не стал – мы ведь находились под открытым небом, хотя я до сих пор не избавился от вежливой привычки непременно снимать головной убор в помещении, если, разумеется, не играл роль какого‐нибудь грубого и невоспитанного типа. При такой температуре отсутствие публики в сквере совсем не удивляло, а удивило меня скорее то, что он был открыт, хотя вряд ли Тупра заранее это проверил. По расположенной рядом Соломенной площади люди прогуливались целыми семьями, дети хвастались полученными к празднику подарками, а некоторые взрослые держали в руках хорошо упакованные “пироги волхвов”. На паре ресторанных террас вокруг столиков расставили стулья, хотя сезон был для этого совсем неподходящим, однако мадридцев отличает любовь к уличной жизни, Мадрид не терпит сидения в закрытых помещениях, и многие, одевшись потеплее, выбирали именно террасы для позднего завтрака или аперитива. День волхвов – праздник неспешный и довольно тихий.
Несколько минут спустя в парк вошла женщина, одетая по‐зимнему, во всяком случае на голове у нее была шерстяная шапка; с первого взгляда я дал женщине лет тридцать. Она быстро и с легкой досадой глянула на мою скамейку – словно я вторгся на чужую территорию – и направилась ко второй скамейке, стоявшей чуть поодаль. Я увидел ее голубые глаза, увидел, как она достала из сумки томик “Библиотеки Плеяды”, которую легко узнает каждый, кто имел с ней дело. Из чистого любопытства я попытался определить, что это за книга, и, прежде чем женщина взялась за чтение, разглядел портрет автора: кажется, это был молодой Шатобриан с романтически растрепанной шевелюрой, а значит, читала она “Замогильные записки”. Я, естественно, заподозрил, что любительницу чтения прислал сюда Тупра – в качестве прикрытия или для подстраховки; он был предусмотрителен и педантичен несмотря на то, что привык всегда идти напролом, и несмотря на свои грубые и даже задиристые манеры: он ведь, как и я, учился в Оксфорде и осваивал там историю Средних веков, о чем однажды сообщил мне не без гордости, которую, как ни старался, не мог скрыть. Поступить в такой университет было для него, думаю, настоящим подвигом, если учесть, из какой среды он, скорее всего, вышел. Но и слишком уж хвастаться Тупра вроде бы не хотел: “Это помогло мне лучше узнать людей, ведь нынешние, хотя и отличаются от средневековых своей повседневной жизнью и более цивилизованным поведением, все равно в решающих ситуациях мигом способны превратиться в дикарей, а мы с тобой сталкиваемся именно с подобными ситуациями – и куда чаще, чем большинство наших сограждан. Но я никогда не занимался наукой профессионально, это мне не по зубам”. К тому же Тупра был учеником профессора Уилера, но не в научном смысле, а в более широком и глубоком, в том, что касалось формирования личности.
Одинокая женщина, которая читает по‐французски Шатобриана недалеко от Соломенной площади в январе месяце (она сняла с правой руки шерстяную перчатку, так как иначе не смогла бы перелистывать тончайшие страницы “Плеяды”), – это выглядело как спектакль или заранее подготовленная tableau vivant[4]4
Живая картина (франц.).
[Закрыть], а может, как предупреждение, хотя и весьма замысловатое и не слишком внятное: чтобы еще до встречи с Тупрой я задумался о замогильном мире, где вроде бы уже провел много лет, по крайней мере так считали мои близкие и мои враги, те, кого я обидел, кто хотел бы меня уничтожить, желая отомстить или восстановить справедливость (а пострадавший редко разделяет две эти причины), кто меня разыскивал и преследовал. Ладно, если речь действительно шла о маловероятном и изощренном предупреждении, то я его получил и принял к сведению, во всяком случае, мысль о загробном мире сразу запала мне в голову. Женщина погрузилась в чтение и, пока я ждал Тупру, больше ни разу не посмотрела в мою сторону.
Он явился с опозданием на семь-восемь минут, что тоже было для него характерно – Тупра всегда заставлял себя ждать, но не слишком долго, хотя бы немного. На сей раз пальто он надел как положено и застегнул на все пуговицы, а не накинул, по своему обыкновению, на плечи, поскольку в Мадриде часто бывает гораздо холоднее, чем в Лондоне. Темное пальто доходило до середины икры, как было модно в семидесятые и восьмидесятые годы, дополняли его светло-серый шарф и черные кожаные перчатки, такие же как у меня, – мы были одеты почти одинаково. Шагал Тупра решительно и в то же время беззаботно, словно взял за правило никогда не спешить, а весь мир должен замереть в ожидании, пока этот тип вникнет в каждое из дел, которые ему предстоят. Да и с чего бы его походке утратить уверенность? Он был всего на несколько лет старше меня. Правда, хорошо зная Тупру, я мог бы сказать, что он обогнал меня на несколько жизней. Теперь, пожалуй, уже не настолько, как раньше, ведь я тоже прикопил себе пару-тройку с тех далеких-далеких пор, а одну жизнь, или пару, даже успел потерять, когда меня объявили умершим in absentia[5]5
Смерть in absentia – признание официальными инстанциями (обычно по решению суда) презумпции (не факта) смерти физического лица при отсутствии его опознанного тела.
[Закрыть] и Берту официально признали вдовой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Едва Тупра вошел в сквер, я опять глянул на девушку. Но она не подняла глаз, чтобы оценить нового человека, покусившегося на ее владения, и это утвердило меня в мысли, что им же самим она и была сюда прислана. Зачем? Кто же знает? Возможно, не доверял мне – ведь я мог перемениться. Он сел рядом со мной, расстегнул нижние пуговицы пальто, чтобы можно было свободно закинуть ногу на ногу, достал сигарету, закурил, все еще не произнеся ни слова, даже не поздоровавшись (он всего лишь мотнул в мою сторону подбородком), как если бы с нашей последней встречи прошло не более недели. Как если бы он видел меня каждый день наравне с другими своими сотрудниками. Но я перестал быть его сотрудником в 1994 году, навсегда перестал.
– Мне нравится брать на заметку всякого рода штампы, – сказал он наконец. – Ты когда‐нибудь обращал внимание, что в шпионских фильмах герои всегда словно случайно садятся рядом на одну и ту же скамейку? Хотя поблизости стоят еще пять совершенно свободных. Это очень смешно. Здесь по крайней мере картина другая.
II
“Где колокол по гибнущим как скот?” – это первая строка знаменитого стихотворения, написанного в 1917 году, знаменитого в Англии и написанного одним из тех юношей, которые уходят из жизни в двадцать с небольшим лет и погибают как скот[6]6
“Гимн обреченной юности” Уилфреда Оуэна (1893–1918), английского поэта, погибшего в последнем бою Первой мировой войны. Здесь и далее цитируется в переводе С. Сухарева.
[Закрыть]. Присутствие Тупры почти всегда возвещало смерть, или было с ней связано, или напоминало о ней – о какой‐нибудь прошлой или будущей смерти, случившейся или ожидаемой, о той, которая грозит нам или которую несем кому‐то мы сами, то есть о смерти от наших собственных рук, но так бывает редко: чаще мы виновны в чужой смерти косвенно – просто шепотом отдаем кому следует нужный приказ. Жертвы Тупры не умирали как скот, ведь в мирные дни такое, повторяю, случается редко, а у нас сейчас вроде был мирный период, хотя Тупре казалось, будто мы постоянно находимся в состоянии войны, только вот люди почему‐то этого не сознают. А чтобы они о войне не догадались, как и вообще почти ни о чем, и продолжали заниматься своими обычными делами, своими бедами и печалями – днем и ночью, ночью и днем, – нужны такие типы, как он или я (каким я был в моей прошлой жизни), нужны часовые, которые никогда не спят и никогда никому не доверяют. Для Тупры ничего не значит строка из Псалтири: “…Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж”. Тупра знал, что ничего Бог не охранит, поскольку никакого Бога нет, а если бы Он даже и существовал, то был бы рассеянным и сонливым, зато настоящий часовой никогда не только не дремлет, но и не отдыхает, потому что только он один способен защитить Королевство, один или со своими людьми.
У мертвецов, которых оставлял на своем пути Тупра, всегда имелось конкретное лицо, да, у каждого, хотя в силу обстоятельств не всегда имелось имя, по крайней мере настоящее, полученное при рождении; этих людей заранее отмечали галочкой и назначали мишенью, им выносился приговор в каком‐нибудь кабинете или кабаке, и поэтому они умирали поодиночке и заслуживали похоронный звон, и поэтому колокола звонили по каждому – у них на родине, в их доме, там, где каждого любили, несмотря на совершенные ими преступления или как раз за то, что они их совершили, как, возможно, звонили по Гитлеру в его родном Браунау, или Штайре, или Линце, где он ходил в школу; там кто‐нибудь, пожалуй, вспомнил, каким фюрер был в детстве, и тайком о нем всплакнул. Этих покойников не забывали и ни с кем не путали, с каждым при его жизни ты мог встречаться или даже почти искренне дружить, мог обмениваться анекдотами и воспоминаниями, реальными или выдуманными. Стихотворение заканчивается так:
Покров для них бледней лица девицы,
Цветы – лишь взглядов нежных вереницы.
Спускает вечер с неба шторы до рассвета,
Но под землей никто уж не увидит света.
Какие шторы собирался спустить в Мадриде Тупра, он же Рересби и он же Юр? И какая разница, в какое окно или в какую балконную дверь он хотел прицелиться? Каким лицам будет суждено побледнеть по его приказу, отданному в этот холодный праздничный день? – невольно спросил я себя. Наверное, как внешне, так и внутренне, он остался прежним – часовой не позволяет себе изменяться, иначе город падет или будет захвачен врагом; скорее всего, Тупра не постарел ни душой, ни характером, по крайней мере пока не постарел, а в тот день, когда утратит боевую готовность, сумеет достойно отойти от дел. Если он захотел увидеться со мной, если назначил встречу в месте, где нас никто не сможет подслушать, значит, что‐то решил мне поручить, чтобы я перестал быть absentee, то есть “отсутствующим”, как называют отставных агентов, которые тем не менее продолжают что‐то получать от организации, получать, хочу сказать, в денежном плане, благодаря чему им не приходится плыть по течению на свой страх и риск. Тем, кто достиг положенного для отставки возраста, платили положенные деньги, а кого‐то переводили на более спокойные должности с приличным жалованьем – это касалось тех, кто был сравнительно молод, но выдохся, отчасти охладел к работе и перестал приносить прежнюю пользу. (Британские секретные службы бравировали тем, что никого не выбрасывают за борт, даже о предателях в какой‐то мере заботятся, если прежде те добросовестно выполняли свой долг.) По моему личному мнению, никто не может сохранить молодые силы после десяти или двадцати лет активной службы, если только человек не жалел себя: некоторые изматывались настолько, что их отправляли на кабинетную работу, и в свои тридцать пять или сорок лет такой мог разрыдаться, сидя за столом и прямо на глазах у коллег, – без видимой причины, не услышав ни от кого дурного слова, как это бывает со стариками, у которых слезы текут из‐за любой ерунды, скажем, когда они смотрят фильм или слушают музыку, испытывая внутреннее и непонятное окружающим волнение, из‐за тайного воспоминания или всего лишь при взгляде на ребенка: “Радуйся жизни сейчас, пока ты ничего о ней не знаешь и еще не успел ничего сделать, не успел никому причинить зла, хотя сам его, возможно, на себе уже испытал, поскольку зло угрожает нам с самого рождения. Ты этого не знаешь, но придет время, когда и ты станешь таким же старым, как я, а пока даже не понимаешь, что значит быть старым, или веришь, будто с тобой такого никогда не случится, если только ты о подобных вещах задумываешься, глядя на меня, или на твоих бабушку с дедушкой, или на других стариков «с пеплом на рукаве»[7]7
Т. С. Элиот. Литтл Гиддинг. Здесь и далее Элиот цитируется в переводах А. Сергеева.
[Закрыть], сидящих на скамейках в парке. И уж тем более ты не можешь вообразить, что колокола зазвонят по тебе, что из‐за тебя спустят шторы, если эти старые обычаи к той поре еще сохранятся, они ведь уже и сейчас мало что значат; возможно, их соблюдают лишь в маленьких городках и поселках, где так мало людей, что каждый на счету, и все сразу замечают, когда кто‐то уходит из жизни. Пользуйся тем, что ты полон сил и наивен, что мало кто может тобой управлять, тебе дают очень простые поручения и не тревожат твою совесть. Пользуйся тем, что ты не знаешь, кто ты есть и каким станешь, что у тебя пока нет этой самой совести, или она еще не проклюнулась и только формируется, но, к сожалению, никто не сможет этот процесс остановить. Она выковывается очень медленно, так что наслаждайся тем долгим отрезком пути, когда ты ни перед кем не отчитываешься и не выслушиваешь упреков”.
– Если говорить о скамейках, то шпионы так поступают, чтобы никто их не подслушал, – ответил я Тупре. – Под открытым небом нет спрятанных микрофонов, если, конечно, микрофон не принесет с собой один из них, но мы‐то не устраиваем ловушек друг другу, правда? Особенно если работаем вместе ради общей цели. Совсем другое дело, когда кто‐то из двоих не служит, когда он отказывается служить. – Я не упустил случая намекнуть на давнишний обман, однако он пропустил намек мимо ушей, поскольку для него та старая история не имела никакого значения, да и при всем желании он не смог бы меня понять, зная за собой десятки похожих поступков. – Зато в любом помещении можно спрятать хитроумные устройства. В баре или кафе, если, конечно, подготовиться заранее. Наверное, поэтому ты и выбрал это место – оно хоть и находится в самом центре города, но мало кому знакомо. Я, например, живу рядом, но никогда здесь не бывал, даже не знал о его существовании. – Затем я кивнул в сторону девушки с книгой: – Только она одна и представляет собой некую опасность, правда, сидит довольно далеко от нас, а еще, кажется, слишком увлечена Шатобрианом. Если она и бросила на меня косой взгляд, то лишь потому, что предпочла бы, чтобы никого тут не было, чтобы сесть на эту скамейку. Хотя ее скамейка стоит на солнце, а это для января – большое преимущество. Пожалуй, девушка либо слишком привередлива, либо стала рабой своих капризов.
Я несколько раз употребил слова “мы” и “нас”, то ли давая ему понять, что не потерплю ни обманов, ни полуправды, то ли просто по старой привычке. От некоторых привычек трудно отделаться, если они сопровождали тебя целую жизнь, когда ты ощущал себя частью этого “мы”, даже оставаясь наедине с собой, куда бы ни заносила тебя судьба. “Мы” придает смелости и силы, помогает почувствовать рядом воображаемое плечо товарища и рассеивает предрассудки или, по крайней мере, дает право переложить часть ответственности на других. Для меня Тупра был включен в это “мы” с первого до последнего дня. По правде сказать, “мы” вырвалось у меня невольно, словно я еще не ушел от них, не стал в буквальном смысле “отсутствующим” и не был два последних года всего лишь жалким одиноким “я”, сломленным и растерянным, а еще – тоскующим по прошлому.
– Как это ты умудрился разглядеть, что она читает? Без бинокля? Хороший признак – значит, еще не утратил прошлых навыков, я рад.
– В этом нет ничего особенного, Тупра. Кто она такая? Тебе это должно быть известно.
– Мне? Не выдумывай, Том, так мог решить только человек, далекий от наших дел. – Тут он меня подколол, но я сам подставился. – Понятия не имею, кто она такая. Просто образованная мадридская девушка, каких можно встретить где угодно.
Я посмотрел на него, потом на нее. Потом опять на него, потом опять на нее, но лишь краем глаза. Разумеется, они были знакомы. Более того, девушка с такой внешностью просто не могла не привлечь его внимания. Хотя его внимание привлекали многие женщины – с самой разной, но отнюдь не с любой внешностью: порой он запросто мог изобразить безразличие или обидное пренебрежение – а его голубые или серые, но совсем не английские глаза, под блеклостью которых таилась откровенная наглость, без утайки выносили свой приговор, не пытаясь его смягчить. В общем и целом он всегда казался мне человеком скорее южного, чем северного темперамента, если судить по цепкому и пытливому взгляду, по пухлым рыхловатым губам, густым ресницам, темным как сажа бровям, пивному оттенку гладкой кожи и пышной шевелюре с завитками на висках – больше подходящей для кантаора[8]8
Кантаор – певец в стиле фламенко.
[Закрыть]. Он, кстати сказать, так и не пожелал объяснить мне, откуда происходит его фамилия, если, конечно, она была настоящей.
– А теперь говори, что тебе от меня нужно. О какой услуге идет речь? И о каком испанском друге? Об отце этой любительницы чтения? Ее муже, начальнике, милом друге? Ведь нам с тобой говорить больше не о чем. Да и об этом вряд ли стоит. Если честно, я и сам не знаю, зачем пришел.
Мне трудно было держаться с ним враждебно, как я ни старался. Он мерзко поступил со мной в годы моего студенчества, но вернуться в прежнюю шкуру я уже не мог. Слишком давно это было, и я стал совсем другим – убежденным сторонником своего дела, усердным и искушенным, к тому же почти фанатиком этого самого “мы”. Стал английским патриотом, хотя все‐таки был и остался испанцем. Я не смог бы уверенно сказать, когда и по какой причине произошла эта перемена, это обращение, но тут, наверное, следовало видеть естественный результат особого характера моей работы: я вдруг обнаружил, что стал именно таким. Ты начинаешь служить некоему делу вроде бы против воли, но время спустя чувствуешь, что тебя оценили и ты на этом месте приносишь пользу, после чего раз и навсегда перестаешь задаваться вопросами о смысле своей службы, ты просто принимаешь ее, как с радостью принимают наступление каждого нового дня, потому что она придает смысл твоей жизни и житейской прозе. Всякий человек таит в душе верность хотя бы чему‐нибудь одному; и даже тот, кто в силу своей профессии или из принципа вообще никакой верности не признает, все равно приберегает для нее у себя внутри некий пустой закуток, настолько глубоко запрятанный, что и сам хозяин про его существование порой не знает и обнаруживает неожиданно и с опозданием. Это может быть верность конкретному человеку, или привычке, или городскому району, или городу, или организации, или чьему‐то телу, память о котором нас преследует, или верность прошлому – ради сохранения непрерывности временной цепочки, или настоящему, чтобы не выпасть из него; верность товарищам по оружию, которые тебе доверяют, начальству, которое тобой гордится, хотя вслух никогда об этом не говорит и не скажет. Моя доля положенной каждому верности очень долго посвящалась Берте – в любви, а может, и в сексуальном плане. Тупре же я был верен в плане профессиональном, поскольку он стал для меня главным представителем Англии, как капитан корабля для матроса. Сейчас, снова увидев Тупру и снова попав под воздействие его поля, я опять понял, что он может быть вполне симпатичным, когда не ведет себя грубо, пренебрежительно, агрессивно и наставительно. Но даже в этой последней роли послушать его бывало интересно: он редко изрекал глупости, или банальности, или – еще реже – пошлости, а ведь именно это мы слышим сегодня повсюду, да и читаем тоже, что еще хуже. Он умел держаться сердечно, когда хотел, часто искренне смеялся, и, вне всякого сомнения, одно его присутствие рядом помогало воспрять духом, а мой дух пребывал в полном упадке после того, как я возвратился в Мадрид, хотя, думаю, это началось много раньше, в тот день, когда я впал в спячку, очутившись в провинциальном английском городе, в котором осталась моя дочка. Тупра умел внушить, что праздник жизни и соль земли всегда будут сосредоточены там, где появляется он, иначе говоря, самое главное надо искать в том месте, куда он указывает пальцем и куда целится из своей винтовки.
Тупра бросил на землю и затоптал окурок, но тотчас закурил следующую сигарету, возможно, чтобы обмануть холод, который становился все злее. Тупра по‐прежнему курил свои “Рамзес II” из картонной пачки, украшенной египетскими картинками, какие, видимо, еще можно было купить в Лондоне, в Smith & Sons, или в Davidoff, или в James J Fox. Но даже в этих шикарных и весьма примечательных магазинах уже не продавали сигарет “Маркович” в металлической коробке, которые я курил в далекой юности и которые сыграли косвенную роль в моих несчастьях. Их больше не производили – что‐то всегда перестают производить, не дождавшись нашей смерти, наплевав на наши привычки, наши вкусы и нашу верность. Тупра концом сигареты указал на любительницу чтения, не глядя в ее сторону:
– Значит, говоришь, Шатобриан? “Замогильные записки”, надо полагать. – Название он произнес по‐английски. – Ну конечно, ведь вряд ли кто‐нибудь стал бы читать сейчас “Гений христианства”. – И наконец ответил мне: – Ты пришел, потому что тебе скучно и случаются дни, когда ты не знаешь, куда себя деть. Тебя привели сюда любопытство, отчаяние и тщеславие. Ты пришел, чтобы узнать, считают ли тебя до сих пор на что‐то годным, раз уж незаменимых среди нас не бывает. Ты пришел, потому что, хотя и полагаешь, будто тебе это безразлично, для таких, как ты, невыносимо оказаться снаружи, после того как ты побывал внутри. А ушел ты не совсем по своей воле. Это мы распахнули двери и позволили тебе уйти, посчитав, что пользы от тебя уже мало, но теперь ситуация изменилась. Ты пришел, потому что тебе стало невыносимо оставаться не у дел и не знать, что у нас внутри происходит и какая каша заваривается, поскольку раньше ты был в курсе всего этого. Не всего, конечно, а только той части, которую тебе полагалось знать в каждом случае. Трудно перестать в чем‐то участвовать, трудно ничего больше не значить в этом мире. Не охранять его от разных несчастий – и даже не пытаться. Побыв кем‐то, трудно стать никем.
Таков был один из девизов Тупры или один из его главных аргументов, по крайней мере в разговорах со мной, хотя, не исключаю, что для других он приберегал совсем иные доводы. Когда мы с ним впервые увиделись в Оксфорде, он так объяснил мне суть своей профессии: “Мы делаем, но мы ничего не делаем, Невинсон, или мы не делаем того, что делаем, или то, что делаем, не делает никто. Это просто происходит само собой”. Тогда его рассуждения звучали для меня цитатой из Беккета. Сейчас он добавил:
– Побыв кем‐то, трудно смириться с тем, что ты снова стал никем. Даже если этот кто‐то оставался, по сути, невидимым и неузнаваемым. Вот почему ты пришел, Невинсон, вот почему ты сидишь тут, а не у себя дома с женой и детьми, разворачивая пакеты с подарками. – Ага, значит, он знал, что сегодня День волхвов. Тупра, между прочим, называл меня сейчас, как и в прежние времена, просто по фамилии. Или Томом. – Ты пришел, чтобы разведать, нельзя ли снова стать кем‐то. Только учти, об этом, как всегда, должны знать только ты да я; ну, возможно, в случае необходимости еще и какой‐нибудь связной.
– Вроде того Молинью с его идиотским наполеоновским хохолком? – спросил я, чтобы не отвечать вот так сразу на рассуждения и выводы, изложенные столь уверенным тоном. – До чего же наглого дурака ты мне тогда посылал! Под конец мне пришлось‐таки поставить его по стойке смирно.
Тупра засмеялся. Засмеялся, словно признаваясь, что подстроил шутку, которую до сих пор с удовольствием вспоминает:
– Да, конечно, юный Молинью… Но ты не думай, он вполне успешно делает карьеру. Хотя понятно, что в нынешние времена много требовать уже ни от кого невозможно. Такого не случалось за всю нашу историю: сегодня нелегко завербовать нового сотрудника, а многие ветераны бегут от нас либо сочетают нашу работу со службой тем, кто предлагает лучшие условия, – например, в крупных британских или международных компаниях со штаб-квартирами хоть на английской территории, хоть бог знает где еще. Правда, они просят на это разрешение – и получают, потому что хуже всего, когда люди бездельничают: пусть лучше содействуют экспансии отечественной экономики, такова патриотично-прагматичная позиция нашего руководства. Если это идет на пользу Королевству, то оно не осуждает даже промышленный шпионаж. Проблема в том, что все больше агентов служат двум господам, что, естественно, подрывает дисциплину, а следовательно, и мешает концентрировать усилия на определенных заданиях. Но боюсь, что это знак времени и будет только хуже. Мне самому тоже вскоре предстоит принять решение, что делать дальше, и в предложениях недостатка нет. Если говорить честно, сегодня уже невозможно заполучить таких сотрудников, как ты. С падением железного занавеса наша служба лишилась привлекательности… Кто бы мог подумать! – Он опять постарался польстить мне, на сей раз даже слишком откровенно. Но потом вернулся к Молинью: – Да, я действительно послал его в тот город, где ты какое‐то время скрывался, – в Ипсуич, Йорк, Линкольн, Бристоль или Бат? Уже не помню. Точно знаю, что там есть река. Или в Эйвон, Оруэлл, Уитем, Уз?..
Тупра просто не мог удержаться от обидной реплики, задевающей мое самолюбие, хотя одновременно вроде бы подбадривал меня, упоминая о моих заслугах. Ему нравилось то окрылять человека, то унижать: оба способа подстегивали желание работать. Он прекрасно знал, в каком именно городе с рекой я был похоронен – и на долгие годы, а не на “какое‐то время” (или, как он выразился по‐английски, for a while). Хотя ему это, пожалуй, и показалось лишь “каким‐то временем”. Для меня же оно обернулось тоскливой вечностью, пока я не завел маленькую и недолговечную семью, которая помогла мне выдержать ссылку: медсестру Мэг и девочку Вэл. Что с ними стало? Думаю, у них все в порядке. Мэг, наверное, нашла себе мужа и нового отца для Вэл. Каждый месяц я посылал им из Мадрида деньги, Мэг не подтверждала их получения и не благодарила, но деньги до нее доходили – фунты с одного из моих британских счетов, открытых на имя Джеймса Роуленда (под такими именем и фамилией она меня знала). Только вот чувством собственного достоинства нельзя пренебрегать до бесконечности, даже если того требуют обстоятельства. И сейчас Тупра играл с огнем, если действительно хотел добиться от меня услуги. Я ведь мог просто встать и уйти, оставив его одного на этой скамейке, мог пойти на улицу Павиа и достать из пакета какой‐нибудь бесполезный подарок, то есть пойти к Берте в ту квартиру, которая долго была моей, а теперь принадлежала ей.
Да, мог и даже хотел, но не сделал этого. Я сдержался, поборол минутную вспышку, и вскоре меня стали даже забавлять зловредность Тупры и его желание непременно ткнуть пальцем в глаз, но только чуть‐чуть, неглубоко, только из желания поддразнить. А вот когда дело шло всерьез, он пускал в ход уже не палец, а оружие пострашнее. И приходилось с этим смиряться: он хорошо меня знал – или хорошо знал всех нас, и бывших, и будущих. Наверное, мы не были такими уж исключительными и особенными, просто однажды мы выбрали для себя воистину исключительную стезю – в отличие от слабовольных толп, населяющих землю, в отличие от тех, кто ни о чем ничего не знает и знать не хочет, кто мечтает лишь об одном – чтобы все вокруг бесперебойно функционировало, пребывая на своих местах каждое утро и каждый вечер. Да, Тупра попал в точку: “Невыносимо оказаться снаружи, после того как ты уже побывал внутри”. Это напрямую относилось ко мне. Как и другие его рассуждения, которые сейчас волновали меня меньше. Да, под конец я перегрелся, да, оглядываясь назад, испытал разочарование, почувствовал обиду и даже брезгливость, и тем не менее теперь мне недоставало прежнего азарта и прежнего куража… Нет, я сказал глупость: на самом деле я тосковал по чувству активной жизни, по приказам, заданиям и операциям, по желанию слепо, всеми правдами и неправдами защищать Королевство (потому что на самом деле я действовал, как правило, вслепую, никогда не представляя себе всю картину целиком, и, думаю, Тупра тоже видел ее далеко не полностью). То, что поначалу было для меня бедой и проклятьем, что лишало сна и словно острой коленкой давило на грудь, с годами, после многих выполненных заданий, превратилось если и не в жизненную основу, то в единственный способ существования, который дает внутреннее равновесие и смысл пребыванию на земле. Лишившись этого, я жил с опущенными крыльями, погружался как сомнамбула в беспорядочные воспоминания и терзался муками совести. И знал только одну возможность справиться с ними – добавить новые поводы для будущих терзаний.









































