Текст книги "Томас Невинсон"
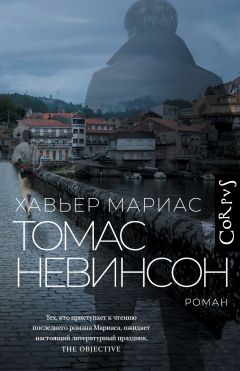
Автор книги: Хавьер Мариас
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– Нет, мне это ни к чему. Я видел одну-две фотографии, хотя находился далеко. Во всяком случае, одну помню очень хорошо – наверное, ее напечатали повсюду. Гвардеец или пожарный несет искалеченную девочку.
Тупра сделал красноречивый жест, словно говоря: “Ну вот!” Или: “Тебе этого мало?” Потом продолжил:
– Разве человек, участвовавший в таких делах, не опасен, если его до сих пор не обнаружили? Но даже если и не опасен, разве он не должен понести наказание и заплатить за свое преступление? Особенно если учесть, что нужная нам женщина – не член ЭТА, по крайней мере формально, вот почему она не была арестована – просто успела вовремя лечь на дно и затаиться. И не будет разоблачена, если кто‐то не поможет это сделать, если за это не возьмешься ты.
– Я? Человек, который уже покинул службу?
– От нас никто и никогда не уходит насовсем. Достаточно сделать один шаг, чтобы снова оказаться внутри. Лучше тебя никто с таким делом не справится, потому что у этой женщины еще и много общего с тобой. Она наполовину ирландка, наполовину испанка, то есть не принадлежит целиком ни одной стране. И на обоих языках говорит безупречно, она билингв, хотя мы не знаем, способна ли она так же легко, как ты, усваивать и любые другие языки. Она приложила руку к двум этим терактам и, вне всякого сомнения, еще к каким‐то более ранним. Но после восемьдесят седьмого года, насколько нам известно, не участвовала ни в акциях ЭТА, ни в акциях ИРА – ни как подстрекатель, ни как инструктор, ни как куратор. Когда стало известно о ее причастности к взрыву в “Гиперкоре”, она уже бесследно исчезла. Примерно так же, как исчез ты сам, когда превратился в Джеймса Роуленда, а Тома Невинсона объявили умершим. Ты несколько лет прожил, скрываясь под фальшивым именем, она живет так уже около девяти. И вроде бы отошла от дел, однако в их организации все устроено почти так же, как и в наших: ушедший может вернуться – достаточно сделать один шаг, необязательно добровольно, и не важно, сколько времени ты отсутствовал. Есть, правда, некоторое отличие: у них с этим строже, и очень мало кому позволяется уйти насовсем, наоборот, положено любой ценой и постоянно доказывать свою преданность. Хотя нельзя исключать, что эту женщину сочли выгоревшей, сочли, что она успела сделать очень много и ее можно отпустить, или сочли недостаточно фанатичной, сомневающейся, сочли, что в будущем она вряд ли им пригодится; а может, она сама захотела отойти в сторону, осознав весь ужас случившегося в Барселоне и Сарагосе. Может, подумала как следует и раскаялась. Слишком много погибших за один-единственный год, слишком много, даже если не рассматривать каждого человека в отдельности, а прикинуть общий результат, как если бы речь шла о массовой драке. А еще – слишком много детей. Мало кто способен заранее предугадать собственную реакцию, кроме полных беспредельщиков, которые не знают колебаний, как, по всей видимости, эта Хосефа из “Команды Барселона”. – Ее имя он произнес на английский манер – “Йосефа”. – Одно мы знаем точно: что‐то эта женщина тогда сделала, но ее не арестовали и не наказали. Поэтому нельзя исключить, что и она тоже из числа “беспредельщиков” и только на время затаилась или “заснула”, как называют это журналисты, и ждет своего часа, чтобы снова совершить нечто ужасное. Она одна из трех вот этих женщин. – Тупра снова медленно ткнул пальцем в снимки – в каждый по очереди. – Только какая именно? Но и действовать по рецепту мафии мы не станем. Мафия похитила бы всех трех, допросила бы и выяснила правду, если, конечно, террористка не прошла серьезную тренировку, чтобы выдержать пытки, во что я мало верю. Нет, мы так не поступаем, даже когда действуем неофициально, поскольку в любом случае представляем Королевство, да, в любом случае. Две женщины ни в чем не виноваты, и мы не позволим себе похитить несчастную мать семейства, или несчастную учительницу, или уважаемую хозяйку ресторана. В конце концов, речь идет не об открытой войне, когда в жертву легко приносят всех подряд, чтобы не рисковать. А вот террористы, наоборот, в своем безумии считают это войной, считают, что любые их действия оправданны. Этим мы отличаемся от них, а следовательно, если говорить честно, оказываемся в менее выгодном положении. К тому же им помогает ненависть. А мы, как известно, ненависти не знаем. У нас ее нет.
Тупра излагал это слишком равнодушным тоном, чтобы я не заподозрил, будто думает он совсем иначе. Если разобраться как следует, то что заставляет их, Тупру или его испанского друга Хорхе, с таким упорством идти по следу второстепенной участницы жестоких преступлений, случившихся почти десять лет назад, а для террористов это срок очень большой, поскольку они действуют по накопительному принципу и без перерывов, чтобы новые теракты словно бы размывали предыдущие и за счет общего количества достигался нужный эффект – полного отчаяния и растерянности, коль скоро ни один вроде бы нельзя считать последним. Их конечная цель – изматывание.
Фактические исполнители терактов, главные виновники, получили долгие тюремные сроки. Как и Санти Потрос, отдавший решающий приказ. Одни сидят за решеткой в Испании, другие – во Франции. Если бы в каждом случае искали еще и тех, кто вольно или невольно помогал преступникам, догадываясь о том или нет; кто дал важную информацию или проговорился случайно; кто пустил переночевать родственника или знакомого, не ведая, что у него на уме и что он сделает наутро в их городе или поселке; кто выручил деньгами друга или пожертвовал свои сбережения неправительственной организации либо церкви, чтобы помочь голодающим детям и несчастным беженцам; тех, кто дал на время отвертку, скотч, клей, бензин, мыло или гвозди (или хотя бы маленькую вилочку), не зная, зачем они нужны, тогда наверняка половину человечества можно было бы посчитать сообщниками или пособниками террористов.
На это, как правило, и ссылаются самые жестокие преступники и вообще убийцы: они стараются свалить вину на пострадавших, да, именно так, на убитых и покалеченных. Не погибло бы столько людей в домах-казармах в Сарагосе и Вике, если бы гражданские гвардейцы не поселились там, поставив под удар свои семьи. А в “Гиперкоре” власти должны были действовать активнее и эвакуировать посетителей, получив невнятные сигналы (раз бомба была спрятана в багажнике машины, следовало сразу же ее обезвредить). Они заявляют: мы не убили бы ни одного полицейского, военного, журналиста, судью или хозяина магазина, если бы нашу родину, которая за всю свою историю ни разу не была захвачена врагами – даже римлянами, – вдруг ни с того ни с сего не захватили испанцы. Мы не убили бы ни одного бизнесмена, если бы все они без возражений платили нам, как и положено патриотам, столько, сколько мы у них требовали для победы нашего дела. Не было бы ни одного покойника в Ольстере, если бы англичане не украли часть острова, после того как веками владели всем островом целиком, и если бы нас не преследовали католики и не мечтали изгнать с нашей земли, такой же британской, как Лондон или Кентербери, такой же нашей, как их, или даже больше нашей; им принадлежит земля на юге, пусть туда и убираются, слушают там свои мессы и не мешают нам.
Ответственность всегда перекладывается на кого‐то другого, и сбросить с себя ее бремя очень легко… За свою жизнь я слышал самые разные оправдания, но чаще всего такое: да, я этого типа убил, но ведь он сам виноват. Кажется, и я тоже использовал его в той или иной форме.
Но все‐таки почему они вздумали по прошествии стольких лет тратить время, деньги и силы на поиски некой женщины? Ради чего? Масса преступников остаются ненаказанными, хотя часто просто не удается доказать их вину – прямую или косвенную; а сколько нападений списывается на несчастные случаи, или на капризы злосчастной судьбы, или на неосторожность, а иногда гибель человека объявляют самоубийством или безрассудной переоценкой собственных сил; нередко судят и приговаривают к тюремным срокам невиновных, превратив в козлов отпущения.
Надо мной тоже висела такая угроза, когда я был совсем юным и зеленым. Тогда профессор Уилер предупредил меня, и его слова я часто вспоминаю: “Было бы куда хуже, если бы тебя арестовали, обвинив в убийстве, – сказал он, посоветовав искать помощи у Тупры. – Никто никогда не знает, чем закончится суд, даже если человек ни в чем не замешан и уверен в доказательствах своей невиновности. Истина не играет никакой роли, все зависит от подхода к ней, поскольку истину устанавливает тот, кто никогда не знает, в чем она состоит, – я имею в виду судью. Нельзя отдавать свою судьбу в руки человека, идущего вперед исключительно на ощупь и в бросающего монетку в поисках истины. На самом деле и по здравом размышлении судить кого‐то – это вообще абсурд”.
Вероятно, по той же причине мы, защитники Королевства, порой старались избегать судов – иными словами, не доводить до них дела. Нередко мы совершенно точно знали, что произошло, поскольку сами все видели или слышали, и нам не были нужны официальные суды, где нас могли обвинить во лжи, выдвинуть совсем иную версию или посчитать наши доказательства хлипкими, а наши показания голословными, так как мы якобы опираемся на hearsay, на слухи и домыслы. Питер Уилер защищал Королевство во время войны, когда все видится четче и нельзя ни мешкать, ни долго раздумывать над следующим ходом, поэтому он добавил: “Я бы не признал власти ни за одним судом. Будь это в моей воле, я бы никогда не стал участвовать ни в одном суде. Ни за что. Запомни мои слова, Томас. И хорошо подумай. Невинного человека они могут отправить в тюрьму. По прихоти судьи и только потому, что он судье не понравился. Однако все мы знаем, что возможен и обратный вариант: виновного иногда отпускают только потому, что он понравился судье, который своими глазами ничего не видел и в ходе процесса услышал противоречивые версии”.
Думаю, сейчас Тупра метил именно в эту точку, по всем пунктам повторяя доводы Уилера, своего учителя и наставника.
– Но если мы не умеем ненавидеть, Берти, то почему вы вдруг решили найти эту женщину? Мы закрывали глаза и на куда худшие вещи, когда это было удобно нам самим или тем, кто наверху. Если за минувшие годы она ничего плохого не сделала, то уже вряд ли представляет опасность. И вряд ли речь тут идет о справедливом возмездии. Справедливость иногда нам важна, а иногда нет – в зависимости от новых обстоятельств и планов.
Тупра между тем доедал второе блюдо бравас, но теперь брал их одну за другой неторопливо. Он оглянулся по сторонам и сделал знак официантке, прося счет. “Славное солнце Йорка” смягчало холод, но не отменяло его вовсе, и для 6 января мы слишком долго просидели под открытым небом. Тупра явно терял терпение, хотя и сдерживался, поскольку зависел от меня. Он с ловкостью опытного картежника собрал фотографии, сунул в конверт и протянул его мне:
– Ладно, как я понимаю, сегодня ты на них смотреть не станешь, не доставишь мне такого удовольствия. Просто хочешь подержать меня в подвешенном состоянии, и это можно понять, да, можно. Ладно. Возьми их с собой, а дома, когда созреешь, спокойно изучи. Я позвоню тебе завтра или послезавтра, так как почти наверняка задержусь в Мадриде еще на пару дней. Только должен заранее предупредить: тебе придется на несколько месяцев – или на несколько недель, если будешь действовать быстро, – перебраться в тот город на северо-западе Испании, где живут эти женщины. Чтобы с ними познакомиться и выбрать из трех одну, поскольку две другие ни в чем, бедняжки, не виноваты. Подробности узнаешь, когда дашь мне свое согласие и скажешь, что готов ехать. Или встретишься с Джорджем, и он тебя просветит.
– Если дам согласие, – ответил я.
Когда подошла официантка со счетом, он сунул руки в карманы пальто, давая понять, что, хотя приглашение исходило от него, закон гостеприимства обязывает расплатиться меня. Я взял конверт со снимками, и мы поднялись; честно говоря, я был рад, что смогу хорошенько рассмотреть их позднее, уже без Тупры. В любом случае можно будет соврать, что я не потрудился этого сделать и его интриги меня нисколько не интересуют. Когда мы вышли на площадь, я увидел на террасе соседнего ресторана любительницу Шатобриана, ей тоже пришлось как следует померзнуть – столько же, сколько нам. У нее в руках была открыта все та же толстая книга, и она на миг оторвала от нее голубые глаза, чтобы посмотреть, но не на меня, а на Тупру. То, что он не ответил на ее взгляд, окончательно убедило меня: они знакомы, ведь тип вроде него никогда не оставил бы без внимания подобный знак, каким бы влюбленным и женатым он ни был. И его Берил тут была ни при чем. Думаю, он уже стал одним из тех начальников, которые никуда не ходят без подстраховки, даже на Соломенную площадь, чтобы встретиться с бывшим подчиненным.
– И ты мне его дашь, – буркнул он.
– Что? – Я уже успел забыть свою последнюю фразу.
– Свое согласие, согласие поехать в тот город.
Его уверенность ничуть меня не обидела, поскольку решение зависело исключительно от меня. А я уже не был обязан исполнять его приказы. И ничего не ответил на это, зато сказал:
– А вот ту женщину ты точно знаешь, ту, что читала “Замогильные записки”. Она по‐прежнему несет охрану. Не знаю, зачем она тебе понадобилась, но боюсь, простуды ей не избежать.
– Неужто она все еще там? – ответил он, не оборачиваясь. – Чистая случайность. И вспомни еще один старый урок: паранойя ничем не лучше беспечности. Ты сейчас куда?
– Домой. Это недалеко.
– Могу тебя проводить, надо немного размять ноги. Потом возьму такси.
– Как хочешь.
Мы молча дошли до Пласа‐де-ла-Вилья, то и дело поднимаясь по небольшим лестницам. Потом я двинусь к улице Лепанто либо загляну к Берте на улицу Павиа. Мы не отмечали День волхвов по‐настоящему, по‐семейному, но она и дети наверняка будут мне благодарны, если я приду, – во всяком случае, хотелось в это верить; иногда мне казалось, что они воспринимают меня как дальнего родственника, которого всегда рады видеть, как дядю из Америки, который забавляет их всякими историями, к тому же богатого. А если не слишком рады, тоже ничего страшного – надо ведь так или иначе расплачиваться за долгие годы отсутствия.
В самом конце улицы Кордон, чуть не доходя до Пласа‐де-ла-Вилья, Тупра остановился и сказал, словно продолжал размышлять не над сутью дела, а над тем, стоит ли еще что‐то мне объяснять:
– Люди, каждый по отдельности, не могут не уставать от ненависти. Проходит время, повод к ней размывается и тускнеет, и уже трудно ненавидеть так же люто, как в самом начале. Они остаются со своей ненавистью один на один, поэтому надо быть очень упертым, чтобы изо дня в день оживлять ее. Рано или поздно память слабеет, появляются лень и апатия. Но это не касается разного рода группировок. Там ничего не забывают и ничего не прощают, потому что всегда находятся желающие поддерживать огонь, пока другие отдыхают, отключаются или просто стареют. И эти волонтеры успевают вовремя передать огонь новым сторонникам, не позволяя ему угаснуть. Как в некоторых семьях из поколения в поколение передают огонь детям. Для того подобные организации и создаются, вот почему с ними так сложно бороться и они подолгу существуют – порой веками, на беду всему миру. И чем больше обезличиваются их члены, тем меньше они способны здраво рассуждать, тем более глухими и слепыми, непрошибаемыми и фанатичными становятся. Тут есть что‐то схожее с религией: наследуются и враги, и объекты поклонения, и убеждения, которые нельзя подвергать сомнению, – в этом их сила. Сила глупая, зато неиссякаемая, поскольку разуму не дано ее поколебать. – Тупра замолчал, достал очередную сигарету и закурил, уставившись на статую Дона Альваро де Басана с тростью, потом сделал две затяжки и ткнул сигаретой в сторону памятника: – А это кто еще в таких дурацких чулках?
– Дон Альваро де Басан, маркиз де Санта-Крус, адмирал, командовавший испанским флотом в битве при Лепанто.
– Значит, здесь ты и живешь, на улице Лепанто? Тысяча пятьсот семьдесят первый год, правильно? Не там ли потерял руку Сервантес?
– Да, когда рука у него перестала двигаться, ему было двадцать четыре года. Сам он называл себя “здоровым одноруким”.
– А что тут написано? – Он подошел ближе, чтобы рассмотреть надпись на пьедестале. – Переведи‐ка.
– Не уверен, что тебе понравится, – сказал я, глянув на стихотворные строки.
– Почему? Что там написано? Только ничего не меняй.
Я перевел как можно точнее:
– “Свирепый турок в Лепанто, француз у Терсейры, англичанин в любом море – при виде меня испытывали страх”.
– “В любом море” – не больше и не меньше? – перебил меня Тупра. – Это надо проверить. А что еще?
– “Король, которому я служил, и родина, которую я возвеличил, лучше скажут, кем я стал во славу Креста моей фамилии и с крестом моего меча”.
– Неплохо. Старомодно, но совсем неплохо. – Затем он вернулся к прежней теме: – И мы тоже ничего не забываем, Том, потому что для борьбы с ними нам приходится отчасти перенимать их же методы и вести себя сходным образом, иначе мы проиграем – и проиграем с огромными потерями. Потому что мы – тоже организация. Институция, старинный корпус со славной историей и богатейшими архивами, которые требуют восстановления справедливости и не дают нам ничего забыть или, если угодно, дают повод гордиться уже сделанным. Но движет нами отнюдь не ненависть, не мстительность и не вечная обида, как это бывает у террористов, мафии, а иногда и у целых народов, если они привыкли считать себя обиженными и угнетенными, – им это нужно, чтобы выживать и подзаряжаться, чтобы легче было прививать эти чувства новым адептам и вербовать их без счету, чтобы предатели и враги всегда боялись занесенного над ними меча. Те, кому террористы угрожают и выносят приговор, каждое утро просыпаются в страхе: “Вчера – нет, вчера этого не случилось, позавчера тоже, как и в прошлом месяце, как и в последние пять или десять лет, которые тянулись очень медленно – ночь за ночью и день за днем. Но кто даст мне гарантию, что это не случится сегодня, как только я выйду на улицу, что сегодня мне не отравят обед или в мою дверь не позвонит друг и не выстрелит в меня”. Если тебя свирепо ненавидят и ты знаешь про эту ненависть, то каждый день проживаешь как первый после вынесения приговора, вечно ожидая нападения и готовясь к бою.
Рассуждая вслух, Тупра продолжал рассматривать памятник со смесью одобрения и неприязни, восхищения и протеста. Поначалу перевешивало вроде бы одобрение:
– Хорошо сказано: “Король, которому я служил, и родина, которую я возвеличил…”, так оно и было, да? В те времена люди не знали сомнений. – Но затем Тупра почему‐то переменил свое отношение к бронзовому Дону Альваро и отпустил в его адрес нелепый комментарий: – Значит, “англичанин в любом море – при виде меня испытывал страх…” А не слишком ли ты расхвастался, друг мой? – Он произнес это словно в сторону, как произносят что‐то на сцене, когда реплику не должны слышать остальные персонажи. А потом вернулся к прежней теме: – Тот, кто не чувствует такой ненависти, теряет бдительность, становится более доверчивым, у него пропадает желание не только убивать, но даже защищаться. Он надеется, что государство способно забывать – или Корона, или Республика. Ведь у них и без того достаточно дел, им некогда оглядываться назад, их заботит настоящее, они закрывают глаза на старые преступления, поскольку порой это выгодно с политической точки зрения, и можно лишь выиграть, похоронив прошлое. Преступник считает себя слишком ничтожной точкой на фоне разного рода сражений, а это играет нам на руку. Потому что он ошибается. Да, мы не знаем ненависти и не должны позволять себе кого‐то ненавидеть. Мы действуем бесстрастно, но ничего не забываем, будто время для нас остановилось. Десять лет назад – это вчерашний день, по нашим меркам. Даже сегодняшний.
IV
Только неделю спустя я поговорил с Бертой. И не потому, что чувствовал себя обязанным отчитываться перед ней, ведь нашу жизнь трудно было назвать совместной: мы встречались лишь время от времени, то есть встречи были нечастыми и вялыми, а с моей стороны, пожалуй, даже с налетом циничности. Я приходил и уходил, мы перезванивались, чтобы обсудить практические проблемы, связанные с деньгами или с нашими детьми, уже вполне самостоятельными, хотя и не достигшими совершеннолетия; иногда вдруг случались всплески страсти, но как‐то все реже и реже, да и само слово “всплеск” – не слишком удачный эвфемизм для подобных отношений. Я объяснял их какими‐нибудь ее личными неурядицами, разочарованиями или внезапным охлаждением к кому‐то другому: я был уверен, что у Берты есть любовник, а может, даже два попеременно. Она ничего мне не рассказывала, а я ничего не спрашивал, поскольку, как уже говорил, не чувствовал за собой такого права – это было бы вмешательством в ее личную жизнь и бестактностью, следовало ценить уже то, что она окончательно не отвергла меня и не отказывалась видеться со мной. Иногда я воображал, будто Берта терпит мое присутствие из чистого упрямства или из суеверной преданности прошлому, так как не желает бесповоротно предавать свою юность, а может, я был ей нужен в те дни, когда она чувствовала себя совсем одинокой и недовольной собой или начинала подозревать, что стареет и дурнеет (на мой взгляд, напрасно, ведь она была по‐прежнему привлекательной, но для недовольства собой каждый изобретает собственные мотивы): все мы постепенно учимся обходиться тем, что имеем под рукой и что удается сохранять по мере того, как иссякают прежние бесконечные возможности, а будущее перестает быть непостижимым и абстрактным, то есть стопкой чистых листов, и выглядит с каждым днем все более конкретным и тесным, или четче заданным, или четче прописанным, иными словами, с каждым днем постепенно превращается в прошлое и настоящее.
Именно это и заставило меня сказать Тупре “да”, отчасти это: соблазн написать новую главу, доказать, что я еще не закончил свою маленькую книгу, хотя вроде и решил, что там уже поставлена финальная точка. Но в первую очередь тут сказалось другое: даже если ты выдохся и захотел все бросить, если тоскуешь по спокойной жизни, какой никогда не знал (и по сути, это пустая фантазия, поскольку нельзя тосковать по неиспытанному, а твоя реальная жизнь была кипучей, опасной и фальшивой), тебе все равно будет невыносимо оказаться снаружи, если ты привык быть внутри и верил, что мог хотя бы иногда выдернуть волосок из шевелюры вселенной. Человек мечтает оказать влияние, пусть самое ничтожное, на происходящее вокруг и хотя бы на миллиметр изменить курс событий. А в данном случае речь шла о том, чтобы тот, кто живет в свое удовольствие, совершив гнусные преступления и вытравив их из своей памяти, заплатил за все, хотя уже уверился в собственной безнаказанности.
Итак, дома я внимательно рассмотрел все три фотографии и ждал нетерпеливого звонка Тупры, действительно нетерпеливого. Звонок раздался на следующее утро, и мы быстро договорились встретиться в тот же день, 7 января, чтобы за легким обедом обсудить задание с его другом или коллегой Хорхе (думаю, они еще раньше обо всем условились): тот введет меня в курс дела и вручит фальшивые документы, которые, к моему удивлению, уже были изготовлены, что свидетельствовало об уверенности Тупры в моем согласии и что меня несколько обескуражило. Пожалуй, мне после отставки следовало перемениться сильнее, стать более непостижимым и непредсказуемым. Правда, Хорхе – или Джордж – сразу же заявил, что они готовы дать мне любую другую личность, новую профессию и новое имя, если те, что они уже выбрали, я почему‐то сочту неудачными.
Это был мужчина лет пятидесяти, обликом напоминавший скорее испанского карьерного дипломата, чем штатного или полуофициального сотрудника спецслужб, хотя в нашем облике нет каких‐либо особых отличительных черт, по которым нас можно было бы легко узнать, и который мы, надо заметить, постоянно меняем. Хорхе был слишком тщательно одет и, судя по всему, одевался так всегда: его двубортный костюм из первоклассного сукна и длинное пальто из верблюжьей шерсти сразу вызвали у меня раздражение, так как заставили вспомнить расплодившихся во времена диктатуры пижонов, которые вели себя весьма вольно, как хозяева жизни – и действительно ими были, – и которых я, разумеется, презирал. Мало того, он носил перламутровые запонки, а в галстуке – булавку с чьим‐то портретом на эмали, вещи совершенно неуместные в девяностые годы. Слава богу, что обошелся без бриллиантина (иначе я бежал бы оттуда со всех ног) и волосы зачесывал назад с тонким пробором справа – красиво посеребренные волосы, чуть поблескивающие, такой цвет часто используют на обложках детских сказок. Черты лица у него были очень правильные, хотя нос слегка великоват, а губы тоньше, чем ему бы наверняка хотелось, поскольку держался он не без кокетства. Живые глаза мускатного цвета были настолько узкие, что порой стоило труда поймать их взгляд и казалось, будто он никогда не смотрит на собеседника прямо, а пытается сразу охватить слишком большое пространство. Единственное, что мало соответствовало облику посла или консула, были усы, более темные, чем шевелюра, не редкие и не густые, без острых концов, которые выглядели весьма скромно на фоне всего остального, на почти сенаторской или патрицианской физиономии. Как и полагалось человеку благородных кровей (действительно благородных или согласно взятой на себя роли), он при знакомстве назвал свои полные имя и фамилию – Хорхе Мачимбаррена, однако фамилия показалась мне выдуманной или у кого‐то позаимствованной. Те имя и фамилию, которые он предлагал взять мне, я увидел в водительских правах и паспорте, где пока еще не хватало фотографии. Он протянул мне их с довольным видом, явно гордясь результатом.
– Мигель Центурион Агилера? Центурион? Не слишком ли эксцентрично? – удивился я. – Никогда не знал ни одного человека с такой фамилией.
Затем я объяснил Тупре – на случай, если он забыл, – что в Испании из двух фамилий главная – первая, под ней человека чаще всего и знают, а вторая, фамилия матери, как правило, используется лишь в официальных случаях. По крайней мере, так было до самого недавнего времени.
– Если слово “центурион” означает то же самое, что и по‐английски, – высказал свое мнение Тупра, – то в Англии такая фамилия невозможна и более чем неправдоподобна.
Из уважения к нему мы беседовали по‐английски. У Мачимбаррены английский был беглым, хотя он делал ошибки и говорил с безнадежным акцентом. Однако понять его было можно.
– Должен заметить, что в Испании такая фамилия встречается нечасто, но все же встречается. В Мадриде можно найти аж шесть или семь Центурионов, – тотчас возразил он. – А нам ведь главное, чтобы она сразу запоминалась. От скучных фамилий толку мало, и на самом деле они вызывают больше подозрений, хотя в данном случае нам нужно, чтобы вообще никаких подозрений не возникало. Редкие фамилии, они правдоподобнее, и я, например, знал одного Гомеса Антигуэдада[17]17
От исп. Antigüedad – античность, древность.
[Закрыть]… Как вам такое? Он был управляющим в крупном отеле. Такую уж точно не выдумаешь! Вспомните, сколько литераторов отказались от фамилий Мартинес, Фернандес и Перес, чтобы стать Асорином, Кларином, Фигаро или даже Саватером.
Я не стал объяснять ему, что Кларин и Фигаро – всего лишь псевдонимы, и взяли их себе люди, носившие довольно редкие фамилии – Алас и Ларра. Понятно, что он, как и многие дипломаты, не слишком разбирался в писательских биографиях.
– Люди быстрее привыкают к самым необычным фамилиям и лучше с ними справляются. Центурион – запоминается сразу и будит любопытство, поскольку интересно узнать ее происхождение; таким образом легко завязать разговор, не придумывая повода и не жужжа пчелкой. Вам ведь предстоит втереться в доверие к женщинам, не забывайте этого. – Он на миг зацепил меня своим плавающим взглядом. – Но если Центурион вам не нравится, мы придумаем что‐нибудь другое. Хотите стать Гарсиа Гарсиа?
В его тоне я уловил насмешку. И решил, что он и вправду пижон и, возможно, именно того сорта, какими они были во времена Франко. А выражения “жужжать пчелкой” я, пожалуй, не слыхал с семидесятых годов. Мне стало интересно, на кого он на самом деле работает. Скорее всего, на CESID, официально или нет – не важно, то есть на Министерство обороны, а там оставалось много убежденных франкистов, хотя теперь они стали завзятыми демократами – все очень быстро переобулись, как ни в чем не бывало и без проблем с совестью. Но могло быть и так, что люди, тоскующие по старому режиму, спланировали некую операцию самостоятельно – возможно, при поддержке радикалов, крайне правых либо крайне левых, а такие встречались повсюду.
Но коль скоро я уже дал свое согласие, меня это не касалось. Задание я получил от Тупры, как и любые в прошлые времена, так что связь буду держать либо с ним самим, либо с его курьером, с каким‐нибудь новым Молинью. Правда, на сей раз приказы изначально шли не от его начальства, но разве мог я с уверенностью сказать, что и прежде они всегда спускались сверху? Короче, спорить тут было не о чем. Мне поручили разоблачить убийцу и передать ее, если удастся, судьям. Во всяком случае, так я тогда полагал.
– Нет, нет, не беспокойтесь. Если вы видите у такой фамилии какие‐то преимущества, я возражать не стану. Буду Центурионом до новых распоряжений. Если честно, я от нее просто в восторге.
– Вот видите? – обрадовался Мачимбаррена. – Вы и сами мгновенно к ней привыкли и оценили по достоинству.
– А фотографии? На документах нет моих фотографий, а у Берти наверняка сохранились прежние. Двух– или трехлетней давности, но, думаю, они подойдут. Вряд ли я так уж постарел.
Мачимбаррена и Тупра разом на меня уставились и стали рассматривать, словно редкое насекомое. Но первый не мог судить о том, насколько я постарел, зато второй – еще как мог, и мне не хотелось, чтобы он начал сравнивать меня сегодняшнего с тем юнцом, которого впервые увидел в книжном магазине лет двести назад и с которым у меня, разумеется, ничего общего не осталось. Сам Тупра изменился бесконечно меньше. К тому же он был позером и тщательно следил за собой.
– Когда будет решено, как именно должен выглядеть Мигель Центурион и вы войдете в роль, мы сделаем фотографии и приклеим куда нужно. А пока это не имеет смысла, – ответил Мачимбаррена. – Подумайте, каким бы вам хотелось стать. Блондином, брюнетом или седым? Бородатым или бритым, с усами, с волосами подлиннее или покороче, с пробором или без? С пробором мужчина выглядит более ухоженным, более элегантным. – И он без тени скромности указал на свой собственный. – Хотя на бороду у нас времени не осталось, надо ведь поскорее приступить к делу. Если очень захочется, отпустите потом, уже на месте. И вообще, все, что касается внешнего вида, решать будете вы, вам с ним жить, кроме того, у вас большой опыт в таких вопросах, как рассказал мне Бертрам. Но будет одно условие: выглядеть вы должны как можно привлекательнее. Иногда единственный способ обвести вокруг пальца женщину – соблазнить ее. То есть влюбить в себя – или назовите это как вам больше нравится. В постели… – Под конец он перешел на испанский, словно нуждался в помощи родного языка, чтобы выразиться не слишком пристойно: – Вставите ей, отхерачите, трахнете разок – или раз двадцать пять. Во все дырки…









































