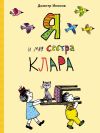Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
– Благодаря курьезной случайности, – произнес Стейн, закручивая крышечку на каплях, – предлог, который я использовал, чтобы уйти с заседания, это абсолютная правда, фусхус. Мэтр ждет меня в Амстердаме, чтобы я руководил некоторыми эскизами к «Рембрандту». Плюс ко всему работа над «Иаковом, борющимся с ангелом» с нанесением на фигуры всей этой краски в аэрозолях вызвала у меня конъюнктивит… А, спасибо, Нэв.
Секретарь Стейна встала и вытерла ему глаза шелковым платочком. Потом она свернула платок, взяла капли и спрятала все в сумку. Вся процедура произошла в абсолютном молчании. Рассматривавшая узоры на ковровом покрытии автомобиля Вуд в лучшем случае видела лишь изящные туфли на каблуках и смуглые, не затянутые в колготки ноги Нэв, шагающие туда-сюда.
– Поэтому надеюсь, что то, что вы хотите мне сказать, мисс Вуд, на самом деле важно, гализмус, – заключил Стейн.
Стейна в шутку прозвали «Господином Фусхус-Гализмус». Никто толком не знал, что означали эти два слова, которые он так часто повторял, а Стейн никогда не проявлял желание пояснить их смысл. Они были частью его жаргона, которым он пользовался при разговоре с художниками и полотнами. Эту манеру говорить подхватывали его ученики.
– Отмените открытие коллекции «Рембрандт», господин Стейн, – без предисловий заявила Вуд.
Стейн закашлялся, и фавновские черты его заострились.
– Фусхус, супругу последнего спонсора, который сказал мне такое, мы превратили в картину, правда, Нэв? – Нэв обнажила блестящие зубы и выдала легкий музыкальный смешок, от которого Вуд затошнило.
– Господин Стейн, я говорю совершенно серьезно. Если выставку откроют, весьма вероятно, что одна из картин коллекции будет уничтожена.
– Почему же? – полюбопытствовал художник. – В коллекциях и публичных выставках во всем мире разбросано больше сотни картин и набросков Мэтра. Художник может выбрать любую из…
– Не думаю, – перебила его Вуд. – Я уверена, что, идет ли речь о сумасшедшем одиночке или о какой-то организации, Художник работает по определенной схеме. До сих пор ван Тисх был автором двух крупных коллекций, считая ту, что откроется в июле, – трех: «Цветы», «Монстры» и «Рембрандт». Все остальные его работы – отдельные картины. Художник уничтожил «Падение цветов», одну из картин первой коллекции, и «Монстров» из второй. – Она остановилась и подняла на Стейна свои ясные глаза. – Третья картина будет из «Рембрандта».
– Какие у вас доказательства?
– Никаких. Это предчувствие. Но не думаю, что я ошибаюсь.
Художник молча разглядывал ногти на правой руке. Он разработал специально под них пять особых кистей и потому мог носить длинные, острые ногти, как у гитаристов.
– Я знаю, что могу поймать его, господин Стейн, – настаивала Вуд. – Но Художник – не просто психопат: это настоящий профессионал, он все спланировал заранее и действовал с ужасающей быстротой. Я знаю, сейчас он охотится на картину из коллекции «Рембрандт», и нам необходимо защититься. – Тут голос Вуд дрогнул. – Вы знаете мою манеру работы, господин Стейн. Знаете, что я не признаю ошибок. Но когда они случаются, единственное мое утешение – думать, что они были непредсказуемыми. Пожалуйста, не заставляйте меня совершать предсказуемую ошибку. Прошу вас, отмените выставку.
– Не могу. Поверьте, дорогая моя, я не в силах. Коллекция «Рембрандт» почти окончена, презентация для прессы состоится через две недели, а потом, через два дня, в субботу 15 июля, вдень четырехсотлетия со дня рождения Рембрандта, – открытие выставки. Работы по монтажу «Туннеля» на Музеумсплейн в полном разгаре. Кроме того, Мэтр уже слишком долго возится с этими картинами. Он полностью захвачен ими, а я – хранитель рая его страстей. Я всегда им был, гализмус, им и останусь…
– А если мы расскажем Мэтру об опасности, которой подвергаются его картины?
– Думаете, он придаст этому значение? Знаете ли вы хоть одного художника, который не захочет выставить свои творения, потому что их могут уничтожить? Гализмус, мы, художники, всегда творим для вечности, не важно, просуществуют наши работы двадцать веков, двадцать лет или двадцать минут.
Вуд молча разглядывала узор на ковре.
– Я ничего не скажу Мэтру, – продолжал Стейн. – Всю свою жизнь я выполняю роль преграды между ним и реальностью. Мои собственные работы по сравнению с его – ничто, но я доволен тем, что помог ему задумать их, отдаляя от него проблемы, занимаясь грязной работой… Моя лучшая картина была и есть то, что Мэтр все еще живописует. Этот человек живет под диктатурой собственной гениальности. Неизъяснимый человек, гализмус, загадочный, как астрофизический феномен, временами ужасный, временами мягкий. Но если в какой-то момент, когда-нибудь, где-нибудь существовал гений, то это Бруно ван Тисх. Все мы можем стремиться лишь к тому, чтобы повиноваться ему и оберегать его… Ваша задача, мисс Вуд, его оберегать. Моя – повиноваться… Ах, гализмус, какой красивый блеск. Нэв, взгляни на кожу своих ног сейчас, когда солнце сбоку… Красиво, правда?… Немного желтого ариламида, смешанного с нежно-розовой, слой лака – и выйдет замечательно. Фусхус, интересно, почему еще не пишут картин для салонов больших автомобилей? Малолетними полотнами это вполне возможно. Мы создаем и продаем украшения и утварь для всего на свете, и они повсюду, но…
– Отмените эту выставку, господин Стейн, или будет уничтожена еще одна картина, – не повышая голоса, перебила его Вуд.
В затянувшемся молчании Стейн лишь наградил ее долгим пристальным взглядом. Потом он усмехнулся и покачал головой, будто увидел в Эйприл Вуд что-то, что казалось ему немыслимым.
– Найдите этого типа, – сказал он, – кто бы он ни был. Найдите Художника, укусите его, притащите в пасти, и все будет в порядке. А если нет, подождите, пока это сделает «Рип ван Винкль». Но не пытайтесь ставить преграды искусству, фусхус. Вы не художник, Эйприл, вы лишь охотничья собака. Не забывайте об этом.
– «Рип ван Винкль» тут ничего не сделает, господин Стейн, – откликнулась мисс Вуд. – Есть вещи, о которых вы не знаете.
Она замолчала и огляделась по сторонам. Стейн чудесно понял значение этого взгляда.
– Я бы не хотела, чтобы вокруг было столько глаз и ушей, хоть они и ваши, господин Стейн.
Лимузин остановился у входа в аэропорт. У бордюра стояла другая машина, которая отвезет Вуд назад в город. Стейн сделал знак, и его секретарь вышла из машины и закрыла дверцу. Вуд посмотрела в сторону шофера: он ничего не услышит из-за стекла.
Когда она снова заговорила, в голосе слышалась напряженность:
– Этого не знает никто: ни мюнхенские власти, ни члены кризисного кабинета, ни даже Лотар Босх. Но вам я хочу рассказать.
Возможно, это заставит вас изменить свое мнение. – Она впилась в Стейна ледяными синими глазами. – Вчера, когда мы узнали про уничтожение «Монстров», я лично позвонила Марте Шиммель проверить, не расскажет ли она что-нибудь интересное. Она рассказала, что близнецы Уолден заказали во вторник на ночь мальчика. Вы же знаете, что отдел ухода старался во всем им угождать. Они требовали платинового блондина. Шиммель на всех парах искала подходящего кандидата, но тут получила по телефону отбой. Голос был ей не знаком, но он без ошибок назвал секретный код амстердамского отдела ухода за картинами и представился помощником Бенуа. Он сказал ей, что мальчик уже не нужен. Марта собиралась сказать это сегодня Бенуа, но я попросила ее, чтобы она этого не делала. Потом я позвонила помощникам Бенуа в Амстердаме, всем по очереди, и его секретарю. В конце концов прозондировала самого Бенуа. Ни Бенуа, ни его помощники никогда не давали такого распоряжения, господин Стейн.
Вуд не мигая смотрела Стейну прямо в глаза. Стейн отвечал ей таким же взглядом. Сделав паузу, Вуд продолжила:
– Преступник не мог сделать этот звонок, потому что в этот момент он изображал картину Жильи, понимаете? Так что остается только один вариант. Кто-то подготовил почву изнутри, чтобы уничтожение картины прошло без проблем. Несомненно, это человек, занимающий высокую должность, или как минимум кто-то, у кого есть доступ к секретным кодам отдела ухода. Поэтому я прошу вас отменить презентацию «Рембрандта». Если вы не сделаете этого, Художник неминуемо уничтожит еще одну картину.
Какой-то самолет поднялся в воздух и перламутровым орлом рассекал голубое небо. Стейн с любопытством проводил его взглядом, а потом снова посмотрел на Вуд. В холодных глазах начальницы службы безопасности крылся какой-то нервный, чуть ли не испуганный блеск.
– Каким бы невероятным это ни казалось, господин Стейн, этому сумасшедшему помогает один из нас.
●●●
Когда Клара проснулась в ту среду, 28 июня, Герардо и Уль уже были здесь. По их лицам ей показалось, что этот сеанс будет особенным. Они поставили сумки на пол, и Герардо сказал:
– Сегодня мы не будем пробовать цвета. Будем рисовать многоугольники.
Так назывались упражнения на позы, которые должны были выявить физические возможности полотна. Она проглотила легкий завтрак и набор таблеток, рекомендованных «F amp;W» для улучшения работы мышц и сведения к минимуму физиологических потребностей. Герардо предупредил, что ее ждет трудный день.
– Ну так за дело, – сказала она.
Они принесли кожаный пуф. Уль вытащил его из фургончика и поставил в гостиной. Ковер и диван отодвинули в сторону и начали ее выкручивать. Они выгнули ей спину назад так, чтобы копчик упирался в пуф, подняли вверх одну ногу, затем другую и по очереди их вытягивали и сгибали. Закрепили конечную позу и поставили таймер.
Неподвижность прежде всего заключается в том, чтобы ни на что не обращать внимание. Мы получаем предупреждения, знаки надвигающегося неудобства. Мозг натягивает узды своего собственного орудия пыток. Неудобство превращается в боль, боль – в наваждение. Единственный способ выстоять (этому учат на художественных курсах) заключается втом, чтобы распознать всю эту громоздкую информацию и не подпускать ее к себе, не отвергая, но и не считая чем-то происходящим на самом деле. На самом деле согнута спина или сокращаются мышцы икр. За этими событиями – только ощущения: неудобство, судороги, извивающийся поток стимулов и мыслей, разлив битого стекла. С помощью соответствующих тренировок полотно учится контролировать этот поток, удерживать его на расстоянии, смотреть, как он нарастает, но не менять позы.
Погрузившись в свой спазм – голова на полу рядом с руками, взгляд уперся в стену, ноги вверх, копчик опирается на пуф, – Клара чувствовала себе яичной скорлупой, которая вот-вот треснет, чтобы выпустить на волю что-то иное. Для нее не было ничего лучше неудобной позы, чтобы вырвать себя самое с орбиты собственной человеческой сущности. Мозг отбрасывал воспоминания, страхи, сложные размышления и сосредоточивался на переплетении мускулов. Чудно было перестать быть Кларой и стать вещью с минимальным сознанием боли.
Так легко, что сначала она почти не почувствовала.
Меняя положение ее ног в воздухе, Уль ненужным движением прошелся по ее ягодицам. Он сделал это мягко, без резких шаблонных жестов. Просто провел рукой вдоль напряженной колонны ее левого бедра и захватил сжатые ягодицы. Нажатие было едва заметное, и он сразу отошел в сторону. Через расплывчатый промежуток времени она почувствовала шероховатые пальцы на своем правом бедре, заморгала, подняла голову и увидела, как рука Уля спускается к ее икре. Уль касался ее, не глядя. Она не шелохнулась, и Уль почти сразу же ушел.
В третий раз атака была более очевидной: после того как Уль изменил положение ее ног, он немного резко дотронулся до ее половых органов. Ошеломленная Клара согнула ноги и свернулась в клубок на полу.
– Поза! – приказал Уль. У него был рассерженный вид.
Клара лишь смотрела на него.
– Поза.
С той точки, где она находилась, фигура Уля выглядела грозно. Но Кларе на самом деле не было страшно. Что-то в поведении художника превращало эту сцену в замечательный театр, придавало всему необходимый оттенок артистизма. Она решила повиноваться. Несмотря на протесты своих связок (нет ничего хуже, чем выйти из сложной позы и снова встать в нее без предварительной подготовки), она снова оперлась на пуф, подняла ноги и застыла, вытянув голову и руки на полу. Она подумала, что Уль возобновит посягательства, но он только с минуту посмотрел на нее и удалился.
Клара знала, что Уль мог разыгрывать посягательства с гипердраматическими целями. Однако мазки были выполнены так хорошо, что, несмотря на свой опыт работы полотном, она не могла определить, где заканчивался настоящий Уль и начинался художник. Кроме того, розыгрыш не исключал возможности реальных приставаний за кулисами. Уль мог получить такие инструкции от главного художника, но неизвестно, не злоупотребляет ли он своим привилегированным положением. Провести границу было трудно, потому что между жестом художника и лаской есть бесконечное множество таинственных оттенков.
Зазвенел таймер. Оба помощника вернулись и изменили эскиз. Они велели ей встать и убрали кожаный пуф. Потом уложили ее на живот и выставили новую позу: голова поднята вверх, правая рука вытянута, левая заведена назад, левая нога вверх. Эта поза походила на позу пловца. Они вытягивали ей руки и ноги, насколько позволяли суставы. Было ясно, что они хотят написать ее в напряжении. Простого сокращения мышц было мало: они стремились подчеркнуть линии. Когда их удовлетворил твердый силуэт с вытянутыми конечностями, они снова выставили таймер и оставили ее на полу.
Это произошло в какой-то неопределенный момент во время новой позы. Она услышала его шаги в гостиной и увидела, как он присел рядом с ней. В этой позе левая грудь и половые органы были на виду: руки Уля завладели и тем, и другим.
Его движение было таким диким, что Клара не удержала неподвижность и закрылась. Тогда случилось такое, что у нее дыхание захватило.
Уль резко схватил ее за руки и развел их с непомерной, непредвиденной силой так, что она развернулась. Он впервые обращался с ней так жестоко. Более того, впервые кто-либо обращался с ней жестоко с тех пор, как ее загрунтовали. От удивления она лишилась дара речи и возможности защищаться. Художник еще больше нагнулся и впился ртом в ее шею, удерживая ее за руки. Она почувствовала его слюну, его язык, как щупальце только что пойманного и брошенного в горло кальмара, его стонущее дыхание на ее яремной вене. Она забилась изо всех сил, но Уль не ослабил хватку.
– Ты с ума сошел? – застонала она. – Пусти меня!
Казалось, Уль не слышал. Каркас очков выгибался под челюстью Клары, его рот потихоньку спускался ниже, тянулся к ее груди. Она на минуту перестала биться.
Внезапно, почти одновременно с тем, как она оставила борьбу, Уль остановился, вздохнул, встал и отпустил ее запястья. Он дышал еще тяжелее, чем она, а все его лицо покраснело. Он поправил очки на горбинке носа, пригладил волосы на затылке. Похоже было, что какой-то неожиданный прилив стыда не дал ему продолжить. Клара сидела на полу, потирая запястья. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга, восстанавливая дыхание. Потом Уль ушел.
Ей вдруг показалось, что она поняла, что произошло: Уля остановила ее внезапная пассивность, так же как случалось и раньше.
Сам по себе этот факт ничего не значил. Это могла быть человеческая, а не художественная реакция: может, Уль не решился пойти дальше, а может, он принадлежал к породе мужчин, которым доставляет удовольствие только сопротивление. Однако Клара предпочитала думать, что именно мазок обязывал его останавливаться, если она не сопротивлялась. Она взяла это на заметку и оставила для дальнейшей проверки.
Новая атака не застала ее врасплох. Ее нарисовали в позе стола: лицом кверху, руки и ноги упираются в пол, голова запрокинута, ноги разведены. В определенный момент подошел Уль. Клара взглянула ему в глаза и поняла, что все начнется сначала, но на этот раз решила сопротивляться. Она вышла из позы и встала.
– Оставь меня в покое, слышишь?
Без предупреждения ее схватили эти длинные, волосатые, как жесткие волокна конопли или щетина кисти, руки и снова толкнули на пол. Рот Уля открылся и устремился к ее рту. Она отодвинулась с отвращением на лице, уперлась локтями в его грудь и толкнула. Уль без особых трудностей устоял под этим давлением. Клара попробовала еще раз, но наткнулась на сплошную стену. Из-за упражнений она, конечно, была слабее, чем обычно, но и Уль явно обладал поразительной силой. Художник волосатой рукой схватил ее щеки и заставил ее повернуться к нему; а потом просунул язык в ее загрунтованный безгубый рот. Клара собрала все силы и подняла оба колена. Попытка на этот раз увенчалась успехом: она отбросила Уля в сторону и перекувыркнулась, чтобы удрать.
– Ни с места, – послышалось тут.
Художник снова бросился на нее, но Клара легко увернулась и снова ударила его ногами. Она не хотела причинить ему боль, но жаждала узнать, что будет, если она и дальше не уступит. Теперь она знала или подозревала, что Уль писал ее очень простым методом: добавлял оттенок резкости, если ее поведение было резким, или смягчал мазок, если поведение было мягким. Когда она уступала, он отводил кисть. Клара хотела узнать, где конец этого путешествия к полной черноте, которое, казалось, предлагал ей художник.
Внезапно все приобрело неконтролируемый ритм отчаянной борьбы. Уль обхватил ее руками, она барахталась, очки Уля упали на пол со странным неприятным звуком, их хозяин покраснел и занес руку для удара. Тут она почувствовала страх. «Он может меня повредить», – пронеслось в голове. Ее не пугала вероятность удара. В некоторых арт-шоках ей доставались удары публики или других полотен, но все было запланировано художником и заранее договорено с ней. Ее пугала неуправляемость ситуации. «Он все больше нервничает и может повредить меня и испортить грунтовку».
От этой мысли она расслабилась. Тогда Уль бросился на нее и языком обследовал ее подбородок и горло.
Но снова остановился.
Клара, тяжело дыша, сидела на полу, пока Уль с трудом вставал. Они выглядели как двое спортсменов после сложнейшего упражнения. Она внимательно посмотрела ему в глаза. Но в этом лице не было ничего, кроме взгляда, погруженного в стекло очков, которые воспитанно и аккуратно надевал Уль. Вскоре художник вышел из гостиной по направлению к крыльцу.
Все приняло такой удивительный оборот, что, когда наступило время перерыва, Кларе почти не хотелось есть. Ей не хотелось прерывать эти этюды и погружаться в холод обыденности. Но она заставила себя, потому что знала: нужно на минутку остановиться в ее сумасшедшем подъеме в гору. Сначала она зашла в туалет, умылась, смыла все следы Уля с шеи и со рта и посмотрелась в зеркало. Следов не осталось, разве что небольшое покраснение на запястьях. Загрунтованная кожа намного прочнее обычной, и чтобы оставить на ней следы на длительное время, Улю пришлось бы писать ее еще резче. Она улыбнулась, и ее лицо приобрело то злорадное выражение, которое так нравилось Бассану. «Я тебя разгадала: ты пользуешься силой, когда я отвечаю тебе тем же. Хочешь написать меня агрессивной», – сказала она себе. Глаза горели, но она знала, что это оттого, что она держала их открытыми, находясь в позе. Она промыла их соляным раствором.
Пообедала нагишом перед Герардо. Местонахождение Уля было неизвестно. Герардо уже закончил с едой и спокойно наблюдал за ней.
– Ты видела мужчину за окном еще раз? – спросил он.
Сначала она не знала, о чем он.
– Да, но я позвонила в отдел ухода. Они сказали, что это охранники, и я успокоилась. Остаток ночи я спала очень крепко.
– Видишь, как я и говорил: охранники.
– Ага.
Последовало молчание. Она съела сандвич и начала намазывать сыр на кусок хлеба с отрубями. Все мышцы болели, но это ее волновало меньше всего. Ее заполняла радостная ярость, она кипела, как шипучая жидкость, которую часами трясли в бутылке. Иногда она поглядывала на дверь, чтобы не пропустить возможное появление Уля. Вспоминала его дыхание. Вспоминала его жестокость. И то, как все прерывалось, когда она уступала. Но что случилось бы, если бы она не уступила? Как далеко зашли бы мазки, какого далекого оттенка темноты можно было бы достичь? Эта мысль не покидала ее. Что случится, если в следующий раз она решит не уступать ни в коем случае, не поддаваться ни по какой причине? Возможности были устрашающими.
– Как прошло утро?
От вопроса Герардо она заморгала. Уж в этот-то момент меньше всего ее тянуло на банальную беседу.
– Хорошо, – ответила она.
Тогда он облокотился на стол, наклонился к ней и, помрачнев, произнес:
– Слушай, я должен тебе кое-что сказать.
Они молча переглянулись. Клара тихонько жевала и ждала.
– Юстус злится.
Она ничего не сказала, но сердце у нее забилось быстрее.
– А Юстуса злить нельзя, потому что если Юстус разозлится, то и ты, и я окажемся на улице, слышишь?
– О чем ты? – с невинным видом спросила она.
Казалось, Герардо подыскивает подходящие слова. Он разглядывал руки на скатерти.
– У нас… У нас есть некоторые правила по обращению с молодыми полотнами женского пола, ну, ты понимаешь. И полотна должны их выполнять. Мне не нравится об этом говорить, но иногда это необходимо, как сейчас, потому что, похоже, ты ни во что не врубаешься, крошка.
– А во что я должна врубиться?
– Что ты в привилегированном положении. Ты – полотно, нанятое Фондом ван Тисха, тебе жутко повезло, еще бы. Но это везение может в любой момент прерваться. Юстус – старший помощник, я же говорил тебе. Короче, это довольно влиятельный художник там, в Фонде. Ты имей в виду. Я тебе говорю это не для того, чтоб ты пугалась, а для того, чтобы поняла… и сделала то, что от тебя требуется, о'кей?
– Ну, я ничего не понимаю.
Он нетерпеливо фыркнул и заерзал на стуле.
– Слушай, крошка, ты вроде не дура. Предупреждаю: если ему вздумается, Юстус может выгнать тебя хоть сегодня.
– И что, интересно, я должна делать, чтобы он меня не выгнал?
– Ты сама прекрасно знаешь. Ты же не идиотка. Ты ему очень нравишься. Сама решай.
Этот интереснейший диалог никак не укладывался у нее в голове. Она предположила, что все это из-за неуклюжести Герардо, из-за его неловких, наигранных жестов, из-за чересчур ровного голоса и скованных манер ребенка, играющего роль злодея в какой-то игре. Самым замечательным для Клары было то, что, возможно, Герардо говорит правду. Невозможно было наверняка убедиться, что все это – фарс, хоть так оно и выглядело.
– Ты мне угрожаешь? – поинтересовалась Клара.
Герардо поднял бровь.
– Я просто говорю тебе, что Юстус – начальник, после него иду я, а ты находишься в нашем полном и абсолютном распоряжении. И если ты хочешь, чтобы тебя писал великий мастер из Фонда, тебе лучше не сердить его помощников, поняла?
По ее телу прошла вибрация, дрожь чистого искусства. Она впервые испытала какую-то оторопь от слов Герардо, и это ей понравилось. По ней сделали красивый мазок, и ее полная нагота помогала придать ему необходимый эффект темноты. Она скрестила щиколотки, уселась поудобнее и, отведя глаза, пробормотала:
– Ладно.
– Надеюсь, теперь ты будешь с Юстусом полюбезнее, о'кей?
Она кивнула.
– Я не слышал ответа, – сказал он.
Это новое давление кисти опять понравилось ей. Она быстро ответила:
– Да, ладно.
Герардо прищурил глаза и странно посмотрел на нее. Больше они не говорили.
Во время вечерних этюдов она попробовала «быть полюбезнее». Ее поставили на носочки, как балерину. Время шло. Стоя на ногах, она могла рассматривать себя в зеркала гостиной. Одно из них отражало только половину ее тела, разрезанный силуэт, хаос из линий и объема. Они оставили ее довольно надолго, пока неожиданно к ней не подошел со спины Уль.
Она с первой минуты ответила на его поцелуй даже с большим жаром, чем первоначально вложил в него он. Она двигала языком в темном рту Уля, сжала его в объятиях и прижалась нагим телом к его одежде.
Это подействовало как укус осы. Художник резко отстранился и вышел из комнаты. В тот вечер новых попыток не было.
«Значит, если я уступаю, все кончается, – размышляла она. – А если не уступлю?»
Второй вариант очень страшил ее.
Она решила его испробовать.
Она была очень возбуждена, но вечером свалилась в постель как подкошенная. Закралось подозрение, что все дело в таблетках. Когда она проснулась, то предположила, что настал четверг, 29 июня. Она чувствовала себя готовой к новому нападению. Ни о каких ночных происшествиях она не помнила: такое ощущение, что она была в бессознательном состоянии. Но она снова спала с закрытыми жалюзи, и если какой-то охранник и подходил к ее дому, она не заметила. Кроме того, она начала забывать о своих ночных страхах, потому что все ее внимание было занято дневными.
Утром делали этюды стоя, полностью выгнув спину назад. Позы были трудными, и время, проходившее между звонками таймера, длилось бесконечно. Уже почти в полдень ей удалось совладать с дрожью, и неудобное положение позвонков превратилось в простое течение времени. Уль больше не беспокоил ее, и это ее удивляло. Она недоумевала, могла ли ее отдача накануне полностью сковать его.
После обеда Герардо пригласил ее прогуляться. Она немного удивилась, но решила согласиться, потому что выйти из дома ей очень хотелось. Она надела халат и толстые защитные тапочки из полиэтилена, и они вместе прошли по гравийной дорожке сада до забора. Потом вышли на дорогу.
Как она и подозревала, при дневном свете местность оказалась очень красивой. Слева и справа тянулись другие сады и заборы, скрывавшие новые дома с красноватыми крышами. Вдалеке – лесок, а посередине – шоссе, по которому ее привезли в фургончике. Клара с восхищением заметила на горизонте силуэты нескольких мельниц, которые ни с чем не спутать. Все было похоже на типичную голландскую открытку.
– Все эти домики – собственность Фонда, – пояснил Герардо. – Здесь мы делаем этюды с большинством фигур. Это место удобнее, потому что тут мы полностью изолированы. Раньше все этюды готовили в «Старом ателье», в Амстердаме, в районе Плантаж. Но сейчас мы делаем этюд здесь и, если нужно, заканчиваем его в «Ателье».
Герардо вел себя так, будто вырвался на свободу. Он осторожно касался ее плеча рукой, когда хотел что-то показать, и чудно улыбался. Казалось, что атмосфера работы внутри дома давит на него еще больше, чем на нее. Они шли по обочине, прислушиваясь к звуковой дорожке обжитых полей: пение птиц сливалось с тарахтением далекой машины. Иногда небо с коротким ревом прочерчивал самолет. У Клары немного болели мышцы спины. Она решила, что это из-за неудобных поз, в которых она стояла утром, и испугалась, потому что не хотела повредиться, когда этюды в полном разгаре. Она раздумывала об этом, но тут снова заговорил Герардо:
– Это перерыв. Я имею в виду, официальный перерыв. Ты же понимаешь, да?
– Ага.
– Можешь говорить спокойно.
– Ладно.
Она прекрасно понимала. Некоторые художники, с которыми она работала, пользовались определенными паролями, чтобы дать ей понять, что гипердраматическая работа прервана. С живыми полотнами иногда нужно было проводить черту между реальностью и размытыми гранями искусства. Герардо хотел ей сказать, что с этого момента и он, и она будут самими собой. Он предупреждал, что оставил кисти в стороне и хотел прогуляться и поболтать. Потом работа возобновится.
Однако это решение озадачило ее. Перерывы – обычное дело во время любого сеанса ГД-живописи, но нужно очень осторожно определять точный момент для перерыва, потому что все живописное сооружение могло рухнуть в мгновение ока. И этот момент казался Кларе не самым подходящим. Накануне тот самый молодой человек, с которым она гуляла, прибегнул к угрозам, чтобы она подчинилась сексуальным капризам его коллеги. Мазок был очень интенсивным, но и очень хрупким, тонким контуром, который можно было испортить, не дав как следует высохнуть. Хотелось верить, что Герардо знает, что делает. Кроме того, может быть, этот перерыв – тоже игра.
Помолчав, Герардо посмотрел на нее. Оба улыбнулись.
– Ты очень хорошее полотно, дружочек. Я знаю, что говорю. Первоклассный материал, черт побери.
– Спасибо, но, по-моему, я такая, как все, – соврала Клара.
– Нет-нет: ты – классное полотно. И Юстус тоже так думает.
– Вы тоже ничего.
Ощущение неудобства нарастало. Она бы предпочла немедленно вернуться в дом и снова погрузиться в напряженную гипердраматическую обстановку. Эта заурядная болтовня с одним из технических работников ее пугала. Невозможно поверить, что Герардо хочет вести с ней глупый разговор типа: «Что нравится тебе и что нравится мне?» Такие разговоры она выносила только от Хорхе, но Хорхе – это обыденность, а не искусство.
«Успокойся, – сказала она себе, – пусть руководит он. Он – художник Фонда, профессионал. Он не допустит никаких глупостей с полотном».
– Юстус лучше, чем я, – продолжал Герардо. – Серьезно, дружочек, он – потрясающий художник. Я уже два года помощником. Раньше работал учеником мастера домашней утвари. Юстуса тогда только повысили до старшего. Мы подружились, и он порекомендовал меня на эту должность. Мне очень повезло, кого попало сюда не берут. К тому же, знаешь, мне не нравилось писать украшения. Картины – это мое.
– А.
– Но на самом деле больше всего мне хотелось бы стать независимым профессиональным художником. Чтобы у меня была своя мастерская и я мог нанимать свои полотна. Такие полотна, как ты: хорошие и дорогие. – Она рассмеялась. – У меня масса идей, особенно для наружных картин. Я бы хотел продавать наружные картины коллекционерам из жарких стран.
– Ну так займись этим. Это хороший рынок.
– На такую мастерскую нужны деньги, дружочек. Но когда-нибудь я так и сделаю, ты не думай. Пока мне достаточно этого. Я зарабатываю нормальные деньги. Не каждому дано стать техническим помощником в Фонде ван Тисха.
Клару перестал раздражать самодовольный тон Герардо. Она воспринимала его как часть его жуткой вульгарности. Но этот диалог раздражал ее все больше и больше. Она очень хотела вернуться в дом и продолжить этюды. Даже окружающий красивый пейзаж и свежий воздух не могли поднять ей настроение.
– А ты? – спросил он.
Он с улыбкой смотрел на нее.
– Я?
– Да. Чего хочется тебе? Больше всего в жизни?
Она ответила, не задумавшись ни на секунду:
– Чтобы какой-то художник написал мной великую картину. Шедевр.
Герардо усмехнулся.
– Ты уже очень симпатичная картина. Тебе не нужно, чтобы тебя писали.
– Спасибо, но я говорила не о симпатичных картинах, а о шедеврах. Великих картинах. Картинах гениальных.
– Тебе бы хотелось стать гениальной картиной, даже если б она была уродливой?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.