Текст книги "Книга Мануэля"
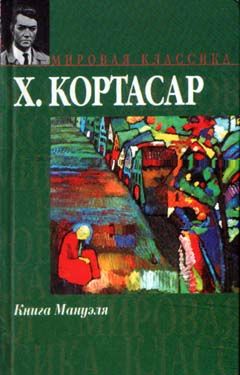
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Да что ты говоришь, – замечает Гомес. – Стало быть, муравей-путешественник подцепил тебя в самолете.
– Дайте мне чуток отдохнуть после моего выступления, – говорит Эредиа, который, между прочим, исполнял свой номер с явным удовольствием, не так уж часто обстоятельства позволяют развить его до такого момента. – В общем, они гораздо глупее, чем нам казалось, они же могли предвидеть, что я не идиот и тоже имею кой-какую информацию. Ты помнишь Руя Мораэса, он еще приземлился однажды в Буэнос-Айресе с чемоданом, набитым пистолетами? Сейчас он в Лондоне, делает работенку для Ламарки и, кстати, сообщил мне некоторые точные сведения, которые понравятся Маркосу. Мурашка-путешественник попробовал появиться на одной дружеской вечеринке, ты же знаешь, как подобные типы просачиваются, и Руй мне его указал между стопкой можжевеловой и задом какой-то красотки, на этом party [74]74
Вечеринка (англ.).
[Закрыть] толклось столько народу, что видимость, прямо сказать, была не из лучших, но все равно я приметил его нос продувного мошенника. Из осторожности я смылся пораньше, чтобы нас случайно не познакомили, и вот, на тебе, сегодня встречаю его в самолете, садится рядом и начинает «извините, но мне кажется, что вы тоже бразилец и так далее». Я немного тревожился, думал, что меня, возможно, будет встречать Маркос, и, сами понимаете, нисколько не обрадовался, когда увидел нас, но, к счастью, вы не такие уж олухи, какими кажетесь.
– Едем поскорей к Маркосу, – сказал Эредиа. – Во всяком случае, этот тип теперь не очень-то знает, что думать, на каждого Фортунато найдется свой Монтрезор.
Он сказал это в основном для самого себя, ни Гомес, ни Патрисио начитанностью не блистали, это было очевидно по тому, что они уставились на него, будто на какого-то глилтодонта, после чего – чемоданы, и вперед, предварительно оглядев горизонт, на котором, разумеется, не было никаких муравьев, кругом сплошной технический прогресс и двери, открывающиеся и закрывающиеся от одного твоего взгляда на них издали.
* * *
– Значит, ты собираешься заполнить вступительную анкету? – сказал я ей.
– Да. Театр отнимает у меня не слишком много времени, могу заняться еще чем-то, а в последние месяцы развлечений у меня было довольно-таки мало.
– Знаю, полечка моя, знаю. Я не уделяю тебе внимания, ухожу куда-то бродить, не вожу поглазеть на медведей.
– Не придавай себе слишком большого значения, – сказала Людмила, угрожая мне концом весьма острого каблучка своей туфли. – Я умею играть одна, но теперь другое дело, есть игра, которая, возможно, послужит чему-то, как знать.
– Ты правильно поступаешь, Людлюд, к тому же тебе всегда очень нравились пингвины.
Людмила провела ладонью по моему лицу, поцеловала в затылок и отобрала сигареты. О, эти ее повадки морского конька, аромат свежевымытых волос, веселый беспорядок всех ее телодвижений! Мы вместе закурили, вместе распили один стакан вина; я подумал, как было бы приятно послушать «Prozession», вот она, пластинка, под рукой, но предпочел, чтобы Людмила продолжила рассказ -о поездке в Орли, прерываемый приступами хохота и немыслимыми отклонениями и отступлениями, – впервые у меня возникло ощущение, что есть перспектива каких-то перемен, вдруг проявились четкие контуры, линии и темы фуги (пусть не музыкальной), безошибочное чувство, что Mapкос, и Патрисио, и остальные подходят к осязаемым делам, что Маркос уже не флегматичный, рассеянный гость, заглянувший ко мне в это утро. Конечно, ни у Людмилы, ни у меня не было ясного представления об их пресловутой Буче, мы лишь догадывались о том, что Лонштейн назвал бы эпименовання или пролегочала, но довольно было и того, что в глубине души я почувствовал приближение Людмилы к Буче, и сразу же вся эта абстрактная болтовня воплотилась, резкое «играм конец» внезапно изменило и меня, сместило в другую позицию по отношению к Маркосу и остальным, особенно же к Людмиле, которой, уж непременно, придется платить за разбитые горшки, встревать со своей польской наивностью в немыслимые скандалы, лезть маленькими своими лапками в самую гущу кипящего супа, ах, сукины дети. Он думал об ном почти с нежностью, даже с радостью, потому что побил Патрисио, и Маркоса, и Гомеса, теперь и впрямь что-то происходит, близится смертельный номер на канате (королевские броненосцы и бирюзовый пингвин, моя полечка, скажите на милость), близится Буча, и будь что будет, это уже вам не вой в кино и не горелые спички.
Наверно, лицо у Андреса во время этих размышлений было не слишком веселое, потому что Людмила воззрилась на него и снова принялась гладить его по щеке, но этот жест был внезапно прерван, ибо Людмиле понадобились обе ее руки, чтобы схватиться ими за голову.
– В полвосьмого репетиция! Господи, совершенно забыла вспомнить!
– Не плачь, киска, лучше выпей еще глоток со своим грешником Андресом, который не понимает тревог современной истории, и расскажи еще немного о муравьях, чувствую, что они застряли у тебя в горле.
– Хрен ядреный и ракушка кудрявая, – сказала Людмила, – на сей раз меня уж точно убьют!
– Ба, не стоит заламывать руки, детка, все равно ты пришла бы, когда все уже перемрут или переженятся, давай лучше поедим пучеро, он такой вкусный, клянусь, я следовал всем твоим указаниям, овощ за овощем.
– Ты прав, пошли они все к черту, – сказала Людмила. – Они же могли позвонить мне еще разок, не так ли?
– Тебе звонили в шесть, любовь моя, и это было первое, что я тебе сказал, когда ты явилась после встречи пингвина.
– Мне заморочили голову, я все забыла из-за волнения, из-за этих долларов… Ах да, муравьи, конечно, я тебе расскажу, но сперва мне надо успокоиться, плесни мне чего-нибудь в стакан. А как поживает Франсина?
– Хорошо, – сказал я ей с той же неизбежной переменой интонации, какая послышалась в ее голосе, и начался этот диагональный бой, вопрос – ответ, шар в лузу, бессмысленный пинг-понг.
– Я думала, ты пойдешь к ней, – сказала Людмила. – Я это подумала, когда ты сказал Маркосу, что не поедешь в Орли.
– Расскажи, как прибыл пингвин.
– Уж так он тебя интересует, этот пингвин.
– Ну ладно, поговорим о Микеланджело, если угодно. Ах, Людлюд, возможно ли, что
Мой друг нервничает, какое ему дело до Франсины, и пучеро, и грустной Людмилы, и прочих тонкостей свободомыслящего ума, попусту себя терзающего (да, да, думаю я, толкуй мне теперь всякие свои прогрессивные схемы, когда ты сам еще хуже), а ему-то требуется связное объяснение деятельности Гада, муравьев и Бучи, для чего мой друг первым делом ображает (скорее от «изображать», чем от «воображать») следующую схему.
Мой друг при этом воспользовался неким фотороботом Гада, который был изготовлен Гомесом и Люсьеном Вернеем и определялся следующими чертами:
1) Гад – явление южноамериканское (аргентинское? боливийское? По выбору, в алфавитном порядке).
2) Гад есть орган полно
– правный
– лунный (астральный признак, по мнению Лонштейна, столь же важный, сколь зловещий)
– властный (комплект, определяемый по всему алфавитному перечню, поименованному supra [75]75
Выше (лат.).
[Закрыть], т. е. (гипотетично) ОАГ, ЦРУ, МБРР [76]76
Международный банк реконструкции и развития.
[Закрыть], Нельсон Рокфеллер, разные фонды и пр.).
3) Гад действует в Европе.
4) Гад защищен паравоенным отрядом – это муравьи, коими командует Муравьище. Для определения муравьев применима почти вся совокупность экологических ниш (например, Фортунато бразилец, а Муравьище, по предположениям, сальвадорец, хотя истинное его происхождение держится в секрете).
ГАДСКО-МУРАВЬИНАЯ ОРГАНИГРАММА NB: Как все органиграммы, эта тоже не очень понятна

* * *
Пуччиниево интермеццо
В номере 498 на ночном столике стоял радиоприемник. Оскар включил свет со всеми предосторожностями, чтобы не разбудить Гладис, спавшую с пальцем во рту в стиле Baby Doll [77]77
Кукла Малыш (англ.).
[Закрыть] и выпятив попку, тоже как у Baby Doll, только совершенно не прикрытую. Сев на кровати, он зажег сигарету, пользуясь окопным способом времен войны 1914 года, усвоенным в тринадцатилетнем возрасте в кинотеатре «Рока де Альмагро», – заслоняешь огонек ладонью, а спичкой чиркаешь по участку не более пяти миллиметров, дабы приглушить звукпустьлишьшорох, которого, конечно, не услышала Гладис, спавшая крепким сном, вполне заслуженным после сотен пластиковых подносов и трах-трах с Оскаром. Плохо было то, что радиоприемник в отеле был из тех, у которого всего три программы, и две из них всегда дерьмо, да еще на французском, а по третьей давали «Турандот», второй акт, ария принцессы. Манипулируя регулятором силы звука, как прежде спичкой, хитроумный Оскар убедился, что Турандот могла разряжать свое едва скрытое сексуальное порабощение на таком уровне громкости, который не разбудит Гладис, и, откинувшись на волшебно мягкую подушку, отдался во власть табака и музыки, чувства нереальности этого часа, когда одна только Гладис связывала его с другим, концом света, с Аргентиной, вдруг оказавшейся непостижимо далекой и туманной, с пансионом доньи Ракели, который, бог знает почему, возник в его уме, и, кстати, с грудками Моньи в полнолуние среди кустов жасмина. В полудреме он слушал пуччиниевскую мелодию, с детства знакомую и любимую, и было в ней и благоухание жасмина в Сантос-Пересе, и аромат спящей и удовлетворенной Гладис, аромат ее тела, еще не омытого душем, и три загадки, и воспоминание о где-то прочитанном случае, как Тосканини, дирижируя в Милане на генеральной репетиции «Турандот», после сцены самоубийства Лиу остановил оркестр и
со слезами на глазах сказал: «Здесь рука маэстро перестала писать, на этом пассаже Пуччини скончался», и оркестранты молча встали, и все это рассказывалось для того, чтобы кстати сообщить Оскару, что завершил «Турандот», воспользовавшись оставленными Пуччини указаниями, Франко Альфано, и тут невольно спрашиваешь себя, сколько же есть таких случаев, – мы восхищаемся статуями в музеях, не подозревая, что половина статуи была восстановлена, как скелеты диплодоков, по одной крохотной косточке, вспомните Амегино, вот так-то, а еще газетные сообщения, сфабрикованные из одной сплошной липы, другие девочки проделали отверстие в решетке на кухонном окне и вылезли на пустырь, прилегающий к 41-й улице, поди знай, отверстие, возможно, было проделано раньше, и неизвестно, сбежали ли девочки через пустырь, освещенный полной пуной, в неистовстве устремляясь к ограде, к карнавалу по другую сторону, обезумев от жизни под замком и немыслимой скученности, от жирных похлебок и пощечин или более тонких педагогических оскорблений. Какого черта я к этому возвращаюсь, как муха к требухе, сказал себе Оскар, свободный от предрассудков по части метафор, но это не было метафорой, это возвращалось по-иному, словно повинуясь тайному сходству, и Турандот в финальном повторе арии сулила любовь или смерть в изумительно простой фразе, которую Андрес счел бы невыносимо пошлой после «Prozession», – он наконец-то мог спокойно ее послушать, пока Людмила на диване внимала музыке на свой лад, то есть читая стихи Любича-Милоша, к которым у нее было перемежающееся влечение.
* * *
По временам мой друг забавлялся тем, что воображал Андреса как бы сидящего верхом на коньке двускатной крыши; в другую эпоху он был бы способен заполнить некую анкету, отметив сродство людей вроде Андреса, например, с Генри Джеймсом, также сидевшим на коньке между миром своего поколения и первыми встрясками, вызванными телефоном, автомобилем и Гульельмо Маркони. Теперь, однако, моего друга больше интересовал иной вид пограничной ситуации для человека вроде Андреса: ведь Андрес, конечно, сознавал, что такое сидение верхом в личной жизни приводило к самоедству, к настоящей бойне гладиаторов, к всегда нелепым потугам обособиться в плане языка, общественных связей, идеологических течений, что, вместе взятое, порождало некую туманную сумятицу, и тут мой друг пользовался случаем, чтобы взять лупу и пробормотать нечто вроде «погоди, вот зацепит тебя Мао, и будет тебе и Франсина, и твое освобождение чувств, и твое кресло перед стереофоническим проигрывателем».
Мне все это представлялось столь же очевидным, как и моему другу, особенно после сна о Фрице Ланге, сна, который, в каком-то смысле совершенно непонятный, был в то же время иной, темной формулой этого тупика без выхода, но с двойным именем Людмила-Франсина. В полной этой темноте все было яснее ясного, потому что я в то время ежедневно разбивал себе лоб об упрямую необходимость отказаться от прямой линии как кратчайшего расстояния меж двумя точками, любая неэвклидова геометрия виделась мне более применимой к моему ощущению жизни и мира, но как втолковать это Людмиле или Франсине, – после стольких блужданий и надежд остались лишь тошнота и фрустрация, упреки себе, всегда в рамках ортодоксального поведения, угрызения совести да противный привкус во рту раба своего западного и мелкобуржуазного вероисповедания, ощущение, что надо было что-то сделать и ты этого не сделал, отложил задание на потом, черный провал между тем моментом, когда капельдинер привел меня в комнату, где меня ждали, и моментом, когда я оттуда вышел, зная, что я что-то забыл, что-то должен сделать, но не могу, ибо не помню, что именно. И так каждый день и, разумеется, при бдительном «Сверх-Я», насильно теснящей надстройке дневной жизни, а сидящий на коньке человек все пытается соединить мир-Людмилу и мир-Франсину (и больше, много больше того, целую розу ветров, которая включит мельчайшую различимую на горизонте деталь), чтобы хоть иногда, в отчаянном порыве желания, прикоснуться к миру Людмилы-Франсины, и, конечно, на каждом шагу наталкиваешься на бинарность, на несоединимое двойное зрение с конька двускатной крыши.
– Знаешь, – сказал Андрес, подливая вина Людмиле, пряча пластинку с «Prozession» и нашаривая трубку, – знаешь, полечка, когда я был мальчиком, меня восхищало такое глупое развлечение, как верховая езда, – ты мчишься вперед и наблюдаешь, как почти одновременно перемещается двусторонний пейзаж, ранчо слева, тополевая роща справа, заброшенный дом справа, красивый ручеек слева, а впереди, можно сказать, ничего нет, два уха твоей лошади, горизонт, который уже издали начинает сдвигаться налево или направо, и ты знаешь, что в какой-то миг этот омбу в центре окажется слева, меж тем как сидящая на сухом дереве совушка будет справа.
Людмила захлопнула книжку с литовскими стихами и уставилась на меня взглядом, еще блуждавшим в мире образов, очень далеких от того, что она видела перед собой, от этого мужчины, который, наслушавшись музыки Штокхаузена, уныло твердит, потому что, Люд, самое ужасное, понимаешь ли, не в том, что надо выбирать, люди каждый день что-то выбирают, это неизбежно, вот ты намерена включиться в Бучу, а я стал на сторону арабских стран, сит grano sablis [78]78
С крупинкой песка (лат.) – Андрес намеренно искажает латинское выражение «cutn grano salis» (с крупинкой соли), означающее «с солью остроумия», «с некоторой поправкой, оговоркой».
[Закрыть], это точно – но всего лишь мысленно, что еще точней, – самое трудное или рискованное не это, хотя и это сулит всевозможные проблемы, и мой выбор арабских стран в особенности занесен песком, занудство всякого водораздела, дорогая моя девочка, в том, что простакам кажется, будто тут как ножом отрезал, одно здесь, другое там. Но, конечно, полечка, ты ни слова не поняла из того, что я говорю.
– Как же ты хочешь, чтобы я тебя поняла, – пробормотала Людмила, придвигаясь поближе и засунув руку в мою шевелюру, почесывая меня коготками, как кошку, что всегда доставляло мне огромное удовольствие, – если ты начал говорить уже в конце туннеля, хитрец ты этакий. И все же заметь, насколько я понятлива, мне кажется, что я уловила твою мысль и что тебе не придется доставать атлас Мишлена.
– По сути, Людлюд, это несложно, я размышлял о том, что проблема выбора, которая все больше становится проблемой нашего гнусного и чудесного века с маэстро Сартром или без оного, перелагающего его на интеллектуальную музыку, так вот, эта проблема состоит в том, что мы не знаем, чистыми ли руками делаем свой выбор. Да, я знаю, сделать выбор – это уже немало, даже если ты ошибся, – тут есть риск, есть фактор случая или генетического рока, но, в конечном счете, выбор сам по себе есть нечто ценное, он определяет и укрепляет. Проблема в том, что вдруг – я имею в виду себя, ведь когда я выбираю, я вижу в этом акт освобождения, расширения своих возможностей, – вдруг я в своем выборе повинуюсь импульсам извне, принуждениям, табу или предрассудкам, исходящим именно с той стороны, которую я хочу покинуть.
– Блуп, – сказала Людмила, которая всегда это говорила, чтобы меня подбодрить.
– Разве многие из нас, желая сломать буржуазные рамки, не руководствуются порывами, также по сути буржуазными? Когда видишь, как революция почти сразу пускает в ход машину психологических, или эротических, или эстетических репрессий, которая почти симметрично соответствует якобы сломанной машине в плане политическом и практическом, то задумываешься, а не надо ли более тщательно рассматривать большинство сделанных нами выборов.
– Ладно уж, чем рассматривать свой пуп, как ты сейчас делаешь, лучше было бы пытаться делать что-то вроде суперреволюции всякий раз, как представится случай, а я думаю, что он представляется ежедневно.
– Конечно, Люд, это так, но надо бы яснее различать это просачивание отвергнутого в новое, ибо сила полученных идей невероятна. Лонштейн, который, как ты знаешь, возвел мастурбацию в искусство, – впрочем, я, кажется, тебе об этом не рассказывал, – дал мне почитать научный текст викторианской эпохи с перечнем признаков мальчика-онаниста, точно таким, каким нас стращали родители и учителя в Аргентине тридцатых годов. Круги под глазами, желтый цвет лица, запинающаяся речь, влажные ладони, тусклый, блуждающий взгляд и так далее; этот портрет, безусловно, сохраняется и поныне в воображении у многих, хотя смена поколений наверняка его согрет. Лонштейн очень веселился, и не только потому, что он меж одиннадцатью и пятнадцатью годами нисколько пе соответствовал этому портрету, более того, он прекрасно помнит, что в то время мнил себя чудесным исключением и был страшно доволен, что его папаша не мог его уличить; то есть, если ты вдумаешься, им тогда было усвоено традиционное клиническое описание в такой мере, что он видел себя каким-то счастливым исключением.
– Я однажды в одиннадцать лет попробовала онанировать с помощью гребенки, – сказала Людмила. – Черт возьми, это чуть не кончилось плохо, я тогда, видимо, совсем дуреха была.
– Гребенки существуют для того, чтобы пай-деточки обертывали их папиросной бумагой и играли веселые мелодии, прошу это помнить. И раз уж мы углубились в сексологию, в упомянутой книге есть намек на другое явление, которое всегда привлекало мое внимание в развратных романах де Сада, а именно предполагаемая эякуляция у женщин. / Эякуляция у женщин? / Вот-вот, моя дорогая, можно подумать, что ты никогда не читала «Жюльетту» или ее многочисленное потомство. / Да, «Жюльетту» не читала, потому что не достала, зато прочла «Жюстину». / Это намного слабее, но и там женщины эякулируют, и глубинные причины этого убеждения, которое разделялось всеми медицинскими светилами эпохи, тоже проблема, связанная с сексуальной дискриминацией полов и господством мира мужчин, которые становятся образцом для подражания, поэтому женщина соглашается или, возможно, выдумывает, что у нее тоже бывает эякуляция, а мужчина в свой черед признает это несомненным, поскольку именно он является образцом. / Чего только ты не знаешь. / Я-то нет, а вот некий Стивен Маркус, тот просто орел, но речь не об этом, я, знаешь, как-то беседовал с одним скрипачом-французом, любителем интимных тем, и он рассказал мне о своей любовнице кавказского происхождения, некоей таинственной Базилике, она, по его словам, была в любви так неистова, что в конце у нее происходила эякуляция, от которой его бедра становились мокрыми. / Блуп. / Заметь, этот парень знал о женщинах куда больше меня, однако он, видимо, считал, что у Базилики было лишь крайнее проявление того, что присуще им всем. Я не решился высказать ему мои сомнения, но на его примере видно, как некоторые представления, преодолев барьер между полами, внедряются в умы другой стороны, убеждая даже такого знатока женщин, как тот скрипач. Вот я и спрашиваю себя – а вдруг я, желая что-то в себе изменить, на деле желаю этого лишь настолько, чтобы в основе не менялось ничего существенного, и, когда я полагаю, что выбрал что-то новое, мой выбор, возможно, продиктован подсознательно всем тем, от чего я хотел бы отказаться.
– Во всяком случае, ты выбираешь, и ладно, – сказала Людмила, и я почувствовал, как она, будто тряпочка, складывается вдвое, вчетверо, в восемь раз. Я стал ее целовать, щекотать, стиснул так, что она охнула, и все время мысли, разговоры, все время Андрес как бы удваивается, выходит из своей скорлупы, целует меня, щекочет, стискивает так, что я охаю, все время мысли, разговоры, послушай, Людлюд, я понимаю, все это Франсина, послушай, Людлюд, я выйду на поиски, мне необходимо выйти на поиски, значит, Франсина или та поездка в Лондон, когда я тебя оставил одну, потому что мне надо было побыть в одиночестве, но все дело в том, чтобы знать, действительно ли я ищу, действительно ли иду на поиски или всего лишь самодовольно замыкаюсь в своем культурном наследстве, своем буржуазном Западе, в своей крохотной, презренной и изумительной индивидуальности.
– Ах, – сказала Людмила, – когда ты так рассуждать, я уже не верю, что ты сильно изменился с тех пор, как, по твоему выражению, начал выходить на поиски. Скорее наоборот, стало быть, quod erat demonstrandum [79]79
Что и следовало доказать (лат.).
[Закрыть], нот тебе, получай.
– Гм, – сказал Андрес, ища трубку, что у него всегда было отвлекающим маневром. – Почему же ты изменилась?
– Потому что ты меня разочаровал, потому что ты ненастоящий, потому что в душе ты прекрасно знаешь, что не хочешь ничего менять, что эта трубка всегда будет твоей трубкой и горе тому, кто попробует ее отнять, и в то же время ты готов разнести в щепки этот дом, точно так же, как разнес бы в щепки дом Франсины, – ведь каждый удар там или здесь отдается vice versa [80]80
В обратном порядке, обратно (лат.).
[Закрыть], так что нам обеим, чтобы знать новости, и телефона не надо.
– Да, – сказал Андрес, – да, Людлюд, но все же это два дома и, если продолжить твою метафору – только постарайся меня понять, – два дома – это не восемь окон, а шестнадцать, это различный вкус соусов, это одна сторона, выходящая на север, и другая на восток.
– Тебе, во всяком случае, не так уж много пользы от твоего двойного жилья и от шестнадцати окон, ты и сам об этом догадываешься, а между тем, многое уже никогда не будет таким, как раньше.
– Я хотел, чтобы ты меня поняла, я надеялся на какую-то мутацию в любви и взаимопонимании, мне казалось, что мы сумеем сломать стереотип пары и одновременно обогатим себя и что при этом не придется ничего менять в чувствах.
– Не придется ничего менять, – повторила Людмила. – Вот видишь, при твоем выборе ты не хотел ничего менять в сути, для тебя это была и есть пустая игра, научная экспедиция вокруг лохани, фигура танца, и вот ты снова на том же месте. Но при каждом пируэте ты разбивал какое-то зеркало, а теперь, оказывается, ты даже не уверен, что разбивал их, чтобы что-то изменить. Да, между тобой и Мануэлем невелика разница.
– В нашем разговоре, полечка, есть все же кое-что полезное – те, что ты вмиг его десакрализуешь, например, сводишь с Мануэлю. Ты права, не спорю, а я только создаю проблемы и, хуже того, сомневаюсь в самих этих проблемах. Нс знаешь, меня не надо жалеть.
Людмила ничего на это не ответила, однако снова погладила мне лицо, почти не прикасаясь к коже, и это как раз было очень похоже на жалость. В конце концов, как узнать, кто из них двоих больше меня жалеет, – ведь и Франсина порой подолгу смотрела на меня, как человек, который желает утешить, но говорит себе, что это бесполезно, потому что здесь нет даже отчаяния, здесь нечто иное, не имеющее названия, чего я не могу не искать, пока существую, и так da capo ai fine [81]81
От начала и до конца (итал.).
[Закрыть]. На этом ничто не завершалось, раз все мы были правы, каждый по-своему. Ничто не завершалось, но также ничего словно бы и не начиналось; в конце каждого разговора с Франсиной, с Людмилой открывалась новая ненадежная отсрочка, в которой ласки и улыбки были вроде мимолетных, вежливых постояльцев, ходящих на цыпочках; стало быть, надо убедить себя, убедить себя (но нет, это невозможно принять: невозможно сидеть на крыше всю жизнь, сломать себе башку, но сидеть на коньке над двумя скатами, над двумя мирами, стремясь сделать их одним-единственным – или десятью тысячами миров), убедить себя в том, что ТРЕУГОЛЬНИК. Да, геометрическая фигура, образованная тремя взаимно пересекающимися линиями. Нет. Хотя они пересекаются, и пусть себе пересекаются до и после ласк. Нет, Эвклид, нет, черт возьми!
Почти невероятно, чтобы в одной парижской квартире могло собраться столько посторонних людей и консьержка при этом не разъярялась бы, по мере того как разные субъекты появляются и, как правило, спрашивают мсье Лонштейна, словно его фамилия не значится на таблице в подъезде, уж не говоря о том, что вопросы эти задаются на таком наречии, которое немногие французские консьержки благоволят понять, однако в данном случае толстуха не только не устраивает даже маленького скандальчика, но, напротив, вид у нее вполне довольный и спокойный, – так, например, Оскару и Гладис, пришедшим сюда впервые, она указывает лестницу в глубине двора и провожает их до первой лестничной площадки, приговаривая, что нынче, видимо, у мсье Лонштейна день рождения и это очень хорошо, что время от времени люди справляют дни рождения, потому как слишком мало радостей осталось у людей из-за проклятых войн и наводнений, вот, в субботу в долине Луары, где среди фруктовых деревьев живет ее матушка, все залило, только подумайте, какая беда. Оскар, естественно, внимает этому фонтану красноречия с видом полного кретина, приходится Гладис вставлять всяческие oh, oui, bien sur, mais certainement [82]82
О да, конечно, ну, бесспорно (франц.).
[Закрыть], сопровождаемые многими merci beaucoup, vous еtes gentiile [83]83
Большое спасибо, вы так любезны (франц.).
[Закрыть]и прочими смазочными общества, в котором люди, встречаясь на лестнице, не преминут извиниться, клянусь, это правда, говорит Гладис, нажимая на кнопку звонка, да ты меня дурачишь, малышка, хотя должен признаться, мне за день пришлось пожать по разным поводам столько рук, что я еще не пришел в себя.

ДОГОВОР МЕЖДУ БУЭНОС-АЙРЕСОМ И ЛОНДОНОМ О ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВАХ
Лондон (АФП). «В итоге трудных переговоров британское и аргентинское правительства 1 июля пришли к согласию „заморозить“ вопрос о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. На расположенный к северо-западу от Огненной Земли бывший с 1834 года британской колонией архипелаг теперь предъявляет претензии Аргентина.
Согласно договору, правительство в Буэнос-Айресе позволит двум тысячам обитателей острова – до сих пор отрезанным от южноамериканского материка – свободно приезжать в Аргентину. Там они будут освобождены от воинской службы и смогут пользоваться некоторыми налоговыми и таможенными льготами.
Аргентинское правительство еще обязуется установить регулярное воздушное сообщение, а также почтовую, телефонную и телеграфную связь между Аргентиной и архипелагом. Великобритания, со своей стороны, берется наладить морское сообщение между Порт-Стэнли, столицей архипелага, и континентом».
Толстуха консьержка насчет дня рождения раввинчика ошиблась, но не слишком, в сущности, это действительно некий праздник, хотя причина его неизвестна (вот идут Гомес и Моника, лестница трясется от их шагов, возгласов и хохота, совершенно бессмысленного); во всяком случае, Маркос и Эредиа в течение дня тоже заглянули к раввинчику, контейнеры были надлежащим образом выпотрошены, и доллары уже ждут своего часа на другом конце Парижа, так что, ежели муравьи затеют обыск, они не найдут ничего, кроме бутылок с вином да латиноамериканцев во всех углах квартиры: моему другу, который явился одним из первых, кажется, что толстуха угадала и что здесь действительно отмечают день рождения – вероятно, гриба, главного предмета рассуждении раввинчика, но вскоре моему другу становится трудней контролировать обстановку, ибо синхронное восприятие не из сильных его сторон, а всем известно, что на испаноязычных сборищах никто не желает слушать, а только хочет, чтобы слушали его, неустранимое испанское наследие, и единственный метод преодолеть его состоит в том, чтобы, как обычно, исказить действительность, превращая синхронность в последовательность, с неизбежными потерями и ошибками в параллаксе. Нет, вы только посмотрите на этих типов, мрачно говорит Лонштейн, ты их приглашаешь по серьезному делу, а у них на уме только одна тема для разговора, их Буча, вот уже битых полтора часа они дискусуждают о похищении Гада. А ты разве не в курсе? – удивляется мой друг. Ну, конечно, в курсе, только пусть бы они этот вопрос решали в рабочее время. Но раз уж я приютил их пингвина, могу и их потерпеть еще немного, правда ведь? Кстати о пингвинах, говорит Гладис после бурного обмена поцелуями, не знаю, видели ли вы заметку. Природа подражает искусству, уайльдирует уже знающий об этом Патрисио, но Гомес и Моника реагируют иначе, согласно установившемуся обычаю, они как подкошенные валятся на пол, чтобы вволю похохотать, а Людмила, которая в свой черед читает заметку, вспоминает, что Андресу, видимо, принадлежит определение Мальвин, над которым она тоже здорово смеялась: Дерьмовые Мальвины, где живут пингвины. Надо бы прочесть эту заметку главному заинтересованному лицу, говорит Сусана, хотя в данную минуту главное, чем она поглощена, это игры с Мануэлем в ванной. В моей ванной, говорит раввинчик, и вы пользуетесь моими полотенцами, и забрызгиваете мои изразцы. Ты же понимаешь, добавляет он гневно, обращаясь к моему другу, человек приглашает их посмотреть на гриб, а все сводится к гнусной навмахии. Не знаю, вполне ли они поняли, что, согласно этому договору, пингвин освобождается от военной службы, говорит Патрисио, и будет пользоваться налоговыми и таможенными льготами. Кабы мы это знали, мы бы не затевали всю эту бучу в Орли, говорит Оскар. А вот хорошо бы, если бы кто-нибудь, например Лонштейн, дал бы нам чего-нибудь выпить, говорит Гомес. Есть вино и содовая, хмуро говорит Лонштейн. Тогда мой друг удаляется в свой нейтральный угол, который может быть в любом месте и может даже не быть углом, и оттуда глядит и слушает этих людей, которых знает и любит, людей из его края, разговаривающих, и смеющихся, и все больше углубляющихся в нечто взрывоопасное и отнюдь не забавное, не имеющее ничего общего с пингвинами, и телеграфными совпадениями, и вином с содовой. Как всегда, штука в том, чтобы понять, но без искажающих упрощений, и, быть может, заставить других понять, но последнее не слишком волнует моего друга, он ограничивается изложением того, что считает реальным, бесспорным и даже необходимым без обычных в таких делах театральных постановок. Как бы рассказал о подобных событиях какой-нибудь Гроссо, тот самый, историк? По-гроссовски выражаясь, закрытое совещание началось еще раньше, сперва в небольшом составе, с Маркосом и Эредиа, которые совершили потрошение контейнеров и отправили Люсьена Вернея с долларами; затем ввалились Патрисио и Гомес, и когда появился Оскар, уже без пирожных, но отдохнувший, можно было подробно обсудить заключительную фазу операции, намеченной в ночь на пятницу. Был понедельник, вечер грибов и дрянного, разбавленного водой вина; во вторник не женись и на корабль не садись, зато это прекрасный день для одновременного обмена долларов в каких-нибудь двух десятках банков и агентств, это задание поручается группе аборигенов под командованием Ролана и Люсьена Вернея, ясно, что чем меньше южноамериканцев будет соваться в окошки банков, тем лучше, муравьи не так уж глупы, сразу приметят смуглых молодчиков, а французская полиция на их работу смотрит сквозь пальцы, что усложняет дело с банками. Патрисио пришлось объяснять ряд предварительных маневров, которые намечались на среду и на четверг, дошли уже до утра пятницы, как вдруг раздался грохот в дверь раввинчика, который, изрядно испуганный, открыл ее, дабы впустить одновременно ворвавшихся Людмилу и Сусану, причем последняя буквально уронила Мануэля, чтобы повиснуть на шее у Эредиа, меж тем как Эредиа искоса глянул на Маркоса с недвусмысленным намеком на Людмилу, которая только что соблазнила молодого студента во второй сцене последнего действия, и сразу – занавес и такси, даже макияж не сняла, и была удивительно хороша, и Маркос на нее взглянул и потом подмигнул Эредиа, чтобы тот спокойно продолжал объяснять дело с Гадом, с чем Патрисио и Гомес неохотно примирились, потому что это был Маркос, а возможно, и потому, что это была Людмила. Успокаивать Мануэля пришлось минут пять, мальчонка пришел в невероятное возбуждение, почувствовав себя центром вселенной – более или менее как всякий человек, только с большей наивностью, – и закрытое совещание открылось, как по волшебству, лишь после четвертой интермедии, во время коей была наполнена водою ванна и состоялось знакомство Мануэля и бирюзового пингвина, которые сразу же послали Бучу куда подальше и принялись барахтаться в ванне, к величайшему наслаждению женщин, меж тем как штаб возобновил заседание и Гомес взял слово, чтобы уточнить некоторые детали большой Бучи, а именно: 1) Гад и его благоверная Гадиха еще до полуночи должны выйти из здания после полуофициального ужина; 2) Охрана Гада, которой ведает Муравьище (elementary, my dear Watson [84]84
Элементарно, мой дорогой Ватсон (англ.).
[Закрыть]), наверняка будет состоять из двух муравьев в машине, один это водитель, другой на всякий случай и тоже вооруженный; 3) Место подходящее, возле парка Монсо; 4) Время тоже неплохое; 5) Маршрут после перехвата и выезд из Парижа не представляют в этот час особых дорожных опасностей; 6) Почтенные представители зоопарка в Венсенне, возвратившись к занятиям, более соответствующим их натуре, все подготовили для приема Гада в пригородном поселке, носившем звонкое название Веррьер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































