Текст книги "Проклятые поэты"
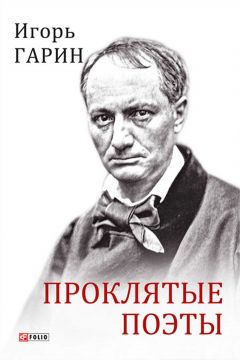
Автор книги: Игорь Гарин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Бодлер полагал, что если ему удастся перешагнуть порог Академии, то атмосфера недоверия вокруг него немедленно рассеется. Это так; однако в самом рассуждении таился порочный круг, поскольку именно недоверие, которым был окружен поэт, лишало его всякой надежды на успех.
Пребывание Мальасси в тюрьме длилось чуть меньше года. Суд помиловал неудачливого издателя, который, выйдя из каталажки, переехал в Брюссель. Здесь у него был филиал издательства, который теперь надлежало сделать прибыльной фирмой. Наученный горьким опытом, Мальасси сделал ставку на «вечное» – эротические издания, политические памфлеты, направленные против Второй империи. Бизнес носил полуподпольный и контрабандный характер, но, в случае удачи, мог позволить возобновить легальную издательскую деятельность во Франции. Занятый организацией дел, Мальасси закрыл глаза на переговоры Бодлера с Этцелем.
Как теперь выясняется, они не были единственными. Параллельно поэт поддерживал деловые отношения с издателем его переводов Эдгара По Мишелем Леви. Леви не верил в поэтический дар Шарля, но давно сделал ставку на Бодлера-переводчика: он категорически отказался от окончательного издания «Цветов Зла», предложенного ему Бодлером после ареста Маласси, но согласился приобрести права на все его переводы – четыре тома за 2000 франков. Мы видим «распродажа» в 1862–1863 годах шла полным ходом – распродажа поэту не принадлежащего… Оставались «непристроенными» критика и эссеистика, но и на сей счет у Бодлера имелись виды. Собираясь в конце ноября 1863 года в Брюссель, поэт напишет матери, что в его планы входит продажа трех томов критики.
Поездка в Бельгию была инициирована «Литературным кружком» Брюсселя, пригласившим Бодлера выступить с лекциями. Поэта прельстил гонорар (100 франков за лекцию) и надежда укрепить позиции в литературном мире – родина ему порядком поднадоела, о чем свидетельствует письмо к матери:
Ты себе не представляешь, до какой степени деградировала раса парижан. Это уже не тот обаятельный и любезный мир, в котором я когда-то вращался: художники ни о чем не ведают; литераторы ничего не знают, даже орфографии. Сплошная низость, ниже, пожалуй, чем светское общество. Я чувствую себя СТАРЦЕМ, мумией, и мне не прощают то, что я смыслю чуть больше других. Какой упадок! Исключая д’Оревилли, Флобера, Сент-Бёва, никто меня не понимает. Даже Теофиль Готье понимает только тогда, когда я говорю о живописи. ЖИЗНЬ МНЕ ОПОСТЫЛЕЛА. Повторяю, бежать хочется при виде человеческого лица, особенно если это лицо француза.
Бодлер планировал пробыть в Бельгии шесть недель, но «задержался» на целых два года, последних в его творческой жизни.
Накануне отъезда в руки поэта попал контрабандный томик, изданный в Бельгии и озаглавленный «Сатирический Парнас XIX века», где фигурировали все шесть запрещенных Трибуналом пьес. Это была подпольная продукция Мальасси. Не понравился Бодлеру и сам контекст книги: «С досадой обнаружил я, как проституируют мое имя в книгах, противоречащих моему вкусу». Поэт был прав, издание действительно компрометировало пьесы, которые он считал незаслуженно осужденными, ибо попадали они именно в тот контекст, который имел в виду суд, запретивший их. Сатиры в томике было мало, зато порнографии сколько угодно. Неужто «мстил» Мальасси? Скорее всего, отчет себе в этом не отдавал, занятый лихорадочным налаживанием дел. Впрочем, вскоре они встретятся, и дружба их возобновится. Годом позже Бодлер напишет Сент-Бёву: «…Я очарован его мужеством, деятельностью, неисправимым оптимизмом. Он приобрел удивительную эрудицию по части самых серьезных предметов… Что же касается тех СРАМНЫХ книг, которые он выпустил, то и в них я совершенно неожиданно для себя нашел пользу – БОЛЕЕ ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Когда люди начинают подобным образом развлекаться, то уже в этом – прогноз грядущей революции». Бодлер имеет в виду романы маркиза де Сада и Ретиф де ля Бретона, изданные Мальасси.
Брюссельский период жизни Бодлера омрачен усиливающейся болезнью, отказом издателей публиковать новые (окончательные) «Цветы Зла» и разочарованием в публике. Хотя в письмах говорится об «ошеломляющем успехе» лекций[27]27
В Брюсселе Бодлер прочитал пять лекций; первые две посвящены живописи Эжена Делакруа и поэзии Теофиля Готье, три оставшиеся – чтению «Искусственного Рая».
[Закрыть], на самом деле прием публики был более чем сдержанный, а после пятой лекции устроители отменили чтения под предлогом сезона отпусков и отсутствия средств. Кстати, вместо обещанных 100 франков за лекцию поэту выплатили только 25. Бельгийские впечатления Шарль подробно описал Анселю:
Сами судите, как трудно мне, начавшему знакомство с водой и небом в Бордо, на островах Бурбон и Маврикия, в Калькутте, сами судите, как тяжело мне в стране, где деревья черны и ЦВЕТЫ ЛИШЕНЫ АРОМАТА! Многие здесь с любопытством УЛИЧНЫХ ЗЕВАК толпились вокруг автора «Цветов Зла». В их восприятии автор подобных ЦВЕТОВ неминуемо должен был выглядеть чудовищным эксцентриком. Все эти канальи ожидали монстра, но когда увидели, что я холоден, сдержан и вежлив, что мне противны все эти вольнодумцы, прогресс и прочие современные глупости, то заключили (предполагаю), что – я НЕ АВТОР СВОЕЙ КНИГИ… выходит, прóклятая книга (которой я очень горжусь) плохо доступна пониманию, темна! Мне долго еще не простят смелость небесталанно зафиксировать зло. Какое скопление каналий! – а мне казалось, что именно Франция – страна поголовного варварства. Теперь я вынужден признать, что есть страна, где варварства еще больше!
Характеризуя бельгийские впечатления поэта, нельзя не учитывать непрерывно ухудшающееся здоровье, моральный надлом, усиливающееся чувство одиночества, нереализованные планы. Бедной была не Бельгия – несчастным оказался он сам. У него уже нет сил возвращаться в Париж, дабы стимулировать новые издания, – он торопится в ставший родным Онфлёр, памятуя, как хорошо ему здесь работалось в прежние годы.
Этцель ждет от него «Стихотворения в прозе», но вместо них он отсылает издателю ранее опубликованный экземпляр «Цветов Зла» с рукописными вставками 15 новых стихотворений (больше новых стихов, видимо, не было). Увы, этот экземпляр книги бесследно исчез, поэтому не представляется возможным выяснить, какие новые «пьесы» должны были украсить третье и окончательное издание…
…В начале 1862 г. в полный голос заговорила болезнь – следствие сифилиса, полученного в молодости, злоупотребления наркотиками, а позднее и алкоголем. Бодлера мучают постоянные головокружения, жар, бессонница, физические и психические кризы, ему кажется, что мозг его размягчается и что он на пороге слабоумия. Он уже почти не в состоянии писать и, потеряв былой лоск, одетый едва ли не в тряпье, целыми вечерами отчужденно бродит среди нарядных парижских толп или угрюмо сидит в углу летнего кафе, глядя на веселых прохожих, которые представляются ему мертвецами. Между ним и жизнью все растет и растет стена, но он не хочет с этим смириться. Как-то раз, вспоминает Ж. Труба, он спросил у случайной девушки, знакома ли она с произведениями некоего Бодлера. «Та ответила, что знает только Мюссе. Можете представить себе бешенство Бодлера!»
Невзирая на усиливающиеся страдания, Бодлер продолжает заниматься «делами» – поисками издателей критики, эссеистики и окончательных «Цветов Зла». Он готов разорвать отношения с Этцелем, если ему найдут издателя, согласного на приобретение прав.
Бодлер чувствовал ледяное дыхание Костлявой, когда «Цветы Зла» попали в руки еще безвестных молодых людей – Малларме и Верлена, готовящих о них восторженные статьи. Бодлер прочтет их незадолго до сразившего его удара и успеет написать в одном из последних писем матери:
Они талантливы, эти молодые люди; но сколько глупостей! Сколько преувеличений и какая самонадеянность молодости! За последние годы я обнаруживал то тут то там подражания и тенденции, вызывавшие во мне тревогу. Никто так не компрометирует, как подражатели, и нет ничего дороже ощущения того, что ты – ОДИН. Но это невозможно, кажется существует уже ШКОЛА БОДЛЕРА.
Хотя Бодлер не дожил до мирового признания своего гения, как и Ницше, он дождался «первых звонков» такого признания. В начале августа 1862 года был опубликован четвертый том антологии Эжьена Крепэ «Французские поэты», в котором его представлял Теофиль Готье. В день выхода антологии Бодлер написал другу: «Благодарю тебя от всего сердца за статью обо мне в коллекции Крепэ. Впервые в жизни я удостоился той похвалы, о которой мечтал». Почетное место, предоставленное в книге Бодлеру Теофилем Готье, много значило, ибо Франция уже признала Готье как поэта номер два (после Виктора Гюго). Симптоматично и то, что составитель «Французских поэтов» избрал именно Бодлера, чтобы представить в этом томе семь других поэтов, в том числе самого Гюго. «Выходило, Бодлер представляет поэта номер один, а его лично представляет поэт номер два».
Через месяц после выхода «Французских поэтов» в лондонском «Спектаторе» появилась статья Чарльза Свинберна о «Цветах Зла». Правда, о ней автор узнает с опозданием, но тотчас сердечно поблагодарит английского коллегу:
Однажды г-н Р. Вагнер, благодаря меня за брошюру, которую я написал о его «Тангейзере», сказал мне: «Не думал я, что французский литератор может так легко понять столько разных вещей». Отнюдь не будучи патриотом, я принял его комплимент как прелестное выражение непосредственности. Позвольте и мне, в мою очередь, сказать Вам: «Не думал я, что английский литератор способен так легко проникнуть в суть французской красоты, в ее намерения и версификацию». Но, прочитав Ваши стихи («Август»), напечатанные в том же номере журнала и проникнутые чувством, одновременно столь реальным и столь утонченным, я перестал удивляться; лишь поэты способны хорошо понимать друг друга.
Благодарить было за что:
Статья Свинберна явилась первым восторженным иностранным откликом, первым камнем в монументе его мировой славы. Выходит, прогноз Этцеля имел под собой реальную почву. Бодлер же в это еще не верил, он предполагал славу только после своей смерти. Никто не ошибся. Бодлер умрет через четыре года, а слава придет к нему в срок, точно рассчитанный Этцелем.
Обширные литературные замыслы поэта по мере усиления болезни все больше превращались в обломки – в последний год его сознательной жизни Мальасси предложит другу издать подпольную книжку, составленную из них: название «Книга обломков» скорее всего принадлежит ему, а не автору. В эту распространяемую нелегальным путем книгу, отпечатанную в Амстердаме, войдут 23 стихотворения. После публикации «Обломков» Бодлер еще успеет написать К. Мендесу:
Вскоре Вы получите от меня небольшую книжечку… Ее делали без моего участия. Вы найдете в ней некоторые мелочи, неизвестные Вам, даже буффонаду. К сожалению, в нее включили шесть запрещенных пьес из «Цветов Зла», а это исключает свободную продажу… Я не в обиде, но мне бы не хотелось, чтобы сборничек попал в недружеские руки.
В июле 1865 года Бодлер находит в себе силы для поездки в Париж. Он еще вернется в Онфлёр, но после удара, полного разрушения сознания. В Париж уедет человек, продолжающий устраивать свои литературные дела, в Онфлёр вернется безумец в состоянии прострации…
В дорогу поэта погнал назревающий конфликт, связанный с правами на его литературное наследие, которое, как мы знаем, было продано Огюсту Мальасси. Если издатель и друг Бодлера сквозь пальцы смотрел на противозаконную передачу автором издательских прав другим лицам, то главный кредитор Мальасси Пэнсбурд, претендующий на передачу собственности неудачливого издателя в виде компенсации по неоплаченным долгам, относился к собственности гораздо серьезней… Это грозило Бодлеру стать «литературной собственностью» нового хозяина, следовательно – скандалом, даже судебным процессом. Предстояли крайне неприятные «объяснения» с Этцелем и Леви, владевшими незаконными «правами», но, главное, необходимо было «откупиться» от Пэнсбурда – возвратить ему ранее полученную от Маласси «круглую» сумму в 5000 франков за «интеллектуальную собственность» – собственное творчество. Две тысячи требовались наличными (их согласилась уплатить мать поэта), на три оставшиеся Бодлер готов дать долговую расписку. Этцель тоже согласился на «отступные», причем проявил невиданное благородство – довольствовался 1200 франками, да и то после того, как Бодлер найдет себе другого издателя. Сегодня мы знаем причину «щедрого благородства» – в руках Этцеля оказался молодой Жюль Верн, «золотая жила», сулящая (и действительно принесшая) ему миллионы.
В июле 1865-го Бодлер вернул себе права на собственные книги, но по-прежнему не имел издателя для новых «Цветов Зла». Теперь он вел переговоры с книготорговцем Жюльеном Лемерром, которому дает следующие указания о планах относительно третьего издания:
Прежде всего, «ЦВЕТЫ ЗЛА», увеличенные несколькими пьесами и несколькими статьями и письмами, относящимися к первому и второму изданиям. Все это поместить В КОНЦЕ, как это сделал Сент-Бёв для своего «Жозефа Делорма»… Отметьте, что книга посвящена Теофилю Готье и что предисловие рядом с посвящением создадут своеобразный эффект. «ЦВЕТЫ ЗЛА» – самая срочная публикация, так как уже два года напролет и повсюду книгу требуют, а это значит, что можно будет продавать ее по довольно высокой цене. Если в будущем издатель намерен выпустить подарочное издание, то он сможет приобрести все клише и заставки у фирмы «Пупар-Давиль».
Комментарий Г. Орагвелидзе:
Как видим, количество новых пьес сведено к слову «несколько». Очень возможно, что такая расплывчатость объясняется передачей Лемерру того злополучного экземпляра, который находился у Этцеля. Далее, мы здесь находим то, что сделали Асселино и Банвиль, выпуская третье посмертное издание. Они воспользовались, следуя этому указанию, статьей Готье, поместив ее в виде предисловия, а материалы, связанные с двумя прижизненными изданиями, сохранили в виде приложения в конце книги. Наконец, ссылка на широкий интерес к ней соответствует действительности. Второе издание становилось уже библиографической редкостью, а первое продолжало оставаться под запретом. Интерес к Бодлеру рос, о нем все чаще писали…
Ж. Лемерр не оправдал надежд Бодлера – так и не нашел ему издателя. В последнем усилии поэт обратился за помощью к своему опекуну, он предоставил Анселю список потенциальных издателей, дав характеристику каждому. Особую надежду он возлагал на Мишеля Леви, хотя возобновление отношений с ним граничило с унижением. Незадолго до смерти Бодлера сделка с Леви состоялась: согласно новому французскому законодательству, передачу авторских прав навечно заменила формула на «максимальный срок» (40 лет), после истечения которых права становились «общим достоянием». Последняя сделка предусматривала продажу Мишелю Леви авторских прав на все литературное наследие поэта на «максимальный срок». По контракту, Мишель Леви уплатил 1750 франков кредиторам Бодлера. Контракт предусматривал составление и публикацию Полного собрания сочинений Шарля Бодлера, составить которое взялись его друзья Асселино и Банвиль. Издание семи томов продолжалось с конца 1868 года (первым вышел второй том) и до 7 мая 1870 года, когда Леви опубликовал том последний.
Согласно контракту с М. Леви, общим достоянием творчество Бодлера стало лишь в 1917 году. Огромная заслуга в систематизации наследия принадлежит сыну издателя «Французских поэтов» Жаку Крепе, которого можно считать основателем и пионером бодлероведения.
О поэте все чаще писали, но сам он угасал… Бодлер еще пытался работать над «Стихотворениями в прозе», равно как над дневниковыми записями «Мое обнаженное сердце», которые намеревался издать одной книгой, но мысль все чаще ускользала от него.
Развязка наступила 4 февраля 1866 года: во время посещения собора Сен Лу в Намюре поэт потерял сознание, упав прямо на каменные ступени. Ему поставят диагноз правостороннего паралича и тяжелейшей афазии, позже перешедшей в полную потерю речи. Только через пять месяцев разбитого параличом поэта перевезут в Париж, где ему предстоит умирать еще долгих четырнадцать месяцев…
31 августа 1867 года великого поэта не стадо. Его прах похоронен на кладбище Монпарнас рядом с ненавистным генералом Опиком…
Лишь через 79 лет после смерти Учредительное собрание Франции отменит приговор суда, обвинившего поэта в оскорблении общественной нравственности… К этому времени его творчество станет национальным достоянием страны и получит высочайшее признание во всем мире.
Личность
С наслаждением и ужасом я пестовал свою истерию.
Ш. Бодлер
Душа моя столь необыкновенна, что, глядя в нее, я сам себя не узнаю.
Ш. Бодлер
Находясь в преисподней, Бодлер грезил о белоснежных вершинах.
А. Блок
…В действительности поэт, которого считают бесчеловечным, склонным к несколько глуповатому аристократизму, был самым нежным, самым сердечным, самым человечным, самым «простонародным» из поэтов.
М. Пруст
О поэт, ты был из племени тех, кто умел сказать нет, это слово, которое не могут произнести рабы.
А. Урусов
Говоря о личности выдающегося человека, многие биографы впадают в крайности или примитивизацию, пытаясь «обузить» характер некими наукообразными моделями, психоаналитическими схемами или диалектическими вывертами. Личность предстает «объектом», своеобразной «лягушечьей лапкой», дергающейся в полном соответствии с «практикумом» экспериментатора. Лишенный великодушия и милосердия биограф даже не замечает, что присваивает себе роль вивисектора или прокурора, выносящего приговор похлеще судейского, приговор «вечности и бесконечности» – я имею в виду масштаб личности и посмертную историю. Читая книгу Ж.-П. Сартра о Бодлере, я все время слышал эти прокурорские нотки, безапелляционность судейского приговора. Сказанное относится и к бодлероведению в целом: вместо деликатности, почтительности, такта – набор уничижительных определений, диких упрощений, противопоставлений.
Таков был Бодлер – слабый, несчастный человек, безвольный эгоист, требовавший от других любви, но не умевший дать ее даже собственной матери и потому всю жизнь терзавший себя и окружающих. В чем источник этих терзаний?
«Совсем еще ребенком, – писал Бодлер, – я питал в своем сердце два противоречивых чувства: ужас жизни и восторг жизни». Бодлер, по сути дела, говорит здесь о двух началах, управляющих нашим существованием – эросе и танатосе. Эрос (любовь) побуждает нас воспринимать жизнь как дар, который нужно сполна прожить и пережить, идя навстречу миру, тогда как танатос (смерть) требует не столько проживания, сколько изживания жизни ради возврата в своего рода Эдем целостности, где нет и намека на конфликты, где в принципе отсутствуют противоречия между потребностью и ее удовлетворением, между «я» и «ты», между внешним и внутренним и т. п. Именно «восторг жизни» заставлял Бодлера тянуться к людям, добиваться их любви и признания, проявлять энергию, между тем как «ужас жизни», напротив, толкал его вспять, в безмятежный рай материнской ласки, побуждал неделями не выходить из комнаты и всеми возможными способами (вплоть до выкрашенных в зеленый цвет волос) доказывать свою «инаковость», «неотмирность».
Да, личность Бодлера неординарна, сложна, в чем-то противоречива, непоследовательна, но дает ли все это право «малым сим» подходить к нонконформистской громаде с пигмейскими мерками?..
У него бывали приступы жестокой меланхолии, но внезапно им овладевала неудержимая жажда развлечений. Он постоянно испытывал чувство глубокого одиночества и не имел ни одного настоящего друга, хотя у него было множество друзей и подруг не только среди людей выдающихся, но и среди веселых уличных девиц. Он чуждался многолюдства, но любил посещать музеи, театры и выставки и часами просиживал в библиотеках, где почерпнул свою разностороннюю эрудицию, удивлявшую впоследствии критиков.
Личность гения не должна становиться полигоном для демонстрации тех или иных психоаналитических моделей, ибо самые изощренные учения не способны охватить все многообразие импульсов и противоречий, из которых она соткана. Когда Ж.-П. Сартр пытается представить жизненные перипетии Бодлера как метания между «восторгом» жизни и «ужасом» перед ней, между полюсами эроса и танатоса, безмятежного блаженства и нехватки бытия, «желанием возвыситься» и «блаженством нисхождения», бытием и существованием или когда бесстрастно описывает поведение великого, наичувствительнейшего человека как результат сексуальной патологии, «нечистой совести», неспособности к выбору, «межеумочной позиции», все это выглядит – при всем литературном блеске такого «исследования» – как философская вивисекция, безжалостное обвинение в неком экзистенциальном (или сексуальном) преступлении. Даже концепция жизненного поражения, неспособности следовать «изначальному выбору» более чем спорна: безотрадная судьба (кстати, тоже являющаяся упрощающим штампом) слишком часто оборачивается метафизической победой, пропуском в вечность.
Мне не доставляет удовольствия приводить нижеследующую «зарисовку» кисти Сартра, но писать о гении как о сексуально-клиническом «случае» – прежде всего унизить самого себя, опуститься до смакования такого рода «клиники»:
Мы обнаруживаем здесь черту, весьма характерную для патологического платонизма: больной, издали обожающий респектабельную женщину, вызывает в воображении ее образ, когда он предается самым непоэтичным занятиям – в уборной или занимаясь омовением гениталий. Тогда-то она и является к нему, молча обратив на него свой суровый взор. Бодлер охотно поддерживает в себе это навязчивое состояние: лежа в постели рядом с «ужасной еврейкой», грязной, лысой, заразной, он вызывает в воображении образ Ангела. Этот образ может меняться, но кем бы ни была избранная им женщина, ему нужно, чтобы всегда существовал некто, кто смотрит на него, и конечно же – в самый момент оргазма. В результате Бодлер и сам не знает, зачем призывает этот целомудренный и строгий лик, – то ли затем чтобы усилить наслаждение от объятий шлюхи, то ли сами эти мимолетные связи с проститутками нужны лишь для того, чтобы к нему явилась его избранница и он мог вступить с нею в контакт. В любом случае эта холодная, безмолвная и неподвижная фигура оказывается для Бодлера способом эротизации социального наказания. Она подобна тем зеркалам, с помощью которых некоторые любители изощренности наблюдают за собственными утехами: зеркала позволяют такому человеку видеть самого себя в то время, как он занимается любовью.
Достаточно ограничиться одним примером описания Сартром сексуальности Бодлера, дабы убедиться в хладе морга – патологоанатомичности, приложенной к жизни, любви, судьбе…
Бодлера подозревали в импотенции. Несомненно лишь то, что физическое обладание, столь близкое к сугубо природному удовольствию, и вправду не слишком его интересовало. О женщине он с презрением говорил, что «она в течке и хочет, чтобы ее…» Что же до собратьев-интеллектуалов, то он утверждал, что «чем больше они отдаются искусству, тем хуже у них с потенцией», – слова, которые вполне можно истолковать как личное признание Бодлера. Однако жизнь – не природа, и в «Моем обнаженном сердце» Бодлер заявляет, что обладает «очень острым вкусом к жизни и к наслаждению». Надо понимать, что дело для него идет об отцеженной, дистанцированной, преображенной с помощью свободы жизни и об удовольствии, одухотворенном с помощью зла. Говоря попросту, чувственность преобладает в нем над темпераментом. Опьяненный собственными ощущениями, темпераментный человек полностью забывается; Бодлер же не умеет терять над собою контроль. Сам по себе половой акт вызывает у него ужас именно потому, что он природен, брутален, равно как и потому, что его суть заключается в общении с Другим: «Совокупляться – значит стремиться к проникновению в другого, а художник никогда не выходит за пределы самого себя». Существуют, впрочем, удовольствия, получаемые на расстоянии, когда, например, можно видеть, осязать женское тело или вдыхать его запах. Вероятно, такими удовольствиями Бодлер по большей части и пробавлялся. Соглядатаем и фетишистом он был именно потому, что пороки как бы смягчали в нем любострастие, потому, что они позволяли ему обладать вожделенным объектом на расстоянии, так сказать, символически; соглядатай сам ни в чем не участвует; закутавшись по самую шею, он во все глаза смотрит на обнаженное тело, не дотрагиваясь до него, – и вдруг по всему его телу пробегает совершенно непристойная, хотя и сдерживаемая дрожь. Он творит зло, и ему это ведомо; ведь, вступая в обладание другим на расстоянии, сам он ему не отдается. В этом смысле не так уж и важно, получал ли Бодлер сексуальное удовлетворение в одиночку (на что кое-кто намекал) или прибегал к тому способу, который с нарочитой грубостью называл «е…», поскольку, строго говоря, даже и в акте соития он все равно остался бы одиночкой, мастурбатором, умея, в сущности, получать наслаждение только от самого факта прегрешения.
Гнусно выводить поэзию из личных качеств поэта, тем более – приписывать гению пороки, вскрываемые его творчеством. Из того, страдал ли Мюссе половым бессилием, Пушкин – гиперсексуальностью или Бодлер наркоманией, нельзя вывести ни «Роллу», ни «Чернь», ни «Цветы Зла». В конце концов, вполне буржуазный Жан-Поль тоже не мог писать без возбуждающих средств – огромных количеств пива: «И если оно не ударит мне в голову, ему нечего делать и в пузыре». А разве великий Берлиоз не писал свою «Фантастическую симфонию», наглотавшись уже не пива, а настоящих наркотиков? А Модильяни?..
В опубликованной в 1946-м книге о Бодлере Ж.-П. Сартр определял нравственную позицию поэта как признание вины, но не назидание, «призванное внушить отвращение к пороку»:
Делать Зло ради Зла буквально значит намеренно делать прямо противоположное тому, что ты продолжаешь утверждать в качестве Добра. Это значит хотеть того, чего не хочешь – поскольку продолжаешь испытывать отвращение к злым силам, – и не хотеть того, чего хочешь – поскольку Добро всегда определяется как объект и конечная цель глубинной воли. Именно таково положение Бодлера. Его деяния и деяния заурядного преступника различаются между собой, подобно черной мессе и атеизму. Атеист не беспокоит себя мыслью о Боге, раз и навсегда решив, что он не существует. Но жрец черных месс ненавидит Бога, потому что Он достоин любви, глумится над Ним, потому что Он достоин уважения; он направляет свою волю на отрицание установленного порядка, но в то же время сохраняет и, более чем когда-либо, утверждает этот порядок. Прекрати он хоть на мгновение – и его сознание снова придет в согласие с собой, Зло разом превратится в Добро, и, минуя все порядки, имеющие источником не его самого, он вынырнет в «ничто», без Бога, без оправданий, с полной ответственностью.
Дабы вызывать головокружение, свобода должна избрать… бесконечную неправоту. Лишь тогда она будет чем-то единичным в этой вселенной, целиком вовлеченной в Добро; но чтобы быть в состоянии низринуться в Зло, свободе нужно полностью примыкать к Добру, поддерживать и укреплять его. И тот, кто навлекает на себя проклятие, приобретает одиночество, подобное слабому отражению великого одиночества поистине свободного человека… В определенном смысле он творит: во вселенной, где каждый элемент жертвует собой во имя величия целого, он являет особенность, то есть бунт фрагмента, детали. Тем самым порождено нечто, не существовавшее прежде, неизгладимое и никоим образом не подготовленное строгой экономией мира: речь идет о предмете роскоши, о произведении бескорыстном и непредсказуемом. Отметим здесь соотношение Зла и поэзии. Когда, в придачу, поэзия принимает за объект Зло, соединяются на общей основе два рода творчества с ограниченной ответственностью, – и в этом случае мы получаем цветок Зла. Но обдуманное сотворение Зла, то есть вина, является приятием и признанием Добра; оно воздаст должное Добру и, само себя окрестив дурным, сознается в том, что оно относительно и вторично и что без Добра оно не могло бы существовать.
Сартр исходит из экзистенциального понимания проблемы добра и зла: человек свободен и поэтому волен не следовать установленному порядку и массовым критериям. Бодлер, определявший гениальность как «детство, вновь обретенное по своей воле», сам «так и не миновал стадию детства». Но детство – это и есть полнота самовыражения, свободы, веры. Если же «ребенок на голову перерастает родителей и смотрит поверх их плеча», то он способен увидеть, что «позади них нет ничего».
Мысли о долге, ритуалы, ясные и строго ограниченные обязанности исчезли разом. Неоправданный, неоправдываемый, он вдруг познает на собственном опыте жуткую свободу. Тут все и начинается: он внезапно выныривает в одиночестве, в «ничто». Этого Бодлер хотел избежать любой ценой.
Трудно согласиться с Сартром, что Бодлер «постоянно рассматривает нравственную жизнь с точки зрения принуждения… и никогда – с точки зрения томительного искания» и что в конце концов принял мораль своих судей, то есть людей, прикрывавших собственное лицемерие категорическим императивом. Во-первых, великая поэзия и есть «томительное искание» – веры, Бога, добра. Во-вторых, что бы ни говорил сам Бодлер, он осознавал амбивалентность добра и зла, а также глубинную связь поэзии и нравственности.
Когда великие поэты декларируют, что нет произведения искусства без участия дьявола, что от присутствия беса рождается магическая сила стихов и что лучше свобода в преисподней, чем рабство в раю, то сами поэты – так или иначе – ощущают себя, как…
Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.
Сам Бодлер признается в этом в знаменитом письме к Анселю от 18 февраля 1866 года:
Надо ли говорить вам, угадавшему в ней не больше, чем другие, что в эту жестокую книгу я вложил все мое сердце, всю мою нежность, всю мою религию (пусть переодетую), всю мою ненависть, все мои неудачи? Правда, я буду писать противоположное, я буду клясться всеми богами, что это книга чистого искусства, кривлянья, фиглярства, – я совру безбожно.
Ж. Батай:
Поэзия может на словах попирать установленный порядок, но она не может занять его место. Когда ужас бессильной свободы втягивает поэта в политику, он оставляет поэзию. Но с этого момента он берет на себя ответственность за будущий порядок, он претендует на управление деятельностью, на старшее положение, и мы неизбежно приходим к мысли, что поэтическое существование, в котором мы готовы были видеть возможность самовластия, действительно является младшим положением, ничем иным, как положением ребенка, бескорыстной игрой. В крайнем случае свобода могла бы быть властью ребенка – для взрослого, втянутого в обязательный распорядок действий, она будет только мечтой, желанием, навязчивой идеей. (Не является ли свобода властью, не принадлежащей Богу или принадлежащей ему лишь на словах, поскольку Бог не может не повиноваться порядку, который и есть Он, порядку, гарантом которого Он выступает? Беспредельная свобода Бога исчезает, если смотреть с точки зрения человека, в чьих глазах один Сатана свободен).
Да, Сатана в поэзии – не более чем символ свободы поэта, ничем не ограниченной – даже Богом. Остальное – только поэтическая игра, только попытка преодолеть пошлость и тщету прозаической реальности. Великий поэт своей поэзией противостоит жизни с ее глупостью, политической суетой «великих дел», грязью насилия и обмана. Самые беспощадные тираны и вожди несвободны, ибо – вопреки их «величию» – должны играть роли тиранов и вождей, «голых королей», «мудрецов» и «миротворцев», «отцов народов» и «гуманистов» (по большому счету эта игра – копошение червей в куче дерьма). Когда же авгиевы конюшни расчищены, а «бессмертные» уходят в «ничто» – «никем», приходит время безвестных и прóклятых – и тогда оказывается трудно вспомнить, в эпоху каких королей или князей жили Данте, Шекспир или Бодлер.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































