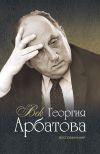Текст книги "Жизнь статиста эпохи крутых перемен. История историка"

Автор книги: Игорь Кривогуз
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Свадьба в августе 1925 г., с гордостью вспоминал отец, была многодневным праздником, и гостей насчитывалось более двухсот. Среди них родственники – Кривогузовы, двоюродные братья жениха Иван, Кирей и другие Сломовы, семьи Чернышевых и Карповых, друзей – ветеринара Мирного, врача Власова, инженера сахарного завода Яременко и сослуживцев жениха и невесты, а также станичников – Кораблевых, Фуниковых, Наумовых, Белговых, Золотовых и других, переживших войны и расказачивание. Тогда новобрачным и гостям казалось, что жизнь в стране, даже на Кубани налаживается, и все надеялись на лучшее будущее.
Ко времени моего рождения М.Е. Кривогузов заведовал торгово-заготовительной частью Севкавсахзавода, расположенного в пойме Кубани, в двух километрах от Кавказской. Там у отца, по рассказам, некоторое время имелась служебная квартира, в которой я, по недогляду няни, отравился медными ключами, но был еще слишком мал, чтобы это запомнить.
* * *
На свет мне довелось появиться в отчем доме, как было записано отцом, ранним утром в понедельник 15 мая 1926 г. У родителей я был первенцем. Папа писал обо мне в своих записках с нежностью и умилением. Хотя весил я всего около шести фунтов, его беспокоил не малый вес, а «неприятности», произошедшие со мной в первые дни и месяцы жизни. Он с горечью писал, что принимавшая роды акушерка слабо завязала пуповину, и я потерял много крови. Из-за этого мне до восьми лет пришлось носить пояс-бандаж. Едва мама с няней выходили меня, как на левой части груди обнаружилось разраставшееся красное пятно. Станичный врач вырезал его, не подозревая, что ненароком ослабил сращение между левой и правой грудными мышцами. Родители длительное время ограничивали мои физические нагрузки, резкие движения, прыжки и танцы, а слабая связь между грудными мышцами осталось на всю жизнь.
Неприятности первых дней моего существования не помешали Пелагее Гавриловне уже 18 мая зарегистрировать новорожденного Игорем в Кавказском райисполкоме, а священнику в начале июня крестить меня в нашем доме. Крёстным отцом был инженер сахарного завода Е.Г. Яременко, а крёстной матерью Пелагея Гавриловна, действительно ставшая моей второй мамой. Я получил золотой крестик на голубой ленте. Пока мы жили в Кавказской, он висел на спинке моей детской кроватки. Потом, несмотря на голодные и безбожные годы, крестик бережно хранился мамой и был возвращен ею мне в начале 1970-х годов.
В записках отца рассказывается о наших с ним прогулках, о моих играх и увлечениях, об освоении мною речи и чтения. Отмечая мою любознательность, папа цитирует мое требование: «Вот, я не умею, поуци». Он характеризует мои отношения с родителями, с родившимся в самом конце 1928 г. братом Виталием, с «кокой», как я долго называл крёстную – тетю Полю. Описывает мое общение с моими двоюродными сестрами – Любой и Леной, и воспитанницей Наташей, которую я не помню, так как в 1928 г. она уехала учиться в Ростов, с менявшимися нянями, соседскими мальчиками, с нашими котом и собачкой. Им подмечены мои чувства, вызванные драками мальчиков, гибелью птички, первыми книжками. Рассказано о моих детских болезнях, врачах и лекарствах. Но в его спорадических записях ничего не говорится о жизни взрослых, их делах и заботах, и невозможно понять, почему его записи, большая часть которых посвящена моему развитию в 1929 г., были начаты осенью 1928 г. – перед рождением брата, и прекращены осенью 1931 г. – перед рождением сестры.
Фрагменты моих воспоминаний и позднейших рассказов близких, хотя они не были словоохотливыми, дают представление о нашем образе жизни в станице Кавказской. Отец продолжал работать на сахарном заводе и начал заочно учиться на Высших финансово-экономических курсах. Мама преподавала биологию в школе. Всегда спешила к своим ученикам, а дома занималась мной и братом, клумбами и грядками, а также коровой и двумя-тремя курами, справляться с которыми ей помогали няни.
Весной я с мамой сажал растения на грядках и клумбах. Вечерами мы встречали корову, открывали ей ворота. А затем я смотрел, как мама ее доила, и пил парное молоко. Как-то раз корова заболела, съев на пастбище нечто вредное, боялись, что проволоку. Разобрав плетень, отвели ее к соседу-ветеринару, и он вылечил ее.
Чаще всего с утра до вечера с перерывом на обед и дневной сон я находил себе интересные занятия во дворе, куда нередко приходили мальчики-соседи, обещавшие научить меня доставать яйца и галчат из гнезд. А однажды утром неслыханный прежде грохот заставил меня броситься на улицу ему навстречу. Папа догнал меня, и через квартал мы увидели, что по поперечной улице невиданная мною машина с большими колесами без лошадей с оглушительным рычанием тащит большую длинную повозку с высокими расширяющимися бортами из жердей. В повозке сидели и смеялись женщины и мужчины с косами и граблями. «Трактор, – сказал отец, – люди поехали на сенокос». Он пояснил, что на такой повозке – мажаре можно везти воз сена, и рассказал, как движется и используется трактор. С тех пор, заслышав грохот, я выбегал смотреть на трактора. Они оказались разными: одни назывались фордзонами, а другие – с гусеницами – катерпиллерами. Шел 1929 г. и окружающий мир почти с каждым днем становился шире и разнообразнее. Мария Стефановна – вдова брата отца с детьми – была включена в колхоз, значения чего я долго совсем не понимал.
У нас в гостях бывали многие. Кроме родственников – Кривогузовых, Чернышевых и Карповых с детьми – Севой и Ирой, приходили врач Власов, сосед ветеринар Мирный, инженер Яременко и другие. Иногда гости рассаживались на стульях вокруг песчаной площадки, на которой бегали и прыгали их чада. Малыш Виталий по просьбе взрослых забавно изображал «буржуя», каким его рисовали тогда карикатуристы. Никто из присутствующих себя с буржуями не отождествлял, хотя и советскую власть своей не считал. Наверное, все они были ей «социально чуждыми».
А вечерами гости без детей собирались вокруг огромного стола в гостиной. Виталия относили спать, а мне с трех лет разрешали посмотреть и послушать. Гостей угощали, и они много разговаривали, пели и играли на инструментах: у отца имелись скрипка и балалайка, а гости приносили виолончель и флейту. Пели много разных эпических и лирических русских, особенно казачьих, и украинских песен: «Слети к нам тихий вечер на мирные поля», «По Дону гуляет казак молодой», «Чому я не сокил, чому не литаю» и другие, которые, как я понял позже, не соответствовали духу уже обрушившейся на станицу коллективизации.
В песнях своим тенором и мастерством отличался Павел Михайлович. Имея абсолютный слух и замечательный голос, как позже рассказывали, он руководил хором станичной церкви, и архиепископ приглашал его в регенты хора главного собора в Ростове, да он, чтобы не оказаться на виду, отказался. Тенор Павла Михайловича вел, баритоном его поддерживал папа и хор подхватывал. Благодаря этому с детских лет мне полюбились мелодии многих таких песен. А мама с папой напевали мне детские песенки.
В памяти сохранилось многое другое. Мы часто бывали в гостях у Чернышевых на Красной улице. В их ухоженных хлевах я знакомился с коровами, овцами и свиньями. А как-то вечером с их веранды глядел на парад красных конников, которые не нравились гостям. Запомнился приезд к Чернышевым учившейся где-то в техникуме их Зои с подружкой, смущавшей меня своей обжигающей красотой. Однажды на улице ее присутствие толкнуло меня разнимать драку двух ребят заметно старше меня. Только предостережение взрослых удержало их от отпора непрошенному малышу-«миротворцу».
Отец брал меня на прогулки по станице и окрестностям. У меня была разная одежда, и мне никогда не было ни холодно, ни жарко. Мне нравился белый прошитый золотыми нитями башлык, который одевался в морозную погоду. Имелась сшитая для меня черкеска. Я жалел, что патроны в ее газырях ненастоящие. Но одевали ее мне редко и только дома.
Однажды на зимней прогулке папа показывал мне военный городок, располагавшийся на пути от станицы к городу Кропоткину, бывшему Романовскому хутору. Заглядевшись на лошадей, которых выгуливали красноармейцы, я поскользнулся, упал и об лед порезал губу. Губу быстро заштопал врач, а мама укоряла папу за недогляд. Об этом напоминает мне едва заметный шрам.
Особо запомнились две поездки. В летний день на вызванной отцом линейке мы семьей приехали к песчаному берегу Кубани у железнодорожного моста. Мама расстелила простыню и расположилась на ней с полураздетым Виталием. А мы с отцом разоблачились и отправились в воду. С мелководья с восхищением следил за папой, который быстро плавал, глубоко нырял и лежал на воде. Пытаясь подражать ему, ринулся в воду. Сильное течение сбило меня, но подоспевший отец подхватил на руки. Несмотря на протесты мамы, он позволил мне барахтаться в воде и утешал обещанием научить плавать, когда подрасту. А Виталия только подвели к воде, даже окунуться не позволили.
В другой раз ближе к осени пролетка привезла всех нас на вокзальную площадь Кропоткина. Вокзал был красив, как и до сих пор. А вся площадь заставлена возами с разнообразной сельской продукцией и киосками с одеждой, обувью, разным инвентарем и запружена покупателями. До этого я никогда не видел такого множества людей и вещей. Хотелось все рассмотреть, но мы прошли в киоск фотографа, и он сфотографировал Виталия с котом, а меня на фоне горного пейзажа. Это тоже было занятно. Вместе с превосходными фотографиями сохранилось и сильное впечатление о свободной торговле. Жаль, что не осталось времени разглядеть все, что было на прилавках.
Как-то родители ходили на сахарный завод и взяли меня с собой. Показали бурты свеклы, канавы, в которых бурлящая вода обмывала и несла свеклу в горячие цеха, горы жома, чаны с патокой. Всюду был тяжелый запах. А получался снежно-белый сладкий сахар. Тогда его у нас дома было вдоволь, и я предпочитал шоколад.
Помнится еще участие в прогулке мужчин – Павла Михайловича, Алексея Максимовича Карпова и отца, с детьми – Леной, Севой и мной к пивному заводу – за интересовавшим мужчин пивом. Двигались густым лесом без тропинок, взрослые прошли и перенесли детей вброд через рукав Кубани. Было шумно и весело. Возвратились домой очень усталыми.
За пределы непосредственного окружения с полутора лет меня выводили сказки и иллюстрированные детские книжки. Тетя Поля рассказывала сказки проникновенно, будто свидетельница происходившего: о золотой рыбке, о бабе-Яге, об Иванушке и о лисе, дурачившей волка и мужика. Родители и некоторые гости дарили и читали мне разнообразные детские книжки – от Пушкина, Крылова и Чуковского до Андерсена и Маяковского. Помнится, отец любил цитировать: «Лев теперь не царь зверей, просто председатель».
Когда мне исполнилось четыре года, папа, желая расширить мой кругозор, принес большую географическую карту и прикрепил ее на стене в доступном для меня месте. На ней было написано Р С Ф С Р, и отец пытался разъяснить мне название нашей страны. Карту я видел впервые. На ней имелись города-кружочки, линии железных дорог и рек, зеленые и желтые равнины и коричневые хребты гор. С помощью отца нашел Краснодар, Ростов, реку Кубань. Мне захотелось отыскать наше место жительства. Мы смогли обнаружить только пересечение железной дороги с Кубанью. Но ни Кавказской, ни даже Кропоткина на карте не значилось.
Необъятность страны подавляла меня и представлялась несуразностью. А отсутствие на карте малых и средних поселений ощущалась мною как пренебрежение к их населению, и ко мне, ко всему, что я знал, видел и любил. От этого остро почувствовал себя изгоем, зарыдав в отчаянии, я закричал: «Зачем людям страна такая большая?!»44
Отец не раз рассказывал мне об этом случае (подробнее см. Приложение 3).
[Закрыть]
Отец не ожидал всплеска таких чувств. Он не мог успокоить меня словами о преимуществах большой территории. Я долго избегал карт, а потом предпочитал наиболее подробные. Позже различные иллюзии смягчили мое негативное отношение к необъятности Отечества, но я уже никогда не радовался огромности его территории и ее приращениям. В старости детское озарение у карты вспоминается тем чаще, чем больше убеждаюсь в невозможности эффективного в интересах всего населения управления государственным единством конгломерата разнородных территорий.
* * *
1930-й оказался годом горьких утрат. Летом дифтерией заболел Виталий55
Отец и бабушка с дедом никогда не рассказывали о брате отца, изложенное здесь я узнал впервые.
[Закрыть]. Меня из детской, где за ним ухаживала мама, отселили в спальню родителей, и болезнь меня миновала. После нескольких тяжелых суток малыш, которого ежедневно навещал врач, пошел на поправку. А ночью я проснулся от его голоса, – он звал маму. Услышал, что родители тоже проснулись. Мама порывалась встать. Но отец удержал ее: врач, мол, сказал, что кризис у Виталия уже прошел, а ты три ночи не спала, лежи. Я хотел, но не решился пойти к нему. Малыш умолк.
Утром я проснулся поздно. Родителей не было видно. Дверь к Виталию была закрыта. Когда я пытался ее открыть, появилась заплаканная мама и остановила меня. «Виталий умер», – сказала она. Позже мне показали его навек уснувшим. Возможно, ночью ему не хватило глотка воды или просто тепла рук мамы. Я еще не понимал необратимости смерти, но мне было очень тяжело и досадно, что сам не встал к нему. О слышанном разговоре родителей в ночь смерти Виталия я никому не рассказывал, но никогда не забывал и постепенно осознавал, как жизненно важна человеку поддержка в критический момент, как необратимо ее отсутствие. Думаю, родители переживали тот случай острее меня и всю жизнь.
Маленький гробик на повозке в сопровождении родителей и близких отвезли в церковь. Тогда я впервые побывал в станичном храме, где отпевали братика. Изумление невиданными одеждами священника, его кадилом и обрядом подавило в церкви другие мои чувства. Но когда гробик с телом зарыли на кладбище, необратимость происшедшего стала еще острее. Понял, что того, что происходит с семенами, которые мама зарывает в грядках, с братиком не случится. Утрату Виталия, только что начавшего принимать участие в моих играх, переживал долго. В это же время у Карповых от дифтерии умерла дочь Ира, которая была на год старше его.
Стремясь заполнить образовавшуюся пустоту, пошел к Вите Кривогузову. Приходил раз и другой, а сестры – Люба и Лена говорили, что его нет. Только потом Мария Стефановна объяснила, что он упал и так ударил голову, что вскоре умер. Смерть стала реальностью непосредственного окружения. Дома пытался имитировать похоронный обряд при погребении найденной у ворот мертвой птички.
За всем этим не сразу заметил, что вокруг происходили и другие перемены. Уже не приходили гости. Не прощаясь, исчезли все Карповы. Оказалось, что и Павла Михайловича в станице уже нет. Тетя Поля еще оставалась, но к нам не ходила, да и мы ее не навещали.
Много позже она рассказывала, что без огласки распродала всю имевшуюся живность. Ее вызывали в сельсовет и требовали сказать, куда делся муж. Она говорила, что оставил ее и уехал неведомо куда. Грозили раскулачить. Чтобы избежать худшего, ей пришлось бросить дом и незаметно покинуть Кавказскую. В станице пустело все больше домов.
Внезапно, не объясняя мне ничего, уехал и отец. Прежнее окружение разваливалось. Особенно тревожило отсутствие папы. Через некоторое время он вернулся на несколько дней и сказал, что продал наш дом на снос, и нам надо готовиться к отъезду. Мне жаль было дома. Не мог вообразить его разрушение, тем более – догадаться, что уже никогда в жизни у меня не будет своего дома. А что обнадеживавший многих ветерок НЭПа сменился буранами коллективизации и индустриализации, я и не подозревал.
Отправиться в поездку было интересно, хотя о ее направлении и цели родители не говорили. С папой, которого проводили до безлюдной станции Гетмановской, отправили багажом большой стол, огромный персидский ковер, сундук с вещами и мамино настольное венецианское зеркало.
Вскоре наступила осень, и настал, помнится, день нашего отъезда к отцу. Туманным утром мама повела меня на кладбище. Там она припала к высокому прочному кресту и объяснила, что под ним похоронен ее отец и мой дедушка Гавриил Петрович. Она плакала у креста. Затем со слезами опустилась на колени у маленького холмика с небольшим крестом – на могиле Виталия. Наведавшись на то кладбище через 70 лет, я нашел большой крест на оказавшейся безымянной могиле Гавриила Петровича и едва заметный заросший травой холмик Виталия неподалеку. Могил Евдокима Васильевича, Елены Васильевны и Ивана Евдокимовича я никогда не видел и разыскать не мог.
В середине дня мама и я с сумками и любимой Анашкой сели в вагон на станции Гетмановской. Поезд помчался мимо перелесков, полей и степей. Я всматривался в окно, надеясь увидеть волка, лису или зайца. Но мне не повезло. Еще засветло мы вышли из вагона на станции Расшеватка. Нас встретил папа.
О причинах, побудивших семью покинуть Кавказскую с отчим домом, родители никогда ничего не говорили. Много позже узнал, что еще в апреле 1930 г. отец по собственному желанию уволился с хорошей должности на сахарном заводе. В июле он уже приступил к работе счетоводом в кредитном товариществе в станице Ново-Александровской. Это значит, что отъезд семьи из Кавказской исподволь готовился еще до смерти Виталия, несмотря на имевшийся дом и то, что в Кавказской или Кропоткине отец мог бы получить лучшую должность. Представляется, что отцу нестерпимо было видеть, как ликвидация НЭПа и развертывание коллективизации уничтожают остатки традиционного уклада в родной станице. Видимо он понял, что зажиточный служащий, оставшийся в стороне от преобразований и известный связями с бежавшими «социально чуждыми», мог запросто стать жертвой непредсказуемых репрессий. Рисковать он не хотел.
Много позже я догадался, что мой отчий дом, как дома многих других, стал жертвой исторических перемен. Как бы то ни было, с отъездом семьи из Кавказской закончилась первая страница моей жизни. Не понимая происходившего, я без страха оказался на ее второй странице.
* * *
2
Голод и школа
С платформы небольшой станции Расшеватки папа, взяв мамины сумки, повел нас к снятой им квартире. Шли через примыкавшую к железной дороге рощу. На ее главной аллее меня поразил небольшой, но красивый, отделанный мрамором бассейн. Посредине него стоял мраморный ангелоподобный мальчик и держал большую чашу с множеством трубок, из которых, как объяснил отец, должны бить фонтанчики. Но воды не было. На отделке бассейна, на мальчике и чаше было много дыр и сколов. «От пуль и осколков», – пояснил папа, пробудив у меня интерес к прошлому и фантазию.
Из рощи мы вступили в станицу Ново-Александровскую. Оставили слева широченную улицу, называвшуюся уже известным мне именем Ленина, и пошли по улице, как сказал отец, имени Маркса, революционера. Так я впервые услышал о выдающемся человеке, учению которого потом долго служил. В Кавказской до нашего отъезда таких улиц еще не было.
Пройдя немного, мы оказались у саманного дома под толстой камышовой крышей. Во дворе не было ни бассейна, ни клумб, ни сада. В хозяйственных пристройках имелись только куры да пара овец. Престарелая хозяйка жила одна, видимо давно потеряв мужа и детей.
Сени были теплыми и просторными. В них стояла бочка с водой для всех нужд; хозяйка наполняла ее ведрами из колодца. Здесь же находились многие нужные в быту вещи, и мама на примусе стала готовить нам пищу. Дверь слева вела в комнату хозяйки, а правая – в отведенную нам большую комнату с двумя окнами, обращенными к улице. Она отапливалась небольшой печкой.
Вытянутый двор был со всех сторон огорожен плетнем, с расшатанными воротами и калиткой на улицу. В углу у ворот росло большое дерево, а у заднего плетня имелась сделанная из досок уборная. Но главное – этот плетень был полуразрушен, и через него легко было проникать на заросшее травами пространство вдоль железной дороги с гудевшими телеграфными проводами на столбах.
Через день папа со мной в сопровождении Анашки на подводе доставил на эту квартиру наш домашний скарб, хранившийся на товарном складе станции. Установили стол, сундук, зеркало, повесили ковер, и жизнь наладилась.
В Ново-Александровской родители не принадлежали к зажиточным, и, казалось, «социально чуждых» родственников и знакомых не имели. Разрушение в ней остатков традиционного уклада волновало папу не так сильно, как в родной станице. Он работал по счетной части в различных финансово-торговых учреждениях. Мама преподавала биологию и химию в школе крестьянской молодежи – ШКМ.
Возвращалась мама домой позже папы. Она часто жаловалась на то, что ее включили в комиссию по поиску хлеба – зерна у единоличников, которые голодали, но прятали зерно для посева весной. Как я понял, отчаяние и слезы вызывало у нее голодание детей реквизируемых «кулаков». Она пыталась, но не смогла отказаться от участия в этой комиссии. Отца к такой деятельности не привлекали.
* * *
Все дни я проводил дома. Мама оставляла еду, с которой справлялся сам, а обедали все вместе вечерами. При этом наш рацион становилась все скуднее, мне казалось, из-за занятости родителей.
По их просьбе хозяйка приглядывала за мной, но я видел ее редко, знакомиться с окрестностями она не мешала. Из соседей общался только с ребятами примерно моего возраста. В доме справа жила большая многодетная семья. С соседскими детьми я разглядывал проезжавшие товарные и пассажирские поезда, слушал гудение телеграфных проводов, мечтая о поездках. Когда темнело, находил занятия в комнате, разглядывал привезенные из Кавказской детские книжки и ждал родителей. Вечерами они отвечали на мои вопросы и читали мне.
Интересным зрелищем для меня и приятелей было проходившее пару дней состязание молодых казаков в скачках и рубке лозы на большой площади – майдане, оказавшемся против наших окон на противоположной стороне улицы. А однажды цыгане привели к майдану медведя с кольцом в носу. Играли на гармошке, а медведь плясал. Но зрителей было немного.
Как-то случилось, что медведь увернулся от вожатого, проник в наш двор и забрался почти на верхушку дерева у ворот. Он никак не хотел слезать, и на уговоры отвечал ревом. Хозяйка отправила меня и повизгивавшую от страха Анашку в дом и стала ругать цыган. Собралась толпа, подававшая советы цыганам и забавлявшаяся их бессилием. Медведь слез с дерева и повиновался вожатому только вечером, когда, наверное, проголодался.
Однажды отец задержался на работе дольше обычного. Не дождавшись ни его, ни мамы, я оделся и тайком от Анашки и хозяйки вышел из дома. Хотел встретить маму и направился к улице Ленина, из которой она, как я знал, сворачивала на нашу улицу. Было холодно, ветрено и шел мелкий снег. Почти на углу улицы Ленина стоял небольшая мазанка, за которой я укрылся от ветра. Здесь оказалось слышно, что за углом ее топчутся, курят и перебрасываются словами двое.
– Может, она другим путем пойдет, – говорил один.
– Нет, она всегда здесь проходит. Дождемся, я ей все скажу. Поговорим, – угрожающе заявил другой.
– А может, она уже прошла. Ждем впустую, – сказал первый.
Видимо, они ждали уже давно и замерзли. И вдруг я подумал, что они подкарауливают маму. Это очень обеспокоило меня. Стал соображать, как предупредить маму об этой засаде: крикнуть, побежать ей навстречу.
Но через некоторое время, выкурив еще по цигарке, оба казака решили, что поздно, и та, которую они поджидали, уже дома. Они ушли. Я заглянул за угол. Их силуэты удалились к роще.
Заняв их место, через несколько минут увидел маму. Она очень удивилась моей вылазке и была встревожена, не простудился ли я. Мы быстро пришли домой, и она, чтобы я не простудился, растерла меня керосином. Решил не рассказывать ей о засаде и своих догадках, но очень просил возвращаться домой засветло. Меня поддержал и пришедший вскоре папа, задержавшийся из-за подготовки отчета.
В один пасмурный день я выскочил на улицу на крики мужчин и плачь женщин. Наискось на другой стороне улицы ворота двора и двери дома, примыкавшего к майдану, были распахнуты настежь. У ворот стояла запряженная лошадьми подвода с узлами и свертками. Под надзором человека в кожанке с кобурой, милиционера с винтовкой и еще двух, видимо, представителей власти стояли одетые в дорогу угрюмые казаки – пожилой хозяин дома, молодой и подросток. Три укутанные во все свои одежды женщины – хозяйка с родственницами – с плачем и горестными словами пытались поместить в повозку еще некоторые вещи и двух малых детей.
Распорядители отогнали меня, когда я хотел подойти поближе. Других людей на улице не было. Но из-за плетней за происходящим молча наблюдали соседи, в том числе и хозяйка нашей квартиры. Человек в кожанке торопил женщин, которые, крестясь и кланяясь, прощались с домом. Он, кажется, спешил и не желал скопления зевак. По его команде подвода, и все, как я понял, выселяемые – казаки и женщины с детьми на руках – под охраной двинулись в путь и скоро скрылись за перекрестком улицы Маркса с улицей Ленина.
Вечером вернувшиеся родители были подавлены моим рассказом о выселении и никак не разъяснили это происшествие. Мне казалось, что высланные не похожи на врагов, и я жалел их. На следующий день калитка, ворота, двери и ставни окон дома высланных были заколочены досками. На улице все было тихо. Приятели мои считали, что в доме осталось оружие, и хотели его найти. Но мне казалось, что если оно и было, то его нашли и забрали те, кто выселил это семейство.
Через какое-то время ранним холодным, но солнечным утром мое внимание к соседнему двору привлекли сильный запах тогда полузабытого жаркого и возбужденное повизгивание Анашки. За соседским плетнем я увидел потрясшую меня картину. Двор был залит кровью, на бревнах и досках лежали разрубленные туши свиней, коров, овец, лошадей. Все хлевы раскрыты и пусты. На плетне лежал без царапины маленький жеребенок. Кровавый погром! Но тихо, и никого из многолюдной семьи – ни живых, ни мертвых – не видно.
Разглядев все и встревожившись, я побежал будить проспавших утро выходного дня родителей, просить оживить жеребенка. Не веря моему рассказу, они вышли и все увидели сами. Мама горько плакала и сказала, что жеребеночек еще и не родился. Папа был очень расстроен. Мне они ничего не объясняли. Запретили выходить во двор.
Но позже в комнату стали доноситься пьяные крики соседей, стало известно, что они сами порезали свою живность, с горя запили и объелись мяса, чтобы ими выращенное избежало обобществления. Этого я никак не мог уразуметь.
* * *
Не думаю, что причиной нашего переселения на другую, северо-западную окраину станицы стал этот случай. Скорее другое: родители хотели поселиться поближе к Чернышевым. До того я даже не знал, что они тоже живут в Ново-Александровке. А оказалось, что наше новое жилище неподалеку от небольшого домика, в котором они квартировали. Теперь тетя Поля и Павел Михайлович проживали в двух маленьких смежных комнатках и работали в конторах, были заняты там целыми днями.
Названия улицы, на которую мы переселились, я не запомнил. Но ее и сейчас, как бы она ни называлась, легко узнать – она перпендикулярна железной дороге и начинается у башни-водокачки, из которой паровозы заправлялись водой. Тогда по ней, заросшей гусиной травой с проторенной не пыльной колеей посредине, редко ездили даже подводы, не говоря уже об автомашинах. И нигде, ни на улицах, ни во дворах не было видно лошадей, коров, мелкого скота, домашних птиц, собак и кошек, и даже ворон. Анашка оказалась единственным домашним животным.
Наша улица была крайней на северо-западе станицы, и дворы ее внешнего ряда домов не были отгорожены от степи. Таким был и наш двор. Но, в отличие от других, в нем имелись кузница, задней стеной отделенная от улицы, перпендикулярная ей приземистая хата и большой высокий дом с крыльцом, стоявший в глубине двора слева от дощатых не запиравшихся ворот. За домом был заросший бурьяном сад, а за ним начиналась степь.
В этом доме в сенях левая дверь вела в предоставленные нам две просторные смежные комнаты, а правая – к соседям. Комнаты были теплыми и светлыми. В них легко разместились наши вещи и кровати. Жильцов соседних комнат не помню, кроме бойкой девочки Лизы, на год старше меня. В отдельной хате проживала женщина с тихим мальчиком, моим ровесником.
Самым интересным объектом была кузница. Одной стеной ей служил глухой забор, другой – стена хатки, а прочих не было. Под крышей имелся горн с давно остывшими углями. На столбе висел мех для раздувания огня. Имелись наковальни, молотки, клещи и другие инструменты, а также какие-то металлические заготовки. Хозяина-кузнеца не было, а женщина, жившая в хате, подметала кузницу и следила, чтобы проникавшие туда ребятишки не разжигали огонь и не растаскивали инструменты. Она надеялась на возвращение хозяина.
Я, как и другие дети нашего двора, мог разглядывать и даже трогать все имевшиеся там вещи. Это было увлекательнее, чем прыгать по большим серым камням, лежавшим в саду, и играть с Анашкой. Тем более что играть с собачкой стало трудно: у нее выросла огромная грыжа, не позволявшая ей бегать и преодолевать высокое крыльцо. Однажды она исчезла. Родители сказали, что она попала под машину. Далеко она не ходила, а на нашей улице это представлялось маловероятным. Я ее мертвой не видел и некоторое время тщетно искал. Теперь думаю, что ее кто-то поймал и съел, как раньше всю другую живность станицы, а родители берегли меня от жестокой правды.
Почти напротив нашего нового жилья начиналась тропинка, которая по диагонали пересекала противолежащий квартал. Она пролегала мимо забора из штакетника, за которым у хорошенького домика в плетеном кресле сидела полная женщина, а две девочки заметно постарше меня, одетые как принцессы в иллюстрациях к сказкам, деревянными шпагами бросали и ловили легкие кольца. Мама объяснила: они играют в серсо. Когда я останавливался, чтобы посмотреть на их игру, они звали: «Мальчик, иди к нам играть». Но играть в серсо я не умел, очень стеснялся «принцесс» и молча быстренько уходил.
Тропинка выводила к перекрестку других улиц. Угловым одной из них был домик, в котором жили Чернышевы. Дома они бывали редко, но у их соседей меня всегда приветствовал Миша. Он был на два года старше меня и на его попечении находился его трехлетний брат Николай. С ними и другими детьми было интересно ходить за полкилометра к башне-водокачке и смотреть, как через ее рукава заправляются водой паровозы.
Мне кажется, тогда родителям для выживания семьи пришлось напрячь все свои силы. К осени из нашего рациона совсем исчезли молоко и картофель, уменьшились порции каши и хлеба, постоянным стало чувство голода. Мама вспоминала, что я ее упрекал: «Какая же ты мама, если не умеешь сделать молоко».