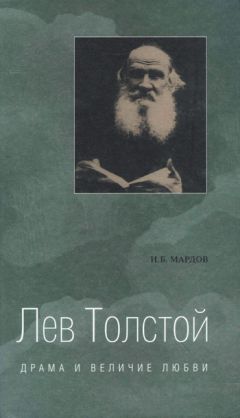
Автор книги: Игорь Мардов
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
6(30)
До душевного рождения человек изнутри управляется эго «животной личности» (человеческой самостью), из вне – воспитанием и механизмом общедушевного уподобления. Следуя этим установлениям, человек в дальнейшем живет либо индивидуалистически, либо, и как правило, общедушевной (коллективной) жизнью. Таким образом, изначально он запрограммирован на общедушевное и отчасти на общедуховное развитие. Личная душевная и личная духовная жизнь исключительно обязана свободному решению высшей души, заявляющей о нем в пору душевного рождения. Новое состояние жизни, рассказывает Толстой в черновиках «Юности», «само собой, без постороннего влияния, со всей силой молодого самостоятельного открытия, пришло мне в душу».
«Я помню, когда мне было лет 15, – вспоминал Толстой в 1906 году, – как бы открылась передо мной какая-то завеса, я почувствовал что-то необычайное в своей жизни. Весь мир представлялся мне в каком-то особенном, чудном свете. Продолжалось это недолго, потому что люди, как всегда, постарались скорее все это замять, как что-то необычное, непрактичное, но помню хорошо, как это было все-таки чудно радостно».[121]121
ЯЗ. Кн. 2. С. 318.
[Закрыть]
Высшая душа может находиться либо в пассивном состоянии, соответствующем утробному развитию, либо в автономном и активизированном состоянии. Активизация высшей души происходит при душевном рождении. В душевнонерожденном человеке нет собственного горения духа, нет Света идеалосознавания, нет интуиции себя должного, нет, собственно говоря, сознания духовной свободы, нет и внутренней самостоятельности. Нерожденная высшая душа оттесняется на периферию душевной жизни и, по сути, становится частью животной личности. Общедушевная жизнь и фрагменты общедуховной жизни остаются доступными душевнонерожденному человеку и целиком поглощает его. В момент душевного рождения Толстой, как и всякий человек, «пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до сих пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем Началом, которое дало мне ее…».[122]122
Из статьи «Верьте себе».
[Закрыть] Человек, не прошедший душевное рождение, никогда не будет жить личной духовной жизнью.
Свое душевное рождение человек переживает не ранее конца второго семилетия жизни. Мой читатель, надеюсь, помнит этот возвышенный и мучительный момент ранней юности, когда впервые обретается сознание душевной свободы и душевной особости и вместе с этим чувство своей душевной оголенности, ранимости, незащищенности, когда очарованность красотой совмещается с мечтой прекрасной любви, а стремление «делать себя» сопровождается переживанием священного.
Душевное рождение подобно прозрению. Так и описывает его Толстой. «Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной шторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидать мокрую от дождя, тенистую, лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстии окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождевого воздуха и подумать: “Как мне не стыдно было проспать такой вечер”, – и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время».
При душевном рождении впервые в высшей душе вскрывается канал связи с «Богом своим», со своим эденским существом. Самого его еще в человеке нет, оно может так никогда и не войти в него, но теперь зримо само ли оно или его призрак или отблеск, слышен его нравственный призыв и его глас, зовущий к восхождению на Пути.
«Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, – благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?»
Для эденского существа нет авторитета в этом мире. Носитель эденского существа всегда, начиная с душевного рождения – «автодиктат», как кто-то неудачно назвал характер Толстого. Постороннему наблюдателю такая независимость в суждениях, чувствах, оценках, взглядах, такая степень неподотчетности общему мнению кажется странной, и он объясняет ее «духом противоречия». Считается, что дух этот был особенно силен в Толстом во все времена жизни. Так, видимо, эденское существо свидетельствовало о себе в нем.
О душевном рождении старших братьев Толстого, Николая и Сергея, мы ничего не знаем. Глас «Бога своего» пронзил душу брата Дмитрия насквозь – пробил разум, дошел до чувства и воздействовал прямо на волю.[123]123
Такое чаще случается с женской душою.
[Закрыть] В качестве установок своего разума и чувства Дмитрий Николаевич взял традиционные вероисповедальные предписания общедуховной жизни и десятилетие жил, руководствуясь ими. Обычно же мужское душевное рождение идет по ступеням. Лет в четырнадцать-пятнадцать юноша обретает душевную потребность в Истине, мечется, еще не зная, как работать своим разумом, начинает судить себя, предвидя возможность взгляда на свою внутреннюю жизнь с некоторой высшей точки зрения. В эту пору он способен в озарении провидеть вершину своего Пути восхождения. Потом, лет в шестнадцать, то есть на пике подъема взвода духовной жизни, мысли его формируют соответствующие им чувства и возбуждают волю. Этот момент перелома кривой Пути Толстой считал концом отрочества и началом юности. В это время ему открылся новый взгляд на жизнь, который в общих чертах сохранился до конца жизни.
«Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, напутанным и праздным порядком. Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием… еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности».
Духовный рост юноши продолжается и в первые годы после пика первой волны кривой восхождения, но падает его ускорение. Активное влияние эденского существа не прекращается. Не прекращается и знакомство души со своим эденским существом. В 17 лет Толстой все более и более узнавал его и свое будущее с ним. «Передо мной открывалось бесконечное моральное совершенство, не подлежащие ни несчастьям, ни ошибкам, и ум со страстностью молодости принялся отыскивать пути к достижению этого совершенства… В голове моей происходила горячечная усиленная работа… я видел и слышал во сне великие новые истины и правила».
Тетушка Ергольская внимательно следит за своим любимым воспитанником и подмечает, что «он думает только о том, как углубиться в тайны человеческого существования, и чувствует себя счастливым и довольным только тогда, когда встречает человека, расположенного выслушивать его идеи, которые он развивает с бесконечной страстностью».[124]124
Гусев Н.Н. Т. I. С. 198.
[Закрыть] Можно представить восторг молодого Толстого, когда он расслышал голос своего эденского существа в «Исповеди» Руссо. Не фигурально, а действительно ему представлялось, что это он написал сам. Высшие души Руссо и Толстого попали в резонанс, несмотря на то, что первый к моменту создания «Исповеди» далеко зашел на Пути, а второй только что вступал на Путь и издали воодушевлялся Светом своего эденского существа. Видимо, эденские существа Толстого и Руссо происходили из одного Эденского Дома. Их встреча в земном существовании, на чужбине (не могу сказать, что встреча заочная) не могла не быть продуктивной.[125]125
Не она ли за шесть десятилетий подготовила толстовскую мысль монизма жизни? Вот что сказано в «Юности»: «И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».
[Закрыть]
И все же первую волну Пути восхождения Толстой не прошел так удачно, как можно подумать. Первая его неудача – в том, как жизнь подготавливала его к ней. Отец Льва Николаевича умер, когда ему было 9 лет, и о детях стала заботиться «истинно религиозная женщина»,[126]126
Так ее характеризовал Толстой в «Воспоминаниях».
[Закрыть] добрая тетушка Остен-Сакен. Но и она умерла, когда Толстому было 13 лет, дети оказались под опекой второй сестры отца, тетушки Юшковой, и по ее настоянию переселились к ней в Казань. Прямой необходимости в этом для Дмитрия, Льва и Маши не было. Они вполне могли несколько лет оставаться в Ясной Поляне под благотворным влиянием любящей и умной Татьяны Александровны. Но тетушка Юшкова не могла позабыть, что ее муж, прежде чем жениться на ней, несколько лет страстно добивался руки Татьяны Александровны, теперь захотела отомстить ей и, зная ее и ее отношение к детям, забрала их у нее, не думая об их благе. Таким образом, в Казани Лев остался не только без мужского сдерживающего влияния, но и вообще без столь необходимого в этом возрасте нравственного внушения. Вместо них внушались другие понятия. «Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними». Такого рода идеал противостоит в душе тому Свету Идеала, который зажигается при душевном рождении и взводит пружину духовной жизни. Много лет Толстой прожил с таким отношением к людям.
Льву Николаевичу не повезло. «Я всей душой желал быть хорошим, – рассказывает он в «Исповеди», – но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло мои самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, – я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли». Выиграть сражение плоти и духа на первом подъеме Пути в таких условиях даже для Толстого было очень и очень трудно. Он и срывался больше, чем могло быть в других обстоятельствах жизни, срывался постоянно.
Подъем взвода духовной жизни еще не завершился в Толстом, когда с ним случилось то, что не должно быть с человеком в эту благодатную пору.
«Мне сказали, что смешно жить скромником, – и я отдал без сожаления цвет своей души – невинность – продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, к которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда еще не знал женщин!»[127]127
Из «Записок маркера».
[Закрыть]
Отца Толстого, в те же 16 лет, сблизили «для здоровья» с дворовой девушкой, надо полагать, столь же невинной, что и он.[128]128
От этой связи родился сын, брат Льва Николаевича, годный ему в отцы.
[Закрыть] И это событие не оказало рокового влияния на развитие его духовной жизни. Чистота его была потеряна, но не поругана. Лев Николаевич же плакал, горько плакал не столько от «утраты невинности», сколько от нестерпимого поругания паскудным священной чистоты в себе. То же самое испытал в 25 лет его брат Дмитрий и потерял себя.
Мария Александровна Шмидт вспоминает, как Лев Николаевич в конце 90-х годов рассказал ей о своем первом падении: «Когда меня братья в первый раз привели в публичный дом, и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал!..»
Брат Николай уехал из Казани 1844 году, так что такого рода мужское «посвящение» произошло, видимо, в ознаменование 16-летия Льва Николаевича, то есть как раз в то время, когда он переживал состояние «пика чистоты» Пути жизни. Впрочем, Николай Толстой не Константин Исленьев. Какое затмение души нашло на брата Николая, что он привел невинного 16-летнего юношу, своего младшего брата, которому он заменял отца, в публичный дом? В это трудно поверить. Пересказывая слова Толстого, Мария Александровна не могла и представить себе, что такое могло произойти где-нибудь, кроме как в публичном доме.
Есть другая, более достоверная версия. И.И. Старининому Лев Николаевич за 10 лет до Марии Александровны рассказывал, что его первое падение произошло в Кизическом монастыре близ Казани – то есть не с проституткой, а в келье с монахиней.[129]129
Достаточно распространенная практика того времени. Девушки попадали в монастырь по самым разным причинам и далеко не всегда горя желанием стать «невестой Христовой».
[Закрыть] В отношениях с женщинами Толстой всегда был застенчив, даже боязлив, и вполне может быть, что, учитывая это и боясь травмы брата, атеист Николай Николаевич решил, что женский монастырь для него – самое чистое и подходящее место для такого рода операций. Но он по молодости лет ошибся. В ту жуткую минуту его брат Лев был потрясен не только тем, что отдал на поругание «цвет своей души». Толстой содрогался в рыданиях от кощунственности, с которой произошло поругание святыни чистоты в нем. И это навсегда оставило темный след в Толстом.
7(31)
Все нравственно невыгодные условия казанской жизни, все соблазны и развращения, и особенно его паскудное и кощунственное «первое падение», сказались на взводе духовной жизни Толстого. Его Путь восхождения искорежен в самом начале. Возможно, что в положенное время Толстой духовно недовзвелся.
«Помню, что я тогда, хотя и смутно, но глубоко чувствовал, что главная цель моей жизни это то, чтобы быть хорошим, – хорошим в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви. Помню, что я тогда же попытался жить так, но это продолжалось недолго. Я не поверил себе, я поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всем окружающим. И мое первое пробуждение заменилось очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми: быть знатным, ученым, прославленным, богатым, сильным – т. е. таким, которого не я сам, а люди считали хорошим».
С 16 и до 19 лет Толстого метало из стороны в сторону. Умственная деятельность его шла сама по себе, а жизнь с ее прельщениями – сама по себе. В 18 лет Лев Николаевич устанавливает для себя такие правила, которых без всяких формулировок придерживался в жизни его брат Дмитрий,[130]130
Вот некоторые из этих правил. «Помогай больше тем, которые несчастнее, и тебе удобнее помогать». «Ежели, действуя для себя, деяния твои окажутся странными, то не оправдывай свои деяния ни перед кем». «Живи всегда хуже, чем ты бы мог жить».
[Закрыть] но которые он вроде бы и не пытается исполнять. Восемнадцати с половиной лет он заболел венерической болезнью, лег в университетскую клинику, оглянулся и ужаснулся на себя. Здесь, в клинике, он начал свой Дневник, который завершил за 4 дня до смерти. В первых же записях Дневника понято: «Я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души» (46.3).
Выйдя из клиники, Толстой бросил университет и 1 мая 1847 года уехал в Ясную Поляну. В Ясной он пробыл 17 месяцев. Он много читает (в том числе получает большое сторгическое впечатление от «Поленьки Сакс»), много думает, музицирует и, главное, всей душою устремляется на конкретную деятельность добра. Его на это наставляет глас свыше – то «высшее чувство», которому он и повинуется. Так это описано в «Утре помещика», герой которого бросает Университет ради того, чтобы посвятить всю жизнь благу своих крестьян.
«Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и Бог знает каким путем ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, – мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина, и одно возможное счастье в мире… Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это – то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтобы быть счастливым», думал он и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась перед ним. Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него у него есть прямая обязанность – у него есть крестьяне».
И брат Дмитрий за год до этого уехал в свое имение, чтобы устроить счастливую жизнь своим крестьянам. Но то была общественная деятельность, мотивируемая благородством и моральным долгом помещика перед крепостными. Львом Николаевичем же двигала любовь, сторгическое чувство, направленное на человека своего народа. Это было не полезное общественное дело, а выражение общедуховного жизнесознания.
«И какой отрадный и благодарный труд представляется ему: действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить его пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро… Какая блестящая, счастливая будущность!».
Пережить идеал или идеальное чувство – это одно; войти же в состояние идеальной деятельности и со всей молодой энергией непосредственно взяться за труд по исполнению идеала добра в жизни – совсем другое. Так проявляет себя наивысшая энергия взвода духовной жизни. Практический результат – не важен. Общедуховная деятельность сама по себе многого стоит, особенно когда тебе 19 лет и ты бежишь от «раннего разврата души».
С момента душевного рождения человек становится существом двухполюсным, зажатым между двумя центрами жизни, неизбежные противоречия и противоборства которых полностью заполняют его существование. С одной стороны, бурный поток сил животной личностности, затопляющий всего своими хотениями, с другой – идеальные стремления, порожденные либо Саром, либо призраком эденского существа (либо, в исключительных случаях, и тем и другим) в высшей душе. Родившаяся высшая душа всеми своими духовными силами тормозит все более разгоняющуюся жизнь животной личностности. Когда-то ей это удается, когда-то – нет. Муки подъема душевного рождения и следующего за ним путевого отлива – в этой борьбе, от которой зависит успех дальнейшего продвижения по Пути. Важно не столько победить в этой борьбе, сколько на подъеме бороться, преодолевать, то есть заводить пружину своей духовной жизни и потом, на уступе, выдержать, выжигая то, что необходимо.
Разум на уступе первой волны Пути мечется, последовательно отрицая ряд направлений, которые сам себе же и задает. Человека тут мы некогда[131]131
См.: Мардов И.Б. Этапы личной духовной жизни. М., 1994.
[Закрыть] уподобили попавшему в шторм кораблю, на котором не задействован или сломан руль управления. Такой корабль рискует потонуть и из-за силы бушующего шторма, и из-за своей недостроенности, некрепкости обшивки, неустойчивости, перегруженности и даже от столкновения с другим таким же дурно управляемым кораблем. И все же такое путешествие без руля в шторм важно и нужно на Пути: все, что брак, должно быть своевременно (то есть до личностного рождения) выведено из работы. И все, что вводится вновь, должно быть предварительно и в неблагоприятных условиях испытано на крепость хода. На уступе первой волны человек проходит ходовые испытания действительной ценности и стойкости своей высшей души. Чтобы быть допущенным к прохождению Пути, мало удачно взвестись на подъеме, надо еще на отливе доказать силу и стойкость путеводных сил и возможностей в себе.
Трудные и мучительные процессы на отливе первой волны Пути необходимы, во-первых, для того, чтобы, погрязая и выбираясь, совершая каждый раз новое духовное усилие, производя рывок духовного роста, человек становился более и более живым; во-вторых, каждый раз выбираясь и преодолевая, человек тем самым впрок увеличивает запас путеводных сил в себе. И в-третьих, мучения противоборства плоти и духа необходимы для того, чтобы очистить себя. Духовно взведенный человек, прежде чем начать Путь, проходит очищение в огне беспутия, помещается в жерло, в котором души одних сгорают вовсе, другие выгорают до какой-то глубины, но кое-кто и очищается в огне. В эту пору ходовых испытаний в чистилище Пути из себя должно быть извергнуто то, что является главным прельщением именно этой личности и что в стратегических целях восхождения должно быть исторгнуто (или хотя бы решительным образом подорвано) в самом начале Пути.
Нормативный Путь не предусматривает катастрофы. И потому вход в чистилище – не обвал, а оползень. Человек постепенно сползает к наинизшей точке Пути жизни, откуда столь же постепенно начинается подъем второй волны Пути, ведущий к личностному рождению. Впрочем, нормативной ход кривой Пути во втором 14-летии выдерживается далеко не всегда. Во всяком случае, у Толстого был свой, особенный ход ее.
Идеалистическая деятельность на благо крестьян девятнадцатилетнего помещика на практике не могла кончиться ничем иным, как полным крахом. Крах того, в чем Толстой видел свое спасение и свое счастье, потряс Льва Николаевича. Быть может, поэтому он разом сорвался в чистилище жизни. Началась, по его же воспоминаниям, «такая безалаберная, распущенная» жизнь, что он был готов бежать от себя куда угодно. В середине октября 1848 года, на 21-м году жизни, Толстой уехал в Москву. Но и тут продолжалась та же жизнь, хотя и несколько иного рода. Он стал играть, непомерно много проигрывая. Хотел было вернуться в деревню, но вместо этого уехал в Петербург с благими намерениями стать «практическим человеком»[132]132
Письмо Сергея Николаевича Толстого брату Льву от 13 февраля 1849 года.
[Закрыть] – сдать экзамены в университете и служить. Уехал он из Петербурга через 5 месяцев, и эти первые месяцы 1849 года – несомненно – «низина» его Пути жизни. Таким образом, Толстой прямо с одной из наивысших точек взвода духовной жизни свалился в низину Пути восхождения. Вполне мог расшибиться насмерть.
«Впоследствии Толстой никогда не рассказывал об этой полосе своей жизни, – так тяжелы были для него эти воспоминания» – констатирует Н.Н. Гусев.[133]133
Гусев Н.Н. Т. I. С. 259.
[Закрыть] В 1892 году Толстой обмолвился в письме к жене: «Я помню, как я в молодости ошалел особенным, безнравственным ошалением в этом роскошном и без всяких принципов, кроме подлости и лакейства, городе» (84.168).
Через несколько лет, живя на Кавказе, Толстой вспомнил (не без повода), происходившее с ним тогда в Петербурге и в невиданные для себя сроки, за четыре дня, создал «Записки маркера». Задним числом его особенно поразила сила порочного раздвоения человека, живущего на уступе чистилище Пути.
«Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть… А как я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыли мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из грязной колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употреблю все, что есть у меня воли, – и не мог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой. Когда я был с другими, я забывал невольно свои убеждения, не слыхал более внутреннего голоса и снова падал… Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился… Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, Бог знает зачем, дано воображать человеку». И в конце неминуемый приговор столь дурно раздвоенному созданию: «Неестественное создание человек».[134]134
Убийственное с религиозной точки зрения слово «неестественное» в этой фразе по цензурным соображениям в печатном тексте заменено словом «непостижимое».
[Закрыть]
Быть может, всякое мощное эденское существо поджидает в низине Пути свой злой дух в образе конкретного ли человека или несчастного обстоятельства. Искусителем для братьев Льва и Дмитрия Толстых стал родной брат матери Софьи Андреевны, ее любимый «дядя Костя», К.А. Иславин. Братья знали его с детства, и Льва он преждевременно затолкал в низину жизни, но не смог сорвать его Путь, Дмитрия же он погубил. В «Воспоминаниях» Толстой называл его «очень внешне привлекательным, но глубоко безнравственным человеком». Он обладал особенным обаянием (напоминающим обаяние Стивы Облонского), был человеком остроумным, веселым, музыкальным и к тому же на пять лет старше Толстого. Он обольстил Льва Николаевича.[135]135
Отметим, что именно Стива, сорвав Каренина с той высоты духа, на которую он вознесся, побывав «высшим существом» у постели умирающей Анны, запустил процесс, приведший Анну под колеса поезда.
[Закрыть] «Любовь моя к Иславину испортила для меня целые пять месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему» (46.237).
«Костенька, – напишет Толстой через несколько лет, – всю жизнь пресмыкаясь в разных обществах, посвятил себя и не знает большего удовольствия, как поймать какого-нибудь неопытного провинциала и, под предлогом руководить его, сбить его совсем с толку /…/. Я говорю это по опыту. Несмотря на мое огромное самолюбие, в Петербурге он имел на меня большое влияние и умел испортить мне так эти пять месяцев, которые я провел там, что у меня нет воспоминаний неприятнее» (59.155–156).[136]136
Константин фигурировал в первоначальной редакции «Детства», но потом образ его исчез из повести. Гусев предполагал, что автору «стало уже неприятно рисовать его портрет» (Т. II. С. 359). Говорят, что Константин Иславин во второй половине жизни очень изменился, стал вполне добродетельным и добрым человеком, хотя всегда вел себя большим барином.
[Закрыть]
В отличие от героя «Записок маркера» Толстой сумел вырваться из петербургского «безнравственного ошаления» и в начале лета 1849 года объявился в Ясной Поляне, где несколько пришел в себя, увлекся музыкой и открыл школу для крестьянских детей. Но подошла зима, началась, теперь уже в Туле, прежняя жизнь. То был еще один «период кутежей, охоты, карт, цыган» (34.8). Лето 1850 года Толстой больше проводил в имении,[137]137
В это время и произошло его сближение с горничной Гашей, которую принято считать прототипом Катюши Масловой, хотя она вовсе не погибла, а много лет работала горничной у Марии Николаевны Толстой и была ее доверенным лицом.
[Закрыть] куда вернулась тетушка Ергольская. Но и при ней он «опять пустился в жизнь разгульную» (46.38), да так, что проиграл огромную сумму в 4000 рублей. Ему повезло, он отыгрался, и случай этот отрезвил его. Он решил еще раз переменить обстановку и в начале декабря 1850 года уехал в Москву. Но выбранный прежде Толстым в тупиках жизни прием перемены места перестал действовать.
В Москве он обнаружил, что «постарел и перебесился», и потому начал ставить перед собой совершенно несвойственные ему практические цели. Тут и «попасть в высокий свет и при известных условиях жениться», и найти выгодную службу, и играть, когда при деньгах. Толстого ждали еще несколько мучительных лет беспутья и всякого рода душевных испытаний. Нет уверенности, что он выдержал бы их и остался на Пути восхождения.
Пришла весна 1851 года. Через несколько месяцев ему будет 23 года. И вдруг он стал перерождаться, стал безжалостен к себе, заводит «франклиновский журнал» и ежедневно строго судит себя в нем. Пошлые цели, поставленные по приезде в Москву, позабыты. Прежнее житье неожиданно отошло в прошлое. Живет он одиноко, почти никого не принимает. Задача: «всестороннее образование и развитие всех способностей» сильного во всех отношениях человека (46. 52). Такое совершенствование еще не духовный рост, но в сочетании с раскаянием в прошедшем отчетливо свидетельствует о начале нового духовного подъема. «Последнее время, проведенное мною в Москве, – пишет он 20 мая 1851 года, – интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней». Показательно, что как раз в это время у Толстого возник замысел написать историю высокой жизни тетушки Ергольской.
Еще более указывает на духовный подъем его отношение к добру и злу. Человек, на теперешний его взгляд, не неестественное и не противоестественное, а вполне доброкачественное существо: «Добро всегда в душе нашей, и душа добро; а зло привитое. Не будь зла, добро разовьется». Отсюда: «Сними грубую кору с бриллианта – в нем будет блеск; откинь оболочку слабостей – будет добродетель». Сильный человек – это человек добродетельный. Есть сведения о том, что в это время – в марте – апреле 1851 года – он был особенно религиозен и даже писал какую-то проповедь на Страстной неделе.
Духовный подъем, который начался весной 1851 года и длился года три, нельзя считать подъемом личностного рождения, хотя бы потому, что он им не завершился и не мог по возрасту завершиться. Процессы, происходившие на этом участке Пути Толстого, более напоминают духовный взвод, который, казалось бы, был в его жизни окончен два года назад. Приходится признать, что в 23 года на Пути восхождения Льва Толстого начался второй (резервный?) подъем духовного взвода. Об этом свидетельствует и то, что к этому времени отлив первой волны Пути вполне очевидно завершился в нем. В дальнейшем будут кратковременные рецидивы, но не более того.
Но если чистилищный уступ Пути завершен, то, значит, на этом отрезке Пути Толстой изжил основной соблазн всей жизни, соблазн, который ему необходимо было искоренить для дальнейшего путепрохождения. Какой же? Не вино. И не женщины. С одной стороны, Толстой вообще не любил флирт.[138]138
«Я люблю эти таинственные отношения, выражающиеся незаметной улыбкой и глазами и которые объяснить нельзя». (1.282).
[Закрыть] С другой стороны, Лев Николаевич не был столь чувственен, как его брат Дмитрий, и с юности знал, что «сознанное сладострастье – чувство тяжелое, грязное» (1.133). Женский вопрос в жизни Толстого, как он понимается обычно, вообще преувеличен его недоброжелателями или людьми, защищающимися от стрел его проповеди целомудрия. Так карты, игра, азарт?
Что и говорить, Толстой был горячим и азартным человеком. Известен случай, когда он заигрался в шахматы, да так, что не пошел на награждение Георгиевским крестом (чего очень желал «для Тулы», как он говорил) и только поэтому не получил его. И под конец жизни, играя, он всплескивал руками, сокрушался, даже стонал, переживая каждый свой промах. Однако главный его соблазн – это не губительное искушение героя «Записки маркера», рассказа во многом автобиографического, не непреодолимый азарт игры, а другой азарт, куда более неприступный для воли – азарт успеха, то есть «соблазн тщеславия» (по терминологии учения Толстого), забота о мнении людей, от которой Толстой вполне избавился только на восьмом десятке жизни, в результате непрекращающихся полувековых усилий в этом направлении.
«Пора человеку узнать себе цену. Что же, в самом деле, он какое-нибудь незаконно рожденное существо? Пора ему перестать робко озираться по сторонам – угодил ли или не угодил он людям? Нет, пусть голова моя твердо и прямо держится на плечах. Жизнь дана мне не напоказ, а для того, чтобы я жил ею. Я сознаю свою обязанность жить для своей души. И заботиться хочу и буду не о мнении обо мне людей, а о своей жизни, о том, исполняю я или не исполняю я свое назначение перед Тем, Кто послал меня в жизнь» («Путь жизни» XVI, IV, 7).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































