Читать книгу "Тайна исповеди"
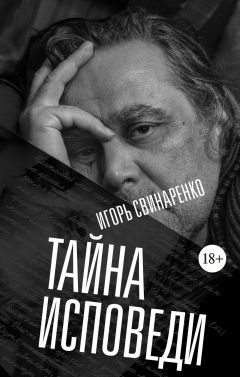
Автор книги: Игорь Свинаренко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 9. Бомбим Берлин
Гражданский, глубоко штатский, безобидный отец мой, конечно, не шел ни в какое сравнение с дедом – героем и народным мстителем. Однако ж на папашу я посмотрел новыми глазами, когда он купил мотороллер! И этим как-то себя реабилитировал, а меня приобщил к геройской мужской жизни. Техника, железо, приборы, блестящие детали, запах бензина, сладкий наркотический выхлоп, дыр-дыр-дыр, это трогательное тарахтение, и дальше – скорость, почти полет. Это была «Вятка» – в девичестве, конечно, Vespa, ну так в те времена люди иногда меняли фамилии и врали про пятую графу. Эта «Вятка» была белая, легкая, изящная, с волнующими женскими линиями, которые, впрочем, меня в те времена раздражали.
Всё вместе это было отвратительно и унизительно. Ну вот как мог взрослый человек, мужчина, вроде неглупый, да еще и офицер (запаса, но всё же, всё же!) – обзавестись такой вот белой совершенно девчачьей игрушкой, на которой можно ездить даже в юбке, как на дамском неполноценном велосипеде? Отчего было на те же деньги не купить мощный, мужской, практически военный инструмент, к которому можно и коляску с пулеметом присобачить – при необходимости? Цвет чтоб – если не армейский зеленый, то уж по крайней мере суровый черный? Даже и без пулемета и без коляски я мог бы, сидя сзади, спешить на мотоцикле куда-то на войну, заниматься важным мужским делом. В случае с девчачьей выпендрежной модницей «Вяткой» на ум приходили разве только аттракционы в парке. Чтоб на них кататься, мне надо было сперва дать себя уговорить – ну ладно, так и быть.
Но и «Вятка», она же Vespa, несмотря на всю свою отвратительно несерьезную красоту – было у девчонок такое выражение «куколка-балетница-воображала-сплетница», вот это как раз оно! – всё же дала нам, ну, мне – искомый героизм и подход, подъезд к вполне военному риску, к подвигу, к катастрофе, из которой чудом только выходишь живым, к посещению раненого товарища, который в беспамятстве и в горячке мечется по койке, растрепывая простыни, – как в хорошей крепкой военной мальчишеской книжке со стрельбой и взрывами – когда страшно хочется отомстить, да вот только нету под рукой такого врага, чтоб можно было с ним поквитаться.
Мы вдвоем – я, штурман, ну и пилот, так и быть, тоже – мчались на нашей «Вятке», которая в моем милитаристском, победа или смерть, воображении была, то есть был страшным мотоциклом, и вдруг он вильнул, как будто нас поразила фашистская пуля – мотнулся в сторону и упал на бок, ударился об асфальт. Я улетел в сторону. Дальше – шум, гам, крики, ор, отец лежит в крови, головой на бордюре, не шевелится. Я ощупываю себя, как сбитый летчик из книжки – всё вроде цело. На голове у меня был как бы летный шлем, пилотский, только он не застегивался ремешком, как положено, а завязывался бантом, там были жалкие тряпочные тесемки вместо военных кожаных ремешков. И еще одно отличие, о котором я старался не думать, ну и не думал – шлем был покрыт рыжим мехом, крашеной овчиной. Он был плотным и мягким, так что удар асфальтом по моей голове оказался слабым до незаметности.
Было ясно, что мы в тот день отправились в полет на своем штурмовике, выполнять боевое задание – но попали под вражеский огонь. Мне надолго хватило этого настроения, переживания, этого мощного впечатления – для моих игр, для военных сеансов. Этот отпечаток долго не стирался еще и потому, что посещения отца в больнице, куда он залег с сотрясением, были, конечно же, походами в военный госпиталь, где выхаживают раненых героев. Один сбитый летчик пришел повидаться с другим сбитым летчиком – простая история, нормальная ситуация, кратковременный заезд в тыл. На отдых и переформирование. (Через много лет я вступил в клуб сбитых летчиков им. Антуана де Сент-Экзюпери. Никому из нас уж не надо было проходить медкомиссию перед вылетом, и мы там бухали всласть – пока компания не развалилась; иных уж нет, а те далече – хотя до Израиля не так далеко.)
Человек по имени Юра Рыбалко, наш сосед по дому и отцовский друг, решил произвести замену в экипаже; он озабоченно говорил моей матери, замечательной в те времена пышной красавице, такой, что ей впору было сниматься в итальянских неореалистических лентах, – что в случае чего он позаботится о старом солдате (то есть обо мне), но главным образом – о ней, вдове, и каким именно образом он собирался заботиться – было видно по его масляным глазам, и еще он краснел от волнения. Я отнесся к его плану спокойно, понимая, что дядю Юру убью легко и с уколом даже щастья: он понесет заслуженное наказание, я вынесу приговор и сам его приведу в исполнение, грохну негодяя, мне не впервой. То есть на самом деле, конечно, на тот момент я был невинен и девственен по этой части.
Отец, которому в больнице я с волнением рассказал про коварный преступный замысел дяди Юры, предателя и изменника, долго смеялся, долго – до самого своего ухода на пенсию. Он после еще много лет прожил, но уж не вспоминал про Рыбалко. Тот сделал карьеру и уехал куда-то в Кузбасс – на повышение и навсегда.
Серьезно я план Рыбалко не рассматривал, был уверен, что сам смогу стать главой семьи, прям сразу причем, без подготовки. Если чего не соображу в первое время, то спрошу у деда, он подскажет, как мне быть. Будущее наше было обеспечено, денег полно: я видел в шкафу на верхней полке, куда забирался, подставив стул, – тонкую, но всё же пачку сиреневых банкнот, на которые можно было долго и счастливо жить, пока смерть не разлучит нас. Откуда в доме взялось такое несметное богатство, я догадаться не мог, да и не слишком из-за этого волновался.
Глава 10. Вторая любовь
(она же – первая платоническая)
… Соседка Ленка, с которой мы играли во взрослые игры, была не первой моей любовью. Поскольку первая, как всем известно, она такая томная и, как правило, платоническая. Так вот первой была Лена (не путать с Ленкой!), тонкая и субтильная, – в отличие от кремезной, дебелой, корпулентной Ленки. У нее была, как сейчас помню, тонкая, как бы полупрозрачная кожа, с бледно-голубыми нежными венами, которые просвечивали как сквозь папиросную бумагу. Лена смотрела на меня большими голубыми глазами, беззащитными от близорукости, с тяжелыми, хоть и детскими, очками, через линзы которых она читала ноты и разбирала их, не видя в этом, в отличие от меня, никакого такого чуда! Она легко ударяла по клавишам взрослого черного лакированного пианино: я тоже мог бить не хуже, а даже и ловчей и сильней, но у нее получался не собачий вальс для собачьей же свадьбы, не сумбур вместо музыки, как у меня – но волшебный, виляющий, переливающийся звук. Как ей это удавалось, как вроде бы нечеловечески, дьявольски сложная последовательность ударов могла уместиться в скромном по объему мозгу, в маленькой голове – я тогда не способен был понять, впрочем, и сейчас не в силах. А когда слышу небесную музыку и нигде не видно нот – чувствую себя и вовсе неимоверным дураком, и это, возможно, тот самый момент истины, которого ищешь и дожидаешься всю жизнь, а прикоснувшись к нему или только приблизившись, пугаешься и прячешься, и врешь себе, что это не истина, а так, ерунда. Ведь не может же правда быть такой обидной!
Нам было, кажется, по шесть лет ну или по семь, когда мы вдвоем с ней надолго уехали на роскошной голубой «Волге» с оленем на капоте, сняли крошечный домик на морском берегу и объедались там персиками и дынями, и еще какими-то удивительными сардельками со страшной, убийственной горчицей, которая своей яркостью выдавливала из нас счастливые слезы. Иногда средь бела дня мы с моей красавицей лежали на огромной софе, в которую превращались разложенные сиденья «Волги» с ее стремительным оленем: авто было, кстати, содрано с американской машины… (После скажу с какой.) Переднее сиденье состояло не из двух отдельных кресел, как у всех, но – представляло собой роскошный кожаный диван с кожаной же, то есть из кожзама же, спинкой. Получался фантастический комфорт и удивительный интим, такого не достигнешь никогда на обыкновенном диване, стоящем в скучной повседневной комнате.
Глупость взрослых, всякий это замечал, не знает пределов: для чего ж прозябать в квартирах, когда можно жить в автомобиле, ездить с места на место, перемещаться из одной красоты в другую и спать счастливым сном рядом с прекрасной подружкой – сегодня на морском берегу, завтра в южном лесу с пронзительными запахами, с густым, тяжелым, хоть ножом его режь, вкусным воздухом, а после еще в какой-то курортной беззаботной местности…
Мы лежали на этой автософе и шептались, иногда на расстоянии, но, бывало, что и прилепившись друг к другу, и я еле сдерживал счастливые рыдания. Видеть перед собой так близко ее лицо дивной красоты, какой я после никогда в жизни больше не встречал, – это, наверно, были лучшие минуты и часы всей моей жизни. Машина наша стояла под богатыми деревьями, в роскошном – небось, someshit'овом – лесу, на толстой, мягкой подстилке из хвои, в окна шел густой вкусный непонятный запах, запах Юга, смолы, кипарисов, шишек – всего того, чего нет в домашней, холодной, северной жизни.
Дальше я жил разве что для того, чтоб пытаться повторить, снова пережить те райские минуты, пусть даже с кем-то другой… Уж как-то, хоть как-то, хоть с легким сходством. Я не раз подумывал об окончательном решении вопроса, как это бывает с каждым, кому выпадала в жизни несчастная любовь, ну или счастливая, которая оборвалась раньше, чем подружка тебе осточертела, – но, понятно, не все в таком признаются, это унизительно, опустительно.
Да, конечно, в ту поездку нам пришлось взять с собой несколько взрослых, куда ж тронешься в путь без шофера, без кухарки, ну там, стирка-глажка, подай-принеси, еще же коробка с лекарствами, зеленка, покупка игрушек первой необходимости – двум юным любовникам (пусть даже и платоническим) без помощи никак было не осилить такую экспедицию. Взрослые – неизбежное зло, да. Надо спокойно к ним относиться и как-то терпеть их.
(Похожую ситуацию описывал Гоголь, там Тарас с сыновьями ехал по степи, и на сто верст вокруг не было живой души – а потом путники проголодались, спешились, а ехавшие с ними казаки вдруг начали варить кулеш.)
От той нашей «Волги» остался только олень, я видел его после в гараже, в ящике с инструментами, он тяжелый и прекрасный. На самом деле это был не олень, но – в оригинале – антилопа импала. В 90-е в каком-то гараже, куда я с пробитым колесом заехал на шиномонтаж, мне встретилась Chevrolet Impala. Она была того же бледного, северных летних небес цвета, что и «наша» с Леной старинная «Волга». И на капоте корабельным фигурным бушпритом застыл в прыжке наш старый верный сверкающий олень! То есть это был не он – а она, импала, которой я потом насмотрелся в Африке. Антилопа эта скакала по саванне с удивительной грацией, ну чисто как в балете. Ту Chevrolet легко себе представит любой из наших. Возьмите ГАЗ-24, распилите ей задние двери пополам и передние их половинки приварите к передним же дверям, а задние куски – к корпусу, приспустите крышу (превращая седан в купе), подшлифуйте и подкрасьте, и присобачьте на капот оленя – и вот вам Chevrolet Impala! Я уж было начал приценяться, тогда, но, прежде чем полезть за бумажником в карман правой штанины, осознал ширину Атлантики, которая отделяет меня от дома… Дело было в Пенсильвании.
О, если бы нашелся кто-то великий и могучий (как русский язык), кто б отучил детей от убийственной этой рабской покорности! Которая овладевает людьми, перевалившими за 15 годков… Они после легко и постепенно уходят в маразматическую старость. Пока никому из детей не удалось выжить, все превратились в зомби, то есть во взрослых, в моральных уродов, и тупо влачат свои дни в неволе, посреди убожества будней – как же точен термин «офисное рабство»!
Да, Лена была тончайшая, как бы хрупкая, несломанный цветок – чудом не сломанный. Она была как быстрый рисунок, ее белые носки с какими-то совершенно лишними бантиками вызывали во мне, как сейчас помню, растроганность и умиление. Девчачьи вещи, которые были на ней, – из-за ее излучения переставали быть глупыми и смехотворными, и жалкими. А становились простительными и даже немного симпатичными.
Какое щастье, что явления жизни разворачивались именно в таком порядке, я страшно благодарен за это уж не знаю кому. Дружеское совместное распоряжение гениталиями – вещь, конечно, притягательная, заманчивая, она способна скрасить пустые дни, одинокие вечера, расцветить неудавшиеся жизни. Но это слабо связано с глубинным током смыслов и потому оставляет мало шансов на щастье, которое только и возможно, когда всё чисто, когда низкое и высокое не смешиваются друг с другом, не нарушают, а, напротив, как-то поддерживают гармонию, без вражды полов – а то и сливаются, переплавляются в новое вещество с неожиданными свойствами. Это трудно объяснить, про это как-нибудь в другой раз, может быть.
Именно порядок, очередность этапов погружения в жизнь и создает матрицу на всё оставшееся время человека. Если всё делается быстро – радости от жизни не будет. Ну, сегодня родился, завтра умер – и что в этом хорошего? Словно ничего и не было. Съесть торопливо даже и роскошный обед за пять минут, давясь, – это же ужасно: ничего не распробуешь толком. Выпить три бутылки красного за десять минут и свалиться на диван, чтоб какофонично захрапеть – хоть «Шато Марго» тебе дай 1969 года (хотя нет, 1970-го, в нем солнечных дней было больше) – всё будет зря. А сесть за стол, накрытый накрахмаленной скатертью и, не торопясь, врастяжку, осуществляя transfiguration обеда в ужин, вон с этим же самым вином, да можно и с напитком попроще, не забыв, разумеется, и про аперитив, перебираться от закусок к горячему, и далее к десертам с дижестивом – это совсем другое, это иные сферы, высокие и ясные, куда даже если заглянуть – и то роскошь, это изменит твою жизнь разительно, поставив тебе прицел, который не собьется до самого финиша.
Впрочем, не только с любовью, но и с едой, такой простой вроде вещью, не всё всем понятно – большинство ограничивает себя и обкрадывает. Сравнение еды, обеда с женщинами, скорей всего, не очень удачно и мало кому будет понятно, даром что оно страшно близко к истине. Непонятно оно главным образом из-за моего казенного тяжелого языка, он стал таким от занятия унылыми науками, в которые я подался, не сумев – по ряду причин – броситься вслед за дедом, который прожил яркую роскошную жизнь, пройдя ослепительно яркий путь; впрочем, это уж другое, об этом, может, когда-нибудь позже.
Да, Лена была, скорей, нежным растением, чем трогательной зверушкой. Больше таки флорой, чем фауной. Растением – причем не холодным, но прохладным, свежим и – да, чистым. Всё должно происходить медленно, постепенно, чтоб было время посмаковать, растягивая удовольствие (тут я невольно вступаю в спор с Веничкой). Сперва это – нежный северный цветок, после – густой жизненный сок маленького, но уже проснувшегося тела, потом снова – платоническое опьянение новой девчонкой, которая была вовсе не куклой-голышом с виду, а уже раскрывающейся, просыпающейся природой, когда та оживает и сама себе удивляется, рассматривая – иногда в зеркале – свои припухлости, то ли еще детские, то ли уже далеко не. После – снова платоническое мучение, вполне, впрочем, приятное; в глубине своей натуры каждый хоть немного – мазохист. Когда новый центр желаний и жизни – в красавице, вполне уже созревшей и выпуклой, готовой к. Затянуть этот процесс перехода – вот наша задача, и тут не надо ждать милостей от природы, а лучше их от себя отпихивать изо всех сил. Отложенное удовольствие – собственно говоря, единственный доступный нам способ ощутить радость жизни. Не урвать жадно сразу всё, а – не спеша добыть щастье, черпать его малыми порциями! В грамм добыча, в годы труды – ну или как там. Это вот и есть первая любовь в чистом виде, какая случается у всех счастливых, когда приз вот он, бери! С чувством, с толком, с расстановкой. Кто возьмет сразу, тот испортит себе всё самое тонкое и роскошное, что ему может достаться в этой жизни. Ограничившись только физическим овладением. Вот он, предмет мечтаний, в твоих руках, весь вроде твой – а где ж радость-то? «Не та», – как записал в дневнике Лев Николаич наутро после первой ночи с женой, в Ясной Поляне.
Проснувшаяся, просыпающаяся природа закрыла от меня прочий мир в, пардон, Крыму, который когда-то был роскошным и ни с чем не сравнимым, и соревноваться с ним мог только Кавказ, а больше никто и ничто в подлунном мире, который, впрочем, был страшно мал – за железный забор нас не пускали же.
Глава 11. Лолита
… Кажется, первый, у кого я прочитал про такие вот жесткие предпочтения: когда увидишь девку – и у тебя от каких-то ее свойств, от черт лица ли, от роста, линий тела, от жестов, от движений, к примеру, плеча, от тембра голоса или еще какой ерунды сразу срывается в галоп сердце, – был Набоков. У него много про это. Та же Лолита – типаж, который всю жизнь тянул к себе самого писателя, прикрывшегося Гумбертом. Я много про это думал и, думая, волновался. Это было дико важно для меня! Ну, когда-то. Увы, я не успел, не смог – при Советах-то – про это поговорить с самим стариком, которого упорно держал за классика. Но зато! Я с пристрастием расспрашивал его сестру Елену, с которой мы виделись по переводческим нашим, ее и моим, делам в Женеве – она когда-то была толмачом в ООН, куда до нее нам. Я захаживал к старушке попить чаю; она жила в приличном доме на Rue Charmille, rez de chausse.
Я пытал Елену, добывая сведения про ее брата. Она была в здравом уме и твердой памяти и рассказывала, откровенно и охотно – скучно же было сидеть одной, а тут я заглянул развлечь старушку. Ее беда была еще и в том, что какие-то из гостей не могли дождаться, пока она доковыляет на своих ходунках до двери – и, прождав после звонка пару минут, уходили. Отпирает она дверь, через пять минут – а там никого. Как люди жили без мобильных? Непонятно совершенно.
Я ее всегда дожидался.
Да, так Лолита, Лолита…
Откуда ж это всё взялось-то? Из пальца высосал писатель этот сюжет? Так бывает разве? Эхехе…
Мне это хотелось выпытать у сестры. Но сначала, усыпляя ее бдительность, я ее расспрашивал вообще про жизнь. Она отвечала:
– Мы все вместе уехали в 1919-м. Мать вывезла ожерелье жемчужное, которое дало нам много денег – мы довольно долго на них жили. Сперва – в Лондоне. Там я ходила в английскую (она ставила ударение на первом слоге – английскую. – ИС) школу. Потом мы, как известно, жили в Берлине. Я там ходила в русскую эмигрантскую школу. Мой отец стал редактором газеты «Руль». А затем произошло ужасное несчастье, когда отец был убит, – ну, вы всё это знаете… После случая с моим отцом – это понятно, да? – в 1923-м мы двинулись в Прагу, потому что чешское правительство тогда чрезвычайно щедро помогало русским эмигрантам. По-видимому, это связано с мятежом чехословацкого корпуса в Сибири. Чехи как бы предали Колчака и хотели себя как-то реабилитировать. И это у них получилось замечательно. Пятнадцать лет они помогали русским эмигрантам! Давали субсидии, одежду, бесплатное обучение – и в школах, и в университете. Жили мы там неплохо… Пожалуй, мы простили чехов.
Я была замужем два раза. Оба они – русские, офицеры. Второй мой муж – Всеволод Вячеславович Сикорский, с ним я познакомилась в Праге – был штабс-капитан, артиллерист. Когда Красная Армия их победила, они выехали. Сикорский кончил в Праге русский юридический факультет. А после окончания работал кассиром в эмигрантской кооперативной лавке. Собственно, я там его первый раз и увидела. Потом мы встретились случайно в дешевом русском ресторане «Огонек», туда все наши ходили.
Почему он не работал юристом? Дело в том, что в русском университете учили старые русские законы. Мы много лет думали, что через пару лет большевики кончатся, в России наведут порядок, весь свод законов Российской империи восстановится, мы вернемся домой и заживем прежней жизнью…
А я закончила философский, но учила там в основном славянские литературы, в том числе и русскую. Закончила – и тоже работала в магазине, продавщицей. Было страшно: я безумно боялась просчитаться! А после устроилась в университетской библиотеке, это в Праге. Потом нашлось место в библиотеке ООН здесь, в Женеве – я говорю на пяти языках, это им понравилось, – и мы сюда переехали в 1939-м.
Как же им повезло – успели сбежать от немцев, от их войны, в нейтральную страну!
– Муж не работал, сидел с сыном. Он по новой профессии переводчик… Как сказать – simultanee?
– По-русски это будет – синхронный, – подсказал я и дальше плавно перевел разговор на главное, на глубинный смысл образа Лолиты. Елена рассказывала:
– Мой брат был очень красивый молодой человек, такой элегантный. Мы были с ним страшно дружны! Правда, в Петербурге мы почти не общались! Жили на разных этажах и виделись только за завтраком и обедом. А подружились страшно, когда оказались в Крыму. Мне – 13, ему – 19. Мы часами были вместе… Он меня научил…
И вот тут случилась длинная пауза. Елена, наверно, вспоминала то лето – а это не так просто, когда почти век с тех пор прошел. Пока она молчала, я вдруг поймал себя на престранной мысли… Я в эту паузу был просто этой мыслью – с кого срисована Лолита – ударен! При чем тут это? При том, что Елена в 1919-м году в Крыму была привлекательной нимфеткой – иначе, подумайте головой, с какой бы стати взрослый парень стал возиться с такой пигалицей? Это единственно возможное объяснение – она была нимфеткой… Но – недоступной, запретной, так же, как и Лолита из книжки, и даже еще больше – родная сестра все-таки. Нет смысла вслед за Набоковым повторять его (заведомо ложные) измышления про то, что сюжет он взял из головы и только из нее одной. Не, ну если и так, то в голову-то как залетела эта криминальная идея?
Я представляю себе, причем с необычайной легкостью, как это мучило его. Видение девочки, которая смотрит на него влюбленными глазами (какими же еще она могла смотреть на старшего брата, красота которого ей помнилась и через 80 лет?) – но никогда, ни-ког-да не будет ему принадлежать? Или будет – это я про набоковский роман «Ада», описывающий плотскую любовь брата и сестры.
И вот в наши дни мадам Сикорская, тогда в возрасте 92 лет, продолжает:
– Он научил меня… огромному количеству вещей… Любимая книга моя книга – из его – «Дар»! Я хорошо помню ту берлинскую жизнь. Эти описания, как он ходит купаться в Грюневальд. Боже, сколько я там раз бывала, в этом Грюневальде! У него был романс со Светланой Зиверт. Они были обручены. Но родители этой его невесты решили, что она не должна выходить за безработного. И Светлана ему отказала. Он тогда вот что написал:
Иль дула кисловатый лед,
прижав о высохшее нёбо,
в бесплотный кинуться полет
из разорвавшегося гроба?
Нет, я достойно дар приму,
великолепный и тяжелый,
всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму.
Да кто из нас в нежном возрасте не подумывал о самоубийстве? От несчастной любви? По правде сказать, лучше переживать такие крушения в нежные детские годы, когда застрелиться довольно сложно, по ряду причин. Это просто спасение, когда такое выпадает на юность! С некоторыми вещами не надо тянуть, да. Всё хорошо вовремя. Набоков про это так прямо и сказал: «Мы любили преждевременной любовью, отличавшейся тем неистовством, которое так часто разбивает жизнь зрелых людей. Я был крепкий паренек – и выжил…»
«Лолита» – иногда мне кажется, что вообще она, не вся конечно, но какие-то страницы – про мое детство. Я прям застываю, открыв рот, когда натыкаюсь на:
«Полоска золотистой кожи между белой майкой и белыми трусиками… Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка… морских далей и улыбающихся лиц… мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки. Когда моя рука нашла то, чего искала, выражение какой-то русалочьей мечтательности – не то боль, не то наслаждение – появилось на ее детском лице. Сидя чуть выше меня, она в одинокой своей неге тянулась к моим губам, а ее голые коленки ловили, сжимали мою кисть, и снова слабели…
… я, великодушно готовый ей подарить всё – мое сердце, горло, внутренности, – давал ей держать в неловком кулачке скипетр моей страсти…
Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков – морской дед и его братец – вышли из воды с возгласами непристойного ободрения… похабные морские чудовища, кричавшие „Mais allez-y, allez-y!“, Аннабелла, подпрыгивающая на одной ноге, чтобы натянуть трусики; и я, в тошной ярости, пытающийся ее заслонить…»
Они орали по-французски, которого я не знал – в детстве. А Набоков, небось, тогда знал.
И там то и дело упоминаются мимозы, сразу приходит мысль – это про Крым. Про Крым – и его сестру Лену. Когда я с ней, бабушкой-старушкой, говорил в Женеве, то всё вспоминал вопрос, который мучил покойного: куда деваются нимфетки?
Я это читаю, «Лолиту» – и мне становится не так одиноко.
«… допускаю, что вы уже видите, как у меня пенится рот перед припадком – но нет, ничего не пенится…». Это написал он, а я разве что с облегчением подписываюсь – как ставят подпись под петицией.






























