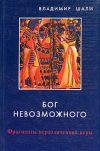Текст книги "Портулан (сборник)"

Автор книги: Илья Бояшов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
XI
Я успел оценить вестибюль перед квартирой, затем мы какое-то время топтались в прихожей – Большое Ухо нащупывал выключатель. Из тьмы коридора, запахиваясь на ходу в халат, к нам бросилась низкорослая женщина. Наткнувшись поначалу на меня, она еще туже затянула халатный пояс и обняла эксцентрика, совершенно сентиментально спрятав лицо на его груди. Наконец-то проснулись лампы; свет был ярок, как взрыв в Хиросиме; жена Слушателя оказалась передо мной словно голой, то есть я застал ее совершенно домашней. По гамбургскому счету Большое Ухо совершил преступление, не предупредив любимую о визите своего земляка. Однако дело было не в ее «тенях и морщинах» – меня сразил устремленный на мужа взгляд. Дурнушка не обращала на гостя никакого внимания, для нее существовал только любитель Мендельсона, Гайдна и Моцарта. Глаза этой маленькой серой мыши не просто горели, они излучали физически ощутимое обожание. Такая сбивающая с ног своей непосредственностью младенческая радость, такая пляшущая в ее взгляде каталонская страсть невольно заставили меня вспомнить не только свою бывшую супругу, но и пришедших ей на замену напомаженных, расфранченных подружек. По сравнению с женой Слушателя все они тлели, как болотные огоньки. Пока я стоял, озадаченный открытием, что женщины, оказывается, могут радиоактивно светиться, Большое Ухо содрал с меня куртку. Я механически двинулся за ним следом, однако был остановлен укоризненным жестом хозяина: кажется, ты забыл снять обувь!
Дюймовочка задохнулась от счастья, когда ей приказали принести «чего-нибудь закусить». Коридор утомил (я устал считать двери по сторонам). В конце концов мы со Слушателем оказались на пороге его сокровищницы. Потолок залы, которую он ласково называл кабинетцем, уходил в какую-то невероятную высь. Все портьеры были отдернуты, в похожих на витрины окнах дымилось небо 4 октября 1993 года. Трубивший о Гайдне Слушатель торопился завершить свою мысль по поводу 45-й, а я разглядывал битком набитые пластинками стеллажи. Прислоненные к ним три деревянные стремянки более походили на лестницы, благодаря которым пал Измаил. Единственную свободную стену занимал портретно-фотографический коллаж, превосходящий разноцветностью миры Кандинского и приковывающий к себе внимание своей эклектикой. Коллаж однозначно свидетельствовал о пыле, с которым Слушатель орудовал клеем и ножницами (в ходу также были и английские булавки). Хорошее зрение позволило мне сразу распознать «Могучую кучку». Поверх Балакирева и Мусоргского, закрывая наполовину их почтенные физиономии, пришпилилось фото благодушного Кюи. Бородин и Римский-Корсаков, благодаря тем же ножницам и клею, любовно прислонились друг к другу и были обведены фломастером, словно некая цель. Помещенные в центр подобного красного «сердца» Равель, Дебюсси и Бизе составляли еще одну композицию. Фломастер поработал также над Бартоком. Многое было приклеено и пришпилено наспех, словно в горячке, вкривь и вкось, однако дизайнерская бездарность Слушателя вполне покрывалась качеством репродукций. Некоторые фотографии отличались художественностью. Прокофьев (негритянский профиль) был попросту великолепен, Гедике бодр, Стравинский весел, улыбался даже Рахманинов. От одного только вида Вила-Лобоса, жизнерадостного латиноамериканца с чегеваровской сигарой в здоровых латиноамериканских зубах, гарантированно появлялся аппетит. Глаза мои, растерянные и изумленные, продолжали выхватывать корифеев, до тошноты знакомых еще по вейской музыкальной школе: Бах, Доницетти, Шуман, Шуберт, Григ, Берлиоз, Верди, Пуччини… Из современных бросился в глаза озабоченный Шнитке и ухмыляющийся Эдисон Денисов. Застыв перед коллажем, я невольно держал экзамен, к стыду своему узнавая от силы лишь третью часть лиц этого грандиозного собрания, несмотря на проведенное за фортепьяно детство. Впрочем, и трети пришпиленных и приклеенных хватило, чтобы осознать: здесь собран весь мировой композиторский паноптикум от архаичных Амвросия и Григория до курчавого Бриттена. Что касается Гайдна, дело не ограничилось его весьма недурным портретом (приветствующие меня со стены изображения Вивальди, Глюка и еще целой серии творцов галантного XVIII были лишь обрамлением этого полотна). В одну из полок втиснулось, кажется, все творчество венца, которое запечатлели в виниле оркестры, квартеты и отдельные пианисты. Брамс с Малером отметились не менее впечатляюще, занимая в общей сложности метров двадцать следующей полки, – что уж говорить о Моцарте! В то самое время, когда с московских улиц не спеша собирали трупы, Слушатель вел меня вдоль самого длинного стеллажа из всех здесь находящихся, хвастаясь собранным Моцартом и рассуждая попутно о стандарте Герберта фон Караяна, которым, как он был уверен, руководствуются в настоящее время все записывающие классику симфонические оркестры.
Существо с «закусить» вбежало и так же проворно выбежало; хрустальный поднос переливался на единственном столике всеми цветами радуги. Янтарного цвета бутылку окружали бутерброды. В специальном контейнере блестели кубики льда. Произошедшие этим утром события начисто отбили у меня желание прикоснуться к буженине. Зато, наплевав на этикет, я влил в себя целый стакан виски.
– Все-таки жаль, что в конце концов роль контрапункта уменьшилась, – продолжал зудеть Слушатель, представляя полку с Генделем. – Вот уж кто был истинным гением орнаментации! Обрати внимание на «Музыку фейерверка»!
В моей голове плавал какой-то суп. Всякий раз меня начинало трясти, когда вспоминался звон стекол, «бомм-фьють» и мертвая девица с впечатляющей дыркой, а Большое Ухо перебросил мостик от барокко к авангардному джазу с быстротой, которой позавидовали бы саперы генерала Эбле. Его удивительное мастерство по возведению подобных мостов и понтонов не могло не вызывать изумления. С языка Слушателя теперь не сходил Чарли Паркер («Вот кто первым ввел в джаз идею мелодической прерывистости и создал концепцию ритма с мысленным дроблением бита, основанную на половинках каждого бита», – заметил Большое Ухо, переходя затем к восторгам по поводу искрометной паркеровской Red Cross).
В недалеком Кремле со скрипом поворачивался государственный руль, танки на набережной все еще дымили моторами, а Слушатель уверял меня, что никто так не концентрировался на коротких нотах (восьмые в быстрых темпах, шестнадцатые в медленных), как Пташка: «Лишь Паркер акцентировал то на бит, то между битами… И вообще – ритмика его импровизаций имела своим источником чередование акцентов, их непрерывное противопоставление…»
Выслушивая этот монолог о Паркере, я по-прежнему не понимал, почему все еще торчу здесь, как загипнотизированный кролик, вместо того чтобы убраться как можно скорее из заставленной пластинками залы с ее ненормальным хозяином и его фимиамом паркеровским восьмым и шестнадцатым; почему не бегу если не на баррикады, то по крайней мере к себе, в съемную «однокомнатку» на Речном вокзале. Нет, я продолжал топтаться рядом с человеком, о существовании которого предпочел бы забыть, более того, потакал ему своим почтительным молчанием. Когда голова моя совершенно закружилась от упомянутых после Паркера итальянцев (Слушатель виртуозно перекидывал мостики), я высказал сочувственное предположение, что чисто физически невозможно прослушать все, что уже здесь собрано. Забравшийся на самый верх стремянки к Скарлатти, Корелли и Боккерини Слушатель почти из-под облаков засмеялся. Удивительно, но впервые за пятнадцать лет знакомства, именно в Москве 93-го, в день 4 октября, я услышал его смех, весьма, кстати, неприятный: какое-то «гы-гы-гы» вперемежку с кашлем. Тапки Слушателя оказались на уровне моего носа. Присмотревшись, я даже не удивился тому, что рисунок тапочной материи состоял из нот.
– О нет, нет! Возможно! Возможно! – возразил Большое Ухо. – Мои аппараты! Мои аппараты!
Он скатился со стремянки, словно марсовой с вант. Из четырех ниш между нижними стеллажами, которые я ранее и не заметил, он выкатил тележки с аппаратами. Дороговизна проигрывателей не вызывала сомнения. Это были японские «шарпы», корпусами похожие на НЛО. Приплюсуйте сюда хромированные ручки, к которым боязно притрагиваться, и укрытые колпаками из прозрачной пластмассы изогнутые диковинные тонармы, созданные для истинных небожителей. Ободранный ящик на подоконнике вспомнился мне; склеенный лентой динамик мне вспомнился. Я не успел даже ахнуть, Слушатель схватился за пульт – в инопланетных механизмах что-то щелкнуло, они заиграли. Что касается разложения частот от самой низкой до самой высокой, звук оказался невероятным, но, увы, им нельзя было насладиться. Динамики по углам залы выдали столь дикую кашу из тромбонов, скрипок, виолончелей и литавр, что я невольно содрогнулся. Слушатель улыбался блаженно. Убавив громкость, он объяснил, почему все теперь возможно.
Как бы между прочим, совершенно буднично Большое Ухо объявил – слух его изощрился настолько, что он способен теперь внимать одновременно сразу нескольким композициям:
– Поставлен букет из Восьмой «Неоконченной» Шуберта, «Вальса-фантазии» Глинки, хачатуряновского «Танца с саблями» и «Прелюдии» из вердиевской «Травиаты». Ты понял, в чем прелесть полифонического метода?
Действительно, на четырех аппаратах вертелись четыре пластинки. Я вслушивался в букет. В чем прелесть метода, я не понял. Все звучало враздрай и натыкалось одно на другое. Тем не менее Слушатель клялся, что для него нет ничего проще руками и ногами отбивать четыре ритма, что он способен «преспокойно вычленять каждую тему и отделять ее от другой». На мой вопрос, сколько мелодий за раз переваривают его уши, ответом было «пока не более десяти, но это… пока!»
Я уставился на Слушателя, думая: Большое Ухо все-таки не выдержит и расхохочется. Он действительно расхихикался («гы-гы-гы», «кхе-кхе-кхе»), однако именно такое хихиканье и похоронило надежду на то, что заявление о «полифоническом методе» – всего лишь своеобразная шутка. Слушатель потирал лапки с возбуждением мухи.
– У меня есть мечта! – воскликнул он.
Он изложил мечту. Под микс из Восьмой, «Вальса», «Танца» и «Прелюдии» я его внимательно выслушал, затем выпил еще, затем запротестовал. При всем своем уважении к его задаткам я усомнился в способности любого человека (пусть даже такого чуткого к музыке, как хозяин кабинетца) воспринимать симфонии, ноктюрны и мюзиклы, собранные в подобные букеты, без вреда для чувства элементарной эстетики, не говоря уже о психике. Постулат Слушателя о том, что если основательно потренироваться, то однажды можно собрать в своих наушниках «всю музыку мира» (он подчеркнул: «Всю, какая только есть») и насладиться ею одномоментно, я назвал настоящей чушью. Я высказал мнение: такая ересь даже технически неосуществима. На эксперимент должно уйти немыслимое количество проигрывателей, которые, ко всему прочему, придется синхронизировать (подобный опыт по плечу был разве что Говарду Хьюзу, но и тот при всем своем безумии, пожалуй бы, не отважился на него). Допустим, Слушатель и научился пропускать через себя сразу несколько мелодий и каким-то образом отслаивать их друг от друга, но его идея насчет одновременного прослушивания миллионов композиций – самая абсурдная из всех абсурдных. Кроме того, если ему и удастся скупить всех «классиков», отдает ли он себе отчет в том, что существуют бесчисленные легионы современных профессиональных композиторов, джаз и рок-музыкантов, а также просто любителей посочинять мотивчики, и количество их творений, судя по расплодившимся радиостанциям, растет в геометрической прогрессии: ежесекундно на земном шаре рождается новая мелодия. Слушатель просто не угонится за современными творцами…
Во время моего спича Большое Ухо разглядывал меня с некоторым сожалением.
– Я соберу все то, что посчитаю нужным собрать, – сказал он торжественно, – и включу тогда, когда посчитаю нужным включить. И я уверяю тебя, что года через два смогу услышать каждую тему в букете пусть даже из секстиллиона тем. Я сделаю это! Музыка мира будет звучать вот здесь, – с самым серьезным видом он постучал себя по лбу. – Она вся здесь уместится.
Вот так, ни больше ни меньше!
Однако он, кажется, успокоился. Он сжалился надо мной, схватился за пульт и убрал полифоническую абракадабру, оставив одного Глинку. Под зов контрабасов и валторн теперь уже «Арагонской хоты» он выстроил новый мост, вспоминая «Мадам Сан-Жен» Умберто Джордано с тем же агрессивным воодушевлением, которое так подавило и напугало меня в начале нашей неожиданной встречи. Пока Слушатель раскладывал по полочкам достоинства оперы, рассуждая о яркой эмоциональности автора, «вводившего в общую канву элементы фольклора», и сетуя на некоторое несовершенство музыкальной драматургии Джордано (впрочем, «оно компенсируется мастерским вокальным письмом»), я, уже совершенно не стесняясь, подливал себе. Большое Ухо не успокоился до тех пор, пока Джордано не был им обглодан до косточек. Затем он перекинулся на Меркаданте и – уже без всяких мостов и понтонов – на Вебера, позволив себе чрезвычайно фальшиво просвистать мелодию «Хора охотников». Пуловер, вельвет, гарвардский пиджак все так же кричали об удивительной метаморфозе, произошедшей с этим выходцем из самых отчаянных и беспросветных низов. Он рассуждал о романтизме; я, пребывая в пространстве двух параллельных реальностей, продолжал ему внимать. В окнах кабинетца зияло небо 4 октября, однако Слушатель нанизывал на хромовый шпиндель «блина» то Вебера, то Шумана, не замечая катастрофы. Он был верен себе, обращаясь с пластинками как с воплощением хрупкости: задерживал дыхание, вытаскивая их из конвертов, нежнейше сдувал с них пылинки (потерявшие голову юноши подобным образом дуют на завитки волос своих возлюбленных). Помещая очередной диск между ладонями, прежде чем загрузить его в чрево «шарпа», Слушатель рассматривал винил подобно ипохондрику, придирчиво и тревожно вглядывающемуся в рентгеновский снимок собственных внутренностей. Это был еще с Вейска, с того самого первого его Вареза раз и навсегда усвоенный ритуал. Более того, это было камлание, служение какому-то невиданному, гигантскому по своим размерам, головокружительному музыкальному идолу.
– Все-таки, все-таки, – бубнил хозяин кабинетца, карабкаясь на очередную стремянку, – то, о чем я говорил, вполне возможно. Конечно, я не собираюсь мучить тебя одномоментным включением, скажем, «Фантастической симфонии» Берлиоза и каприччио номер двадцать четыре Паганини, но мне ты-то можешь поверить…
Пол-литровая бутылка демократичного Kingdom 12 Year Old Scotch была мною приговорена. Благодарный хотя бы за то, что Слушатель не пытается предъявить новый букет, я выслушал чуть ли не половину «Волшебного стрелка» и шумановские «Грезы». Я помнил о Доме Советов, я все никак не мог понять, какие силы заставляют Большое Ухо вдохновенно болтать о романтизме в этот ужасный день. Проведенное на набережной утро утробно во мне ворочалось, смешались гармонь, «бом-м-фьють», философия Гайдна; я таращился на Слушателя, с ужасом думал, что с нами со всеми будет, и чувствовал, что мое раздвоенное состояние на полных парах приближается к пределу, за которым вполне может поджидать и безумие. Спиртное пришло на помощь именно в тот момент. Под журчание Слушателя о блестящем воплощении в музыке Шумана сентиментальных особенностей германского духа виски наконец-то принялось выдавливать из моего сознания канализационные люки, асбестовых милиционеров, «бом-м-фьють» и убитых девиц. Началось мелькание кадров, что и неудивительно: спасительную смесь из солода, воды и дрожжей все то время я лил на пустой желудок. Меня здорово развезло посреди пластинок и аппаратов. В два часа ночи я станцевал венгерский танец in F sharp minor – Poco sostenuto Иоганна Брамса, потом вновь воззрился на коллаж, всей кожей чувствуя – пришпиленные и приклеенные Бартоки, Берлиозы, Листы и Моцарты в свою очередь с нескрываемой жалостью разглядывают меня, несомненную жертву этого музыкального хаоса. А Слушатель все еще о чем-то пел, он залезал на стремянки, дробью сыпались его комментарии и замечания. Насколько я помню, он вновь возвратился к дурацкой идее, утверждая, что рано или поздно сосредоточит в своих наушниках всю музыку мира и прослушает ее одномоментно. Он посмеялся над моей крайней компьютерной безграмотностью, заметив, что мощному процессору под силу наложить друг на друга сколько угодно мелодий. «Но я категорически против компьютера! – тут же воскликнул. – Компьютер не может дать такое качество звука, которые выдает винил. Компьютер срезает частоты – для меня это неприемлемо. Не-при-ем-ле-мо! Поэтому остаются проигрыватели. И почему ты уверен, что мне не удастся собрать достаточное их количество?» Потом он намекнул, что не собирается останавливаться даже на этом. Сделав таинственное лицо, Большое Ухо поделился еще одной явной чушью. В один прекрасный день он собирался переселиться в лучший из миров (как он выразился, «перескочить на небо»), опять-таки нацепив наушники, под единовременный гром всех на свете музыкальных произведений. «Овладеть махасамадхи, как Парамаханса Йогананда, а затем послать всё на хрен, решительно всё, и однажды полностью раствориться в музыке, что может быть лучше?» – спросил Слушатель с каким-то хитрым прищуром. И я не знал, что ему ответить. «А я ведь могу! – сказал он опять-таки на полном серьезе. – Я могу». Он еще о чем-то бубнил, пока не застыл на стремянке под колокола «Увертюры» Чайковского. Наркотическое состояние, столь знакомое мне по Вейску, наконец-то его сразило. Он внезапно обо мне позабыл. Он отчалил. Из уголка его рта, совсем как и в детстве, когда он садился на палас возле «Дайны», потянулась слюна. Таким Большое Ухо мне и запомнился: потусторонним, остекленевшим на верхних ступенях стремянки, с глазками мутными, как болотца. А я очнулся, я воспрял, виски подтолкнуло к самому верному решению. Милосердно избавив от чувства вины, алкоголь прошептал: «сваливай», и я внял совету – моментально, безоговорочно. Я поспешил покинуть залу. Впрочем, какое там поспешил! Я просто-напросто выскочил из кабинетца самого странного на свете директора компьютерной фирмы, миновал лабиринт коридора и, уже у самого выхода наткнувшись на серую халатную мышь, которая даже и не думала хоть как-то прихорошиться, довольно быстро, как мне показалось, откланялся…
XII
После 93-го года время словно подстегнули кнутом: оно перешло на галоп. 4 октября в конце концов поместилось в один из самых забытых сундуков на моем чердаке. Конечно, при желании можно было распахнуть и его, вытащив на свет прогулку с любителем Гайдна, однако совсем не хотелось отскабливать всю эту патину, воскрешая в своей памяти человека не просто с тараканами в голове, а с целым их там гнездом. Добавлю, московские набережные и музыкальные магазины с тех пор я интуитивно обходил стороной, а при первых же звуках уличных флейт и гармошек мгновенно перемещался на другую сторону улицы.
Жизнь моя оставляла желать лучшего, свидетельство тому – работа монтировщиком сцены в одном из тех молодежных театриков, которые вытащила на свет божий вседозволенность девяностых. Руководил коллективом, или, если более точно выразиться, терзал его самодовольный тип с львиной гривой и эспаньолкой «а-ля Наполеон III», во все вникающий, во всем разбирающийся, готовый мучить дворников, вахтеров, уборщиц, гардеробщиц да и вообще всех, кто только попадался ему под руку, своими бесконечными наставлениями о том, как обращаться с каждой метлой, с каждым стулом и с каждой вешалкой. После первой же нашей с ним встречи он умудрился поселить во мне не просто уныние, а тотальную уверенность в том, что отечественный театр не имеет будущего. Но более его нервного, похожего на легкие припадки смешка, более постоянно бросаемого в разные стороны полупрезрительного «я лучше знаю, что делать» меня, еще не законченного тогда мизантропа, расстраивала непонятно откуда, из каких подсознательных глубин берущаяся готовность представителей театральной труппы – бледно-синих девиц и худосочных юношей – реализовывать любую глупость, которая только приходила в голову нашему Карабасу-Барабасу. Нужно было видеть, с каким щенячьим восторгом подхватывали лицедеи каждую бросаемую им, словно подачку, из «режиссерской ямы» идейку, с какой собачьей покорностью сносили любое оскорбительное словцо. По одному щелчку господина стадо готово было полностью скинуть с себя одежду или облачиться в немыслимые лохмотья. Натужный (опять-таки по режиссерскому требованию) актерский хохот с педалированием раскатистого «ха-ха-ха» до сих пор стоит в моих ушах. Не менее ужасен был и театральный плач. Деспот требовал «истинной трагедии» – и он ее получал. Повинуясь вождю, рабы не только плакали, но и катались по полу, корчились, замирали, отмирали, вставали на четвереньки и лакали из блюдечек. Однако «вне сцены» угодливость этих дрессированных пуделей моментально смывалась – на смену раболепству приходил поистине оскаруайльдовский снобизм. После более схожих с экзекуциями репетиций актеры часами заседали в буфете, то и дело отвинчивая пробки фляжек и подливая себе в кофе пахнущий клопами коньяк. Проделывали они это с той неторопливой важностью, которая ясно давала понять: в их дешевых китайских посудинах плещется не иначе как «Генрих IV». Невероятно легко, я бы даже сказал, виртуозно совсем еще недавно дергающиеся на ниточках пьеро преображались в цицеронов. Речам не было конца, каждый стремился выступить в роли ниагарского водопада, изливая на головы окружающих свои суждения о Брессоне, Карне и Росселлини, лопаясь от собственной значимости и готовый, словно польский шляхтич, в мгновение ока схватиться за нож или, на худой конец, за ножку стула, если с его мнением не согласятся. Подрабатывая вахтером, я имел честь до поздней ночи слушать все эти ораторские упражнения, в которых охотно принимали участие и дамочки. На сцене местные актриски напоминали оживших утопленниц: их покорность доморощенному Станиславскому била все рекорды. Однако, спустившись с подмостков, смыв грим, приведя в порядок волосы, задрапировав пуловерами и юбками места, еще совсем недавно безропотно выставленные на всеобщее обозрение, они восседали за столиками этакими лихими суфражистками, то и дело выхватывая из пачек «Голуаз» очередные тонкие гильзы, вращая их пальчиками, перед тем как заполнить свои крошечные легкие сигаретным дымом, с хлюпаньем прихлебывали коньячно-кофейное пойло и постоянно перебивали партнеров.
Усталость и алкоголь приводили к одному и тому же эффекту: к одиннадцати часам вечера реки словоблудия превращались в ручейки, к двенадцати – в тонкие струйки и к часу ночи, как правило, пересыхали. Кавалеры разбирали дам и волокли их к выходу, словно сломанных кукол. Назавтра все повторялось. Удивительно, но невыносимый тиран, сующий нос даже в дворницкую, исходящий брызгами слюны на малейшее неповиновение смотрительниц, негодующий на микроскопический беспорядок в гримерных, нисколько не препятствовал коллективному безобразию, происходившему прямо на его глазах. Стоило только закончиться очередной репетиции, он как будто сдувался, задерживаясь в зале за режиссерским столиком и перебирая бумаги с перечирканными вдоль и поперек текстами, пока подчиненные переодевались в гримерных, а после бочком-бочком пробирался мимо выпивающих юнцов в свой кабинет либо отправлялся инспектировать декорационную мастерскую. Несомненно, подобным поведением он поощрял каждодневные посиделки. Но актеры! Эти бедные, несчастные Арлекины! Они хором называли свое жалкое существование служением искусству; я же, прислушиваясь к доносящимся из буфета интеллектуальным дискуссиям, часто задумывался о странности человеческой психики, которая, явно издеваясь над тем или иным индивидом, в один далеко не прекрасный день нашептывает ему идейку «поступить в театральный», чем ввергает в ужаснейшую цепь событий.
Однако возвращусь к «генератору мыслей». Предводитель отличался той особенной, лихорадочной кипучестью, которой, как правило, подвержены самые безнадежные бездари, – его энергию не останавливали ни проклятия критиков, ни уход с премьер половины зрителей. Извращенец упрямо специализировался на классике и немало преуспел в так называемом «новом прочтении» – во всяком случае, постельное трио из Хлестакова, жены городничего и его дочери прославило нас на всю страну. Досмотревший до конца поставленную мэтром погодинскую пьесу маститый журналист впоследствии жаловался известной газете, что посещение «Человека с ружьем» было сродни походу в общественную баню. Впрочем, его брюзжание померкло перед реакцией публики на «Трех сестер», трактовка которой объединила против нас под общим знаменем, кажется, всех столичных театралов. Ответом на бешенство этой армии стал «Макбет». Готовясь к шекспировской драме, вождь сделался невменяем. Он притащил прямо в зал раскладную кровать и собственным примером перевел на казарменное положение не только труппу, но и все остальные службы, включая пожарных. Его фанатизм распространился по театру, словно гонконгский грипп, заразив даже флегматичек из бухгалтерии, теток, надо сказать, весьма информированных, так как тайком от начальника они на всякий случай предупредили всех остальных – на сей раз провал будет означать закрытие театра и потерю пусть небольшого, но заработка. Шепоток этих барышень явился дополнительным стимулом. За два месяца до премьеры, которая, судя по нескольким уже отрепетированным сценам, попахивала не просто скандалом, а настоящим катарсисом, монтировщики вповалку ночевали в одной из гримерных, урывая для сна пару-другую предутренних часов. Что касается антуража, режиссер не сомневался – его марсианские треноги из металла, пластика и полиэтилена должны произвести на зрителя незабываемое впечатление. Ползая вместе с нами на четвереньках под циклопическими сооружениями, сжимая в потных руках расползающиеся от бесконечного разворачивания бумажные листы с чертежами, он контролировал каждый замах молотка и каждое действие шуруповерта, сетуя на ненадежность своих конструкций, этих достойных соперниц Эйфелевой башни. Близкое знакомство с вейскими декорациями, которые не раз в детстве мне доводилось рассматривать, сослужило хорошую службу. Я запомнил простые и надежные крепления и предложил их использовать, присовокупив от себя идею с бревном: оно должно было раскачиваться на подвешенных к потолку канатах, являясь ложем королю Дункану, качелями ведьмам и троном кровожадной чете. Гигантский котел, в котором варятся снадобья, появился на свет опять-таки благодаря моему озарению. Помыкавшись по армейским базам, не без помощи вездесущих прапорщиков я достал экспериментальную кухню, работающую также на электричестве, нутро которой могло досыта накормить целый запорожский курень. Кухню закатили в небольшой «отстойник» за кулисами, который, ко всему прочему, служил местом отдыха. С тех пор в ее малом котле курилась дымком горячая вода для чая (поварешка всегда была рядом), а на плите можно было не только разогревать макароны (единственная пища наших горемык-актеров), но и за каких-то пять минут высушивать досуха самое мокрое белье.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.