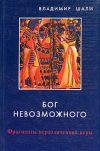Текст книги "Портулан (сборник)"

Автор книги: Илья Бояшов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
XIII
Усовершенствовав еще кое-какие детали в подъемных механизмах, я поднялся до должности начальника бригады рабочих и стал, пожалуй, единственным человеком, который имел возможность в любой момент получать увольнение в город. В то лето Москва заполнилась грозами. Небо трещало от электричества, дождь, казалось, ходил за мной по пятам, ненадолго давая себе отдых, пока я возился с чеками и коробками в ближайшем строительном магазинчике, а затем с новой силой и явным удовольствием набрасывался на новоиспеченного бригадира, стоило только мне покинуть заведение. Так как на обратном пути мои руки были заняты свертками, я оказывался полностью беззащитен и, глотая воду, проклинал грозовые чернильные пятна, упрямо висящие над головой.
В один из подобных дней, доведя актеров, осветителей и помрежа до полного истощения, повелитель судеб отпустил паству на однодневные каникулы. Ни на сцене, ни за кулисами не осталось ни единого человека – все вымерло, все разбежалось. Увы, мне вновь нужно было решать дела с декорациями, вот почему пришлось отправиться за очередными рулонами полиэтилена. Гроза, как всегда, подстерегла на обратном пути. Отконвоированный ливнем от магазина до театрального подъезда, я воспользовался воцарившимся в театре безлюдьем. Нескольких секунд хватило на то, чтобы скинуть одежду, распределить ее по плите экспериментальной кухни, придвинуть к ней шлепанцы и влезть в рабочий комбинезон. Гром продолжал рокотать. Коридор за кулисами освещался дежурным светом. Утопив руки в карманах, я решил босиком прогуляться до сцены и именно в этот вечер наткнулся на пианино, мимо которого тысячу раз ранее доводилось мне бегать. То было обыкновенное пианино, совершенно стандартное, одно из тех десятков тысяч пианино, которые, прежде чем их выкидывают, как правило, годами горбятся за кулисами столичных и провинциальных театров, кинотеатров, Домов культуры, пыльные и безмолвные, словно брошенные старики. Дежурная лампа, висящая как раз над забытым ящиком, позволила разглядеть нацарапанное кем-то на клапе неприличное слово и внушительную вмятину в левой его части. Верхняя крышка корпуса отсутствовала, виднелись часть чугунной рамы и вирбели. Филенка под клавиатурой была расщеплена. Две педальки, словно дамские туфельки, стыдливо высовывались из цокольного пола. Внезапно меня потянуло к этому инвалиду. Клап был мною распахнут, все клавиши оказались в сохранности, более того, взятая чистая октава на удивление не сфальшивила. Мажорная гамма также не выявила ни одного расстройства. Я сыграл гаммы в две октавы: звук оказался приглушенным, но настройка была на высоте. Гамма соль мажор. Гамма ре мажор. Гамма ля мажор с фа-диезом, до-диезом, соль-диезом. С этого мгновения пальцы мои стали жить своей жизнью, они проснулись, они моментально вспомнили, на их кончиках сосредоточилась память, вместившая в себя шесть лет музыкальной школы. Господи, я заиграл! Нет, конечно, не стройно, не безупречно, время от времени сбиваясь, но мои удивительные, мои фантастические, мои живущие теперь своей обособленной жизнью, совершенно независимые от меня пальцы раз за разом вновь вспоминали всё и вновь находили дорогу.
После Ave Maria и «Музыкального момента № 3» Шуберта я приступил было к Баху и невольно отдернулся от клавиатуры, словно нашкодивший школьник, услышав в один из промежутков между музыкальными фразами столь знакомый нервный смешок.
– «Сарабанда»! – воскликнул улыбающийся за моей спиной господин с эспаньолкой. – Черт подери, ну конечно же, Бергман!
Как он возник из пустоты, как подкрался, как примостился сзади, слившись с полутьмой, для меня осталось загадкой.
– Не так часто встречаешь монтировщика сцены, который играет «Сарабанду», – заметил мэтр, приглашая к разговору. – Кстати, вы обратили внимание: в фильме, как и в танце, в кадре всегда присутствует только двое – во всех десяти сценах и в эпилоге. Лично я оставил бы там только музыку Баха. Мне кажется, Брукнер – лишний. Не говоря уже о Брамсе. А вам?
Я не любил фильмы Бергмана: его «Сарабанда» не вызвала у меня ничего, кроме скуки. Однако сумрачный шведский гений оказался для нашего мастера-фломастера лишь затравкой для последующего разговора: так, он сообщил, что в детстве был в восторге от сонатин Диабелли и даже играл их в четыре руки со своей матушкой; особенно запомнилась ему «та маленькая сонатина, написанная в соль мажоре, вы, случайно, не вспомните ее?» Удивительно, но я вспомнил и даже заиграл начало – он тотчас с энтузиазмом присоединился в басовой партии, но вскоре сбился; я впервые увидел его сконфузившимся.
– Черт! – сказал он. – Слишком много времени пробежало. Слишком много времени.
Мы еще потоптались возле пианино и поговорили. Отдав дань моему музыкальному образованию, он удалился, но уже на следующий день во время крошечного перерыва неожиданно подозвал к себе и спросил, что я думаю о Большой жиге ре минор, опус 31 Иоганна Хесслера. Вокруг творился ад кромешный: рабочими собиралась очередная конструкция, несколько стражников отрабатывали кульбиты, ревела белугой играющая леди Макдуф дура, которой после четырехчасовой пытки на заставленной треногами сцене наш режиссер приказал собрать манатки и валить из «именуемого театром храма». Я честно признался, что не считаю Хесслера выдающимся композитором, и посоветовал Вагнера.
– Вагнер – последнее, что пришло бы мне на ум, – с раздражением ответил «Наполеон». – Вагнер замусолен, как старое одеяло. Меня засмеют. Здесь нужно нечто совсем уж запредельное… По большому счету потребуется не музыка…
Я догадывался, чего хочет этот неврастеник. Поставленный им полгода назад «Носорог» от начала и до конца шел под Седьмую симфонию Бетховена.
Стоило ли удивляться, что классического «Макбета» трактователь собирался сопровождать самой шизофренической ахинеей, которую только могла произвести человеческая фантазия. Кстати, об ахинее!
– Варез! – крикнул я, перекрывая визг включившейся «болгарки».
– Вы думаете?
– Здесь нечего думать!
– Хорошо! – крикнул он. – Хорошо. Мы вернемся к нашему разговору.
XIV
В кабинете, в который меня пригласили уже через несколько дней, подпирали собой стену два волосатика-звукорежиссера с серьгами в ушах. Единственное кресло напротив массивного режиссерского стола занимал заведующий литературной частью. Пока я ждал конца совета у двери, утопающий в кресле коротышка и нависающий над ним режиссер спорили о Глюке и Хиндемите, бодаясь, словно два азартных бычка. Завлит стоял за Глюка, «генератор идей» с пеной у рта, которая вызвала у меня тревогу, отстаивал Хиндемита. Все это напоминало перетягивание каната, вены на висках у обоих нешуточно взбугрились, звукорежиссеры с интересом следили за поединком, однако валидол не понадобился.
– Идите к дьяволу! – рявкнул наконец Карабас. – Убирайтесь на хрен со своим «Орфеем». Никакого Глюка здесь и быть не может, кто угодно, только не Глюк.
Его оппонент развел руками, а тяжело дышащий «мастер интерпретации» неожиданно признался:
– Знаю, что и Хиндемит не подойдет: слишком плавен, слишком торжественен. Прокофьева – к черту! Свиридова – к черту! Кого тогда?
Он схватил со стола бумагу, с нескрываемой горечью зачитал вслух внушительный композиторский список, а затем скомкал ее. Весь вид нашего льва говорил о том, что он натолкнулся на стену.
– Я должен еще и подыскивать музыку, – пожаловался он собравшимся, которые на это милое замечание только хмыкнули. – Я должен часами просеивать кандидатуры. Да! – вспомнил обо мне. – Что вы там говорили насчет Вареза?
Я открыл было рот, но царственный хам не дал мне ответить. С совершеннейшей беспардонностью, которая присуща корчащим из себя гениев охламонам, он тут же от меня отмахнулся (жест был женственен; жест был капризен) и вновь набросился на коротышку в кресле:
– Глюк своим облезлым романтизмом наводит тоску!
Еще одним царственным жестом я был отпущен и удалился с полной уверенностью в том, что тема с Варезом закрыта. Однако подобные типы ничего не забывают: неделю спустя при возвращении из строительного магазина я был пойман дважды – поначалу грозой, а затем, в вестибюле театра, спешившим мне навстречу шефом.
– Бросайте свои рулоны, – приказал зануда. – Оставьте их здесь. Их никто не тронет. – Ему ровным счетом было плевать на мое смущение по поводу мокрой одежды. – Садитесь, садитесь, черт с ним, с сиденьем, есть кое-какие наметки, – рявкнул он, когда я замялся было возле его машины.
Я едва успел пристегнуться, он рванул с места в галоп; серебристая, словно рыбка, режиссерская «хонда» ответила визгом шин, чудом не влетев в поребрик на повороте.
– Варез, Варез, Варез! – твердила «эспаньолка». – Вы правы! Нас ждет одно интересное место! Нужно проконсультироваться, вы побудете рядом.
XV
Еще на битком забитой автотранспортом Плющихе, выслушивая речь Карабаса о неком оригинале, с которым он жаждет меня познакомить («знатный специалист по Варезу, черт подери, я забыл, как его зовут»), я начал что-то смутно подозревать, однако рвал сомнения в клочья, надеясь – «славный парень», на встречу с которым мы так торопимся, не имеет ничего общего с моим прошлым. Я тешил себя иллюзиями, что речь идет об очередном любителе авангарда, тем более мы направлялись прочь от Замоскворечья. В конце концов, мало ли почитающих Вареза меломанов обитают в двенадцатимиллионном муравейнике? Мало ли директоров компьютерных фирм посвящают свободное время прослушиванию концертов Эллиота Картера? Всю дорогу режиссер урчал о том, что «следует основательно проконсультироваться именно у этого деятеля», радовался, что его «так удачно свели с ним толковые люди», и уверял меня, что «сотрудничество с ним принесет театру несомненную пользу… Ну, а вы будете моим консильери!» Без конца восхищаясь «парнем», Карабас свернул на «более пустое в этот час» Волоколамское шоссе. Несмотря на то что машина выкатилась из столицы, мое напряжение самым удивительным образом нарастало. После Красногорска у меня вообще, как говорится, засосало под ложечкой. Я молил Бога, чтобы пронесло, с какой-то обреченностью продолжая уверять себя в том, что Барвиха – это охотничье пристанище прежних генеральных секретарей и нынешних президентов – не то место, где можно столкнуться со старым вейским знакомым. Мы проехали десятки улиц с сотнями внушительных особняков, у некоторых ворот я видел хозяев и каждый раз с замиранием сердца надеялся, что завернем именно к ним, однако резвая «хонда», проскочив все эти варианты, примяла лужайку перед домом, который, судя по огромной бетономешалке, штабелям тротуарных плит, валяющимся там и сям доскам и отсутствию ограды, был только что достроен и даже на фоне сверхэлитных построек выделялся своими размерами. На ведущей к суперкоттеджу лестнице меня и моего начальника встречал человек, с которым я не желал бы столкнуться ни при каких обстоятельствах. Хотелось обвинить глаза свои в аберрации зрения, но то был Слушатель, запахнувшийся в яркое, слишком яркое, невыносимо яркое кимоно. Да-да, то был он собственной улыбающейся персоной. Он разглядывал меня своими поросячьими глазками.
– Пятьдесят! – как ни в чем не бывало крикнул мне Большое Ухо. – Теперь пятьдесят!
Я топтался внизу на сочной травке. Я готов был рвать волосы на голове, укоряя себя за неосторожный совет. Я окончательно возненавидел Вареза. Вновь сверкнуло, рокотнуло и пролилось – туча и здесь не оставила в покое, поистине это была туча Фантоцци, но на этот раз не осталось сил проклинать еще и хляби небесные. «Эспаньолка» сопел рядом, несколько оторопев от экспансии, с которой хозяин дворца приветствовал скромного монтировщика сцены. Слушатель наконец-то спустился, подхватил нас, опешивших, под руки и под громы и молнии повел наверх, продолжая обращаться ко мне с покровительственной фамильярностью. Так, на первой ступеньке этой ведущей к особняку версальской лестницы я узнал, что он возвел гигантское бунгало «по собственному проекту»; на второй – что «совсем недавно сюда перебрался» («Каковы сосны, брат! Каковы здесь сосны!»); на третьей выслушал отчет о процветании фирмы. На четвертой, последней, Большое Ухо принялся хвастаться букетом теперь уже из пятидесяти композиций. Разглядывая возбужденного Слушателя, пропуская мимо своих ушей его бред об упражнениях, которые «всего лишь за год привели к невероятному результату», я пытался объяснить очередное столкновение с ним только невероятным стечением обстоятельств, еще более удивительным, чем та встреча на Краснопресненской, и чувствовал фальшь всех своих объяснений. Между тем Карабас не собирался отмалчиваться. Перебив хозяина с нетерпеливостью, которой вообще отличаются все театральные режиссеры, он переключил внимание на себя – и сделал это поистине виртуозно. Прежде чем Большое Ухо взялся за массивную дверную ручку, лев завел разговор о предводителе банды авангардистов композиторе Пьере Булезе, пожурив последнего за «Молоток без мастера» – вещь, по мнению Карабаса, в авангардном отношении недостаточно продвинутую. Одного этого замечания хватило, чтобы Слушатель не на шутку раскочегарился. Добрые полчаса мне пришлось топтаться на пороге жилища только потому, что и того и другого схватил настоящий словесный понос. Оба словно попали под электрический ток и дрожали от возбуждения, подобно зябнущим собакам. Удивительно, но не терпящий возражений мэтр нисколько не обиделся, когда его критика Булеза была оборвана не менее невоспитанно. Затем вспыхнул спор о «божественном, неповторимом» Варезе, и только после того, как дождь начал доставать нас и под козырьком, общение продолжилось в пахнущем штукатуркой холле, а затем еще на одной лестнице, не менее широкой, чем предыдущая. Шизофреники останавливались на каждой ее ступени, чуть ли не хватая друг друга за грудки, и все эти их бесчисленные остановки попахивали вечностью. За час мы добрались лишь до пролета между первым и вторым этажами, где я оставался молчаливым свидетелем того, как обоими анатомами препарировалось содержимое «Танца для Берджесс» и «Электронной поэмы». Кимоно моего вейского знакомого фосфоресцировало своими переплетенными драконами даже в полутьме коридора, в котором мы наконец очутились, оно светилось, словно куртка дорожного рабочего. Признаюсь, то был нехороший цвет.
Беспокойство, завладевшее мной еще в машине, и не думало ретироваться. Время от времени Большое Ухо подмигивал мне, повторяя одну и ту же мантру («пятьдесят», «пятьдесят», «пятьдесят»), чем удивлял своего тоже, признаться, не совсем здорового собеседника. Он был как-то особенно возбужден. «Упражнения» явно не шли ему на пользу.
Мы проползли коридор, распахнулась сокровищница – музыкальный склад Слушателя своими ярусами вполне мог бы поспорить с фонотекой республиканского значения. Обшитый деревом зал опоясывали нижняя и верхняя галереи. Уже знакомые лестницы, приставленные к забитым пластинками шкафам, приглашали к штурму. Коллаж (фотографиям и картинам отвели внушительный участок стены) еще больше расширился: насколько я мог заметить, он пополнялся с все той же торопливой небрежностью. Лев с восхищением рассматривал венецианские колоннады. Хозяин торжествовал. На какое-то время они заткнули свои фонтаны и разбрелись по углам капища, оставив меня возле знакомого столика, где на подносе в окружении бутербродов красовался все тот же спаситель – Kingdom 12 Year Old Scotch. За витражными окнами надрывалась очередная гроза. Всполохи и тяжелые шаги грома над крышей этого собора действовали на нервы, вновь ничего не оставалось делать, как пить. Пока я, наполнив первый стакан, отхлебывал из него, «интерпретатор классики» интересовался содержимым одной из бесчисленных нижних полок, а Большое Ухо наверху подбирал Вареза. Не в силах долго молчать, они принялись кричать друг другу из своих углов. Вытаскивая одного за другим Бертуистла, Веберна, Лигети, Мессиана и вслух приветствуя каждого, гривастый гений задал моему торжествующему однокласснику совершенно естественный вопрос:
– Почему бы вам не загрузить все это в компьютер?
– Никогда! – кричал Большое Ухо, перевешиваясь через ограждение галереи. – Слышите, никогда! Компьютер – безобразие. Там начисто срезаются нижние и верхние частоты. Я должен насладиться настоящим звуком. Компьютер не даст мне такого звука. Мне нужно качество – разве компьютер даст истинное качество?
Я знал, что он скажет дальше: он не мог оставить занятия, которым неизлечимо заразился еще в детстве (чего только стоил собранный под тахтой винегрет из пластинок! чего стоило дрожание его пальцев, когда у меня в гостиной он разворачивал свои газетные свертки!). Большое Ухо прокричал, что компакты, конечно же, не идут с пластинками ни в какое сравнение. Слушатель готов был привести тысячи примеров превосходства винила над цифрой. «Пожалуй, и я начну собирать! – кричал ему Карабас, рассматривая диск Поля Дюка. – У меня кое-что осталось!»
Большое Ухо сбежал с галереи. Варез – целая стопка дисков – был прижат к его животу. На нем были все те же «нотные» тапки, правда, весьма потрепанные, однако, судя по всему, для Слушателя они являлись неким талисманом, с которым он явно не желал расставаться. Хозяин схватился за пульт. Подзабытая Ionisation моментально разворошила мою память, явив переминающего с ноги на ногу несуразного подростка с желтым конвертом. Качество звука привело Карабаса в восторг. Под раздающиеся, казалось, отовсюду звон и треск режиссер вытащил блокнот и принялся рассчитывать продолжительность первого и второго актов будущего спектакля. «Добавьте туда песни Веберна, – кричал Слушатель, перекрывая рев Ionisation. – „На берегу ручья“ и „Нагое дерево“, а также начало Второй кантаты!» – «Нет, нет, здесь должен быть Варез, я хочу добавить „Пустыню“!» – орал режиссер. Они постоянно орали. Им нравилось орать. Занятый подсчетами лев не замечал лихорадочности, с которой Слушатель перемещался по залу, подбегая то к полкам, то к столику и заговорщически мне подмигивая. Он явно желал вернуться к своей идее фикс, жаждал при первом удобном случае схватить меня за шиворот и с головой окунуть в свой больной, изломанный, потусторонний мир, в котором сам он давно уже уютно плавал, словно зародыш в материнской утробе. Зная, что рано или поздно Слушатель затронет тему, я отчаянно торопился напиться, однако, как всякий благородный напиток, Kingdom 12 Year Old Scotch ступал неспешно, словно вельможа, не желая набивать мою голову спасительной ватой. Ionisation немилосердно звенела. Большое Ухо не убавлял громкости. Я глотал виски, я готов был удариться в панику. «Пятьдесят!» – прокричал Большое Ухо, в очередной раз ко мне приблизившись. «В третьем акте пойдет „Гиперпризма“», – изо всех сил вопил Карабас. «Возьмите „Экваториал“! Орган и терменвоксы составляют отличную компанию!» – орал ему хозяин. В этот момент невероятной яркости молния, словно дерево, прилипла к дому, на секунду покрыв окна ослепительной паутиной всех своих корней. Атмосфера стала не просто мрачной – она сделалась угрожающей. Kingdom 12 Year Old Scotch предал меня – никогда еще я не был так безнадежно трезв. «Что посоветуете, консильери? Что вам нравится более всего?» – кричал мне режиссер. Более всего мне хотелось бежать из этого бедлама, пусть даже во Всемирный потоп, оставив этих двух сумасшедших наедине с непременными атрибутами варезовского творчества – включившимися пожарными сиренами. Однако в итоге бежал не я. Карабасу внезапно «приспичило», по его просьбе «Электронная поэма» была остановлена. «Прямо по коридору! Никуда не сворачивайте!» – кричал ему хозяин. Судя по всему, Карабас все-таки заблудился, и страхи мои сбылись. Стоило только режиссеру исчезнуть, Слушатель приблизился к столику с тем самым нездоровым огоньком в глазах, который еще там, на пороге, меня так нешуточно обеспокоил.
– Я приготовил! Пятьдесят! Пятьдесят! – брызгал он слюной.
Черт подери, он действительно приготовил! Он заранее собрал весь этот микс и каким-то образом сумел спрятать в зале пятьдесят проигрывателей. Описать то, что разрывало мой слух на протяжении последующих десяти минут, – занятие не из легких. Пока «интерпретатор» искал уборную, здесь, в проклятом зале, в свои кларнеты, валторны и тубы задули сразу три тысячи дьяволов, завизжали сразу четыре тысячи скрипок и пять тысяч рогатых барабанщиков забили в барабаны с остервенелостью куми-дайко. Одновременное звучание пятидесяти композиций затмило собой даже варезовскую «Поэму» – Скрябин, возможно, и пришел бы в восторг от такого кощунства, но для моей психики это было слишком. Пока я судорожно напрягал все свои силы, чтобы не повалиться на пол, не заткнуть уши, не скорчиться, не замереть в позе эмбриона, Большое Ухо испытывал настоящее удовольствие. Не знаю, что за гармонию улавливал он в тысячеголосом реве, однако свидетельствую – Слушатель был поистине счастлив, когда поведал, что «помимо других присутствующих творцов, в букете находятся Гризе с Шёнбергом, а к ним добавлен еще и Моцарт». Какофонию, в которой участвовал Шёнберг, не могло бы спасти даже Allegro con spiritо тридцать пятой моцартовской симфонии, однако Слушатель уверял, что прекрасно слышит ее, как слышит каждую нотку, каждую фразу «Пролога для альта и, опционально, живой электроники» Жерара Гризе.
– Парамаханса Йогананда! – кричал он мне, полумертвому. – Я еще раз готов подтвердить: это только начало! Шёнберг! Лигети! Малер! Да я спрячу их всех в свои наушники! В обыкновенные наушники, клянусь Богом! Вот в эти. – Он тотчас сунул мне под нос действительно самые что ни на есть обыкновенные, видавшие виды, потертые, поцарапанные Sony, словно заранее их приготовил. – Я смешаю и Грига, и Шёнберга! Вся музыка будет здесь! – Он тряс наушниками перед моим носом и вновь стучал себя по лбу. – Здесь она соберется, здесь уместится, вот в этом пространстве между моими ушами. Если пятьдесят композиций, пятьдесят переливающихся музыкальных бриллиантов производят такое впечатление, – несомненно, он был уверен, что невыносимый визг, в котором он «улавливал каждую нотку», обязательно должен был произвести впечатление и на меня, – каково же вместить в себя единый поток? И почему бы тогда не овладеть махасамадхи? Почему бы не раствориться? Почему не сделаться духом, имеющим только слух, но слух мировой, слух вселенский, и ничего, кроме слуха? Зачем болтаться по эту сторону бытия, если есть возможность перешагнуть на ту? Мое дурацкое тело, мое ненужное тело, мое жалкое тело пусть остается здесь. – Он театрально топнул. – Пусть оно здесь и валяется, и пусть могильные черви делают с ним все что хотят. В один из прекрасных деньков, включив все это, – он показывал на полки, – вместив все это в себя, я уйду, точно так же, как ушел Парамаханса Йогананда, – до безобразия просто! Сделаюсь волной и буду пребывать в музыке, пока существуют все эти диски и оркестры, наигрывающие Бартока, Шумана, Берлиоза и великого Генделя! А они – эти бесчисленные диски, оркестры, группы, квартеты, квинтеты, хоры – звучат постоянно, двадцать четыре часа в сутки, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, достаточно включить любой приемник. И они будут звучать еще сто тысяч лет, пока не погаснет Солнце. Но открою тайну – есть еще и оркестры светил, есть симфонии звезд и оратории целых галактик, и все это вечно звучит, и все это вечно играет! Понимаешь меня? Understand?
От Слушателя во все стороны сыпались искры. Под истошный вой пятидесяти оркестров он взахлеб поведал о своем визите в Непал, об изнурительных практиках в каком-то чертзнаетгденаходящемся ашраме, о пещерах, о благословениях учителей, о будущем превращении (когда ему удастся выполнить задуманное, когда вся музыка мира в его наушниках зазвучит одномоментно, он обязательно это сделает!) в такую же радостную волну, в какую вернулись после освобождения от собственных тел все эти Рамакришны, Вивекананды, Шри Ауробиндо и Йогананды. Мне пришлось изображать самое искреннее, самое преданное внимание: а как еще оставалось себя вести? Он был вне себя. Я боялся, что он вот-вот треснет меня своими чертовыми наушниками. Я по-прежнему ни на секунду не сомневался в невозможности сделать то, о чем он грезил, но на этот раз не пытался возразить. В подобных случаях время чрезвычайно замедляется: пока Карабас опорожнял свой мочевой пузырь, Слушатель на удивление многое успел. Прежде всего, этот музыкальный извращенец поселил во мне искреннее удивление перед самой непознаваемой и самой таинственной на земле субстанцией – человеческой фантазией, способной конструировать столь необычные и причудливые химеры, как эта, которая прочно засела в его воспаленном мозгу. Валторнисты и скрипачи кроили и резали мою душу, барабанщики делали из нее прелестную отбивную, а Большое Ухо кричал, что через несколько лет сведет воедино около полумиллиарда записей (он уже подсчитал их), а затем овладеет махасамадхи – и тогда прощай, мир. «Господи, – думал я, – Милосердный, Всеблагий Господи! Видно, я здорово перед тобой провинился, если Ты мучаешь мой слух мешаниной из Шёнберга и Гризе. Помоги же мне, ничтожному представителю избранного Тобою народа, порази молнией провода, отключи электричество, пришли, наконец, сюда свирепый отряд СОБРа! Пусть хоть кто-нибудь остановит его и заткнет все эти валторны и скрипки, иначе я не выдержу…» Здесь-то затылком я и почувствовал присутствие Карабаса. Вернувшийся режиссер слушал фантазера с самым искренним вниманием. Лев явно готовился прервать исповедь, он был готов к прыжку, я и не сомневался, что болтун вот-вот обрушит на Слушателя свои познания в области медитативных практик, изольет все свои соображения по поводу Рамакришен и Вивекананд, – и оказался прав. Когда, возбужденно пощипывая кончик эспаньолки, мэтр все-таки влез, я уже знал, что делать. Я оставил двух деятелей развлекать друг друга побасенками о пути аштанга-йоги и под предлогом посещения туалета просто-напросто свалил от них, прихватив с собой виски.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.