Текст книги "Пламя судьбы"
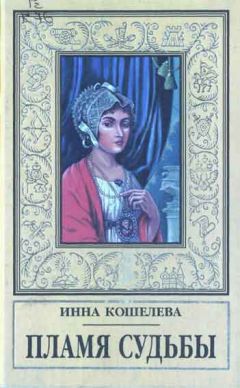
Автор книги: Инна Кошелева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
12
Параша переменилась после болезни. В новом своем жилище – в собственном дворце – уже не устраивала «светелку», а обживала его по-господски, не гнушаясь роскоши. В выборе картин, скульптур, безделушек вдруг проявила немалый художественный вкус, а в переделках – склонность к ярким решениям.
Она по-прежнему не стремилась появляться в свете и быть на виду, по-прежнему терпеливо ждала графа, отбывавшего на балы и приемы. Ее не пугала «соперница» – стареющая Голицына с бородавчатым лицом. Прочие «невесты» тоже совсем не трогали, и она не прочь была провести вечер в одиночестве за лютней, вышивкой или за книгой. Впрочем, у нее появился свой круг, и часто, когда в большом Шереметевском дворце собирался высший свет, к ней приходили братья Аргуновы с добродушным толстым архитектором Гонзаги (итальянец не больно разбирался в российских сословных премудростях, а живая и умная Паша, так славно болтавшая на его родном языке, ему очень нравилась).
Теперь она охотно позировала Николаю Аргунову, признанному и модному в Москве мастеру, члену Российской Академии художеств. Глядя на друга детства, она понимала, как изменилась за эти годы сама. Ничего не осталось в нем от прежнего крестьянского парнишки – салонный аристократ: и рубашка под блузой тонкая, из батиста, и шелковый дорогой галстух обвивает высокую гордую шею. Умное, нервное лицо, живые карие глаза, сильные, но холеные руки артиста, художника. Аристократ, да и только. Портреты он делал замечательные, но, что тоже важно, сеансы давали им возможность поговорить о «своих» – о людях искусства, людях одаренных, придавленных гнетом неравенства. Аргунов был женат на даме из не слишком знатного, но богатого рода. Мужчине его «низкое происхождение» прощалось легче. И все-таки он, как и Параша, жил в чужом стаде и всегда – под страхом унижения, вынужденный ему постоянно противостоять. Они были ровней, и это толкало их к взаимному доверию и откровенности.
Встречаясь глазами при встрече, кланяясь друг другу, живописец Николай Аргунов и певица Прасковья Ковалева всякий раз осознавали: они связаны своим крепостным прошлым. Будь Параша кокеткой, она сумела бы обнаружить во взглядах этого глубоко симпатичного ей человека и мужской жадный неудовлетворенный интерес. Но для нее он был другом, умным и образованным другом, с которым хорошо, хотя и не очень легко.
В своем дворце Параша устраивала музыкальные вечера. Здесь исполнялись новые произведения Дегтярева и Бортнянского. Их большой свет не слишком жаловал, предпочитая итальянских и французских сочинителей, а ведь Дегтярев и Бортнянский были очень талантливы. Всегда откликались на приглашения артисты из театра Медокса, расположенного неподалеку, и при небольшом усилии можно было быстро составить домашний концерт и петь, петь, петь – что еще ей было нужно?
Впрочем, ей был нужен он, любимый. И чем больше времени они проводили вместе, тем больше нуждались друг в друге.
В будний день с утра при хорошей погоде граф и Параша в легкой карете отправлялись в ближние вотчины с ревизией. Все ближайшие к Москве имения они быстро привели в порядок. Где-то пришлось приструнить управляющего, ретиво набивавшего собственные карманы, где-то вместо барщины ввели оброк, где-то заменили зерновые посевы овощами, и легче стало получать доход, не вгоняя крепостных в нищету.
Лишь в одну усадьбу граф всегда ездил один или с Вороблевским – в Кусково.
– Туда – никогда, – ничего не объясняя и помрачнев лицом, сказала Параша однажды.
Зато все Кусково, кажется, она перетащила в Москву. Вместе с подружками и актрисами театра приехала Матреша. Она замечательно пела низким голосом и в дуэтах отлично вторила Параше. В кордебалете тоже была незаменима – пластичная и ритмичная. После рядом поселился батюшка, брат Николай был принят в хор, под Парашиным приглядом рос младший брат Мишутка. Переживала Паша, что из-за болезни не хочет жить в городе любимая матушка, но сама к ней не наведывалась ни разу. «Туда – никогда». Как сказала, так и было.
Разве что после смерти душа ее все же повлеклась к тем местам, где начинала страдать и крепнуть на земле женщина и актриса. Тогда с небесной высоты дано ей было увидеть подросшие тополя. Ветер, летевший от Мурома или от Владимира, пробегал по верхушкам, и листва, потемнев, становилась похожей на зарубцевавшуюся рану земли. Затихал порыв – и серебрились, сияли облитые лунным светом недолговечные деревца.
Годы брали свое. Переступив сорокалетний рубеж, Николай Петрович не погрузнел, седина не пробилась в его русые мягкие кудри, но круг его интересов заметно сузился.
Роль засидевшегося жениха так опротивела графу, что он предпочитал отговариваться от приглашений на рауты и балы, ссылаясь на недомогания. Старые холостяцкие связи рвались: друзья остепенились, завели жен и детей. Позвать к себе он мог лишь тех, кто понимал его привязанность к Параше, а таких было немного. Все чаще любящие проводили вечера вдвоем.
Что ж, домоседство? В нем есть свои прелести. Паша скучать не умела и одна, а с графом – тем более. Но вскоре она поняла, что не все в их жизни так просто, как казалось. Все чаще она обнаруживала в Николае Петровиче сходство со старым графом. Как и Петр Борисович, Николай Петрович привязывался к вещам, занашивал их до дыр. Все чаще он не переодевался с утра, бродя по дворцу в пыльном шлафроке и стоптанных шлепанцах. Вместо выдуманных для отговорок болезней у него появилась настоящая, отнюдь не романтическая болезнь малоподвижных людей. В деревне ее зовут почечуем, Лахман на европейский лад величал геморроем.
В библиотеке в одной из книг Параша случайно нашла недописанное письмо графа другу юности Щербатову. Взгляд выхватил невольно: «Скучно жить, с годами – все скучнее...»
«А как же любовь?» – думала Парашенька. Разве кто-нибудь из героев французских романов, которых она прочла великое множество, скучал рядом с любимой женщиной? Но в тех же романах, не прямо, правда, а между строк, говорилось: женщина способна жить одной любовью, мужчина – нет. С ней же рядом был мужчина, который провел бурную молодость. Дальние путешествия, театр, любовь, карты, дуэли, азартные забавы, балы, надежда на славу. Ни одна женщина, в том числе и она, не могла заполнить образовавшуюся пустоту – из-за нее образовавшуюся! Ее долг состоял в том, чтобы прокладывать путь к полноте жизни.
Безотказно наполняло ее душу обращение к Богу. Граф тоже был религиозен, но скорее ритуально, и лишь в тяжкие дни молитва действительно поддерживала его. А в прочие... Жизнь его шла своим путем и не соприкасалась с Небом. В отличие от Параши он не любил каждый миг сверять свои мысли и поступки с вечностью, а в литературе более всего ценил не серьезность и романтизм, а изящество, остроумие, блеск. Дидро, Даламбер, де Лакло лежали в его спальне, а не Фома Аквинский и не Димитрий Ростовский. Удовольствие от чтения было сродни удовольствию от прекрасной пищи, которую пробуют на вкус, цвет и запах.
Одно время Параше показалось, что его могут захватить добрые дела. В Маркове в избе грязной и черной они оказались потому, что услышали с улицы страшный крик ребенка. Мать металась в ужасе над выгибающимся дугой младенцем, приговаривая: «Родимчик, родимчик! Умирает!» Параша с восхищением смотрела, как ловко граф ощупал мальчика и, надавив слегка около уха, поставил диагноз: воспаление. Тут же кучеру было велено привезти из аптеки камфарного масла, Николай Петрович ловко сделал компресс («Как учили в Лейдене!»), и младенец утих и заснул прямо в его больших и умных руках. К малышу приехали еще через пару дней и убедились – здоров. Мать с отцом получили от графа немного денег, а село – свою больничку.
Впрочем, больницы и школы для детей, обучавшие музыке и грамоте, они открывали в ту пору часто. Под нажимом своей спутницы Николай Петрович отдавал приказы в свою контору: «Завести школы в Останкине и Кускове», «Во всех вотчинах открыть школы и богадельни». По прошествии времени ехали проверять, выполняет ли графский указ тот или иной управляющий. Там, где барское распоряжение было примерно выполнено, крестьяне благодарили, бухались Шереметеву в ноги, целовали ему руки, и на глазах Николая Петровича выступали счастливые слезы. Но... Тем и кончалось.
Всякий раз, предлагая снова навестить недавно отстроенную лечебницу, помочь больным, Параша слышала что-нибудь вроде:
– Меня бы кто подлечил.
И вместо того чтобы двигаться, заваливался Николай Петрович в глубокое кресло, дремал и... скучал. Это ложилось виной на нее. Выход из внутреннего тупика в их отношениях искала она. Она была в два раза моложе, она любила. И так уж сложилось: в этой паре она ведет, а он – ведомый, хотя внешне это выглядело совсем иначе.
Ох уж эти мужчины! Если бы в ее власти было осуществить тщеславные и суетные мечты графа о славе и власти! Как вспыхивают его глаза, когда речь идет о разных государственных делах, не зависящих от него. С заседаний Сената он возвращался оживленным, готов был часами обсуждать с друзьями новые указы императрицы. Но Паша ясно видела, что карьеры ему не сделать – слишком мягок, слишком порядочен и слишком... музыкант. Разбросан, поддается сердцу, нерасчетлив. И в то же время душа графа жаждала деяний масштабных, заметных в свете. Она напряженно искала для него (а значит, и для себя) достойную цель.
Ей было уже за двадцать. Следовало бы сказать – еще только за двадцать, но прошедшие годы были столь наполнены счастьем, страданием, несбывшимися и сбывшимися желаниями и поисками, что за два десятка лет она словно прожила несколько жизней. Природный ум при благородстве натуры обратился в ту мудрость, которая вовсе не сводится к расчетливой, хваткой хитрости, хотя использует и ее.
Она знает, что делать. Но как это свое знание сделать его знанием? И чтобы желание к действию родилось в нем, а не исходило от нее? Навязанное отторгается.
Тосковал и томился скукой граф. Но именно он спросил однажды Парашу, почему скучна она.
– Милый, доктор разрешил мне петь. Так хочется...
– За чем же дело стало? Собирай друзей.
– «Самнитские браки» не споешь на маленькой сцене. (О Кускове речи не шло, но мечты о большом современном театре кусковским детищем для графа не исчерпались.) Моя Элиана ждет меня.
А заодно рассказала, как тоскуют без репетиций актеры, как забывают они свое ремесло, ленятся, спиваются.
– Да, – согласился Николай Петрович, – зал на Никольской так мал, что и впечатление теряется, и голос не звучит. Не стоит и затевать, позорить Шереметевых. Надо строить.
Надо строить! Это ли не цель? Это ли не дело? Тем более что планы составлялись грандиозные. Не просто театр, как, скажем, у Голицыных (хотя тот и большой, раз в пять больше Шереметевского на Никольской), а дворец искусств – с художественной галереей, с кабинетами нумизматики и старинного оружия, с музеем «натуральной истории».
– Дар отечеству от Шереметевых, да, Пашенька?
– И какой дар! Отечество вас не забудет.
Общая мечта сближала их не меньше, чем общая жизнь.
Всякая стройка, как известно, начинается с проекта. Граф собрал целую группу иностранных и русских архитекторов для его создания. Задача ставилась не простая – встроить в какой-либо из московских шереметевских дворцов новую современную сцену, большой зрительный зал. Увы, городские усадьбы были тесны, а сносить почти новые дома было безумием.
И тогда было решено – Останкино. Останкино, данное в приданое матери Николая Петровича князьями Черкасскими. Останкино, которое, как и Кусково, было близко к столице. Граф решил: Кусковская усадьба останется для истории памятником батюшкиного тщания. Прекрасный день, но вчерашний. Он же начнет свое, новое дело. Шереметев-младший жаждал удивления и восхищения, жаждал проявить свое знание и вкус. И, конечно, размах.
– Потомки будут благодарить вас, – поддерживала его Параша.
Графа больше интересовало восторженное одобрение современников. Понимая это, Параша добавляла:
– И нынешняя знать почтет за пример.
Настоящее, крупное дело отодвинуло на задний план все проблемы, с которыми раньше не могла справиться Параша. Она и граф просыпались с мыслями о том, что надо успеть за день, и засыпали, подводя итоги сделанного.
Как только Ивар прислал планы зала и сцены в Гранд-опера, граф сразу собрал совет: рядом с известными во всей Европе Кваренги, Кампарези, Бренной, Баженовым сидели свои, крепостные архитекторы Аргуновы, Миронов, Дикушин, художники, замечательные умельцы-лепщики, резчики, кузнецы, механики. Все, кому предстояло проектировать новый театр и этот проект воплощать в жизнь.
При том, что Останкино было селом немалым, место, которое занимал старый дворец, было ограничено с фасада прудом, сзади парком, с боков – флигелями. Не развернешься, надо тесниться, не отказываясь от задуманного.
Удивительную идею предложил свой, шереметевский крепостной Федор Пряхин: совместить театр и зал для балов. Для этого надо было сделать разборный пол, который будет скрывать зрительские скамьи. Архитекторы набросали эскиз: в обычном состоянии танцевальный зал предлагался ассиметричным, вытянутый овал переходил в прямоугольник, обрамленный колоннами. При необходимости прямоугольник легко превращался в большую сцену – около двадцати пяти метров в ширину, около семнадцати в глубину. На колоннах специальными приспособлениями, предложенными все тем же Федором, будут крепиться задники, кулисы, декорации, занавес. Пол же в овальной части зала, по общему мнению, можно будет разобрать за полчаса, обнаруживая «утопленный» под ним амфитеатр. Возвышающуюся балюстраду решено было превратить в ложи для хозяев и знатных гостей – для этого требовалось совсем немного: закрыть на время спектакля двери в галереи, анфилады гостиных и кабинетов.
Пряхин легко разобрался, как устроены в Париже машины «для грома», «для пролетов по сцене», и взялся их сделать, применяясь к местным условиям.
Словом, образ будущего театра на совете сложился сразу. Высокое купольное здание театра решено было пристроить ко дворцу Черкасских сзади.
После этого все проектировали свои – Миронов и Дикушин, а строительство вел Павел Аргунов. Но в отличие от других строек, эта была постоянно в поле зрения самого графа. Теперь во дворце на Воздвиженке часто собирались люди, причастные к новому детищу Николая Петровича. Компания единомышленников – не светский раут, и Параша хорошо себя чувствовала в ней, среди «своих». Естественная, живая, доброжелательная, она радовалась происходящему и радовала всех, чем могла, по первой просьбе соглашаясь петь, танцевать, снова петь. Силы ее прибывали от одной мысли, что театр – их с Николаем Петровичем театр – будет!
Здание было закончено в 1792 году. Самое трудное осталось позади, и теперь все занимались делом приятным – украшали обновленный дворец.
Граф с Николаем Ивановичем Аргуновым закупали работы для художественной галереи и сделали много удачных приобретений. Особенно хороши были гравюры Пиранези и скульптура. Жанровая сценка в мраморе Кановы «Девушка и петух» и Фальконетов «Прометей, терзаемый орлом» сделали бы честь императорскому Эрмитажу Но самое большое восхищение (а иногда и зависть) в новой коллекции вызывала «Козочка», изваянная за сто лет до новой эры и недавно отрытая в Помпеях. О тайне этого города в южной Италии, погибшего в один миг и засыпанного пеплом Везувия, столько говорилось в светских гостиных именно в это время! Мода и вечность сошлись в этой прекрасной скульптуре. Параша могла бесконечно любоваться незатейливой, но грациозной фигуркой домашнего животного: копытца, рожки – все, как у тех козочек, что она видела не раз, и все – чудо, все – гармония, все – искусство.
Люстры делали на своих, российских фарфоровых и стекольных заводах. Мебельные гарнитуры не заказывали, а подбирали в других шереметевских вотчинах, повинуясь живому вкусу, настроению момента и фантазии. Здесь Параша была незаменима. И Кваренги, и Аргунов полностью доверяли ее чутью и тому чувству ритма, которое было ее сутью, ее природой.
Удивительным и неповторимым, ни на что не похожим получалось Останкино. Несовместимое в нем совместилось и слилось, как в союзе графа и крепостной, зрелости и юности. Дворец был и роскошным и теплым, и торжественным и домашним, и таинственным и открытым в одно и то же время. И еще: был он очень живым, одухотворенным, ибо сюда несли свое вдохновение многие люди, объединенные одной мечтой, одной целью. Чего стоят те маленькие чудеса, которыми делились с потомками и современниками создатели Останкина! Что говорить о громах и молниях, которые Пряхин сумел извлечь из металла механическими молотками – чуть-чуть искуснее, чем в Гранд-опера той поры, и все. А вот паркет в пунцовой гостиной он сделал такой, какого до него не бывало в мире. Каждая дубовая пластина по бокам охватывалась рейками из сосны и красного дерева, а посередине дубового квадрата выкладывался цветок из светлой березы. Березовые волокна в наборных лепестках направлены одни вдоль, а другие поперек, и от игры света зависит, кажутся они светлее или темнее. Идущий по паркету видит перед собой «вспыхивающие» удивительные цветы.
Немало таких удивлений ждало каждого останкинского гостя. Самое большое из них – Парашино пение. Она уже начала репетиции своих любимых «Самнитских браков». Голос после болезни не только не ослабел, но, напротив, окреп, а пережитое еще расширило гамму выражаемых чувств.
Как она пела в ту пору! Как ждала открытия невиданного «Дворца искусств»! Помимо желания успеха для графа ее вела вперед и эта жажда – жажда петь.
Когда все идет хорошо, самое время ждать беды или, в лучшем случае, нежелательных перемен. И они пришли.
...Что-то случилось среди ночи – услышала Паша за окнами крики, лай собак. А дальше и вовсе стук в дверь. Тревожно вскинулась, трудно сразу понять со сна, что к чему.
– Николай Петрович! Милый! Беда!
И граф проснулся не сразу.
– Что ты, душенька? Спи.
Но тут и до него дошло: шум не ко времени. Вскочил, подошел к окну. Вгляделся – дождь со снегом, мелькание фонарей, мельтешня.
– Почему, однако, беда, Паша?
– Добрые вести ждут рассвета, плохие на быстрых крыльях летают.
Параша едва успела скрыться за полог, как в спальню ворвался офицер.
– Ваше сиятельство, поручик Васильчиков прибыл к вам спешно по высочайшему распоряжению.
Приблизился к графу вплотную, но Параша все же услышала:
– Павел Петрович требуют вас в Петербург.
– Императрица?..
– Я выезжал – была еще жива, но...
– Ах, братец, – не смог сдержать радости граф и обнял посланца. – Чай, еще других надо оповещать, не держу.
А когда вестовой ушел, обратился к Параше:
– А ты, душечка, говоришь, что вести плохие.
Но Параша уже истово молилась перед иконой, и Николай Петрович услышал: «Господи, прими рабу Твою Екатерину...» Граф засмеялся:
– Добавь – «грешную рабу»...
– Все грешны, и мы ей не судьи.
– Всему, однако же, есть предел. Разгулу, лицемерию, лжи, капризам... Предел, за которым трудно сожалеть об ушедшем. А ты говоришь, Пашенька, плохая весть...
За разговором граф уже собирал какие-то бумажки, книги.
– Если бы ты знала, сколько раз мы с наследником мечтали о времени, когда можно будет воплотить в жизнь идеи чистые и справедливые, переделать все, перестроить, навести порядок. Вот и пришло... На пятом десятке моей жизни.
Жалко его, как жалко! Подошла к графу, нежно обняла:
– Годы не помеха, а помощь в добрых делах. Но... Отчего так тревожно, милый?
– Душа чует разлуку... Уезжаю.
Вскрикнула, словно подбитая птица, кинулась ему на шею.
– Как? Сейчас? В ночь? Не останетесь до утра? А как же Останкино? Как театр? Все дела начатые?
Ответа она не ждала, ответ и так знала.
– Распорядись, – сказал, но видела она, что мысли его далеко.
– Как же? Как же так... все? – удивлялась и, не понимая, страдала.
– После... После когда-нибудь. Я нужен. Призван. С меня в юности брали слово. Там, – рукой показал наверх, – я смогу сделать больше. Те замыслы, что мы выращивали с тобой в затворничестве, пересажу на просторное поле. Чтобы не только наши шереметевские крестьяне вздохнули, но и другие. И театр чтобы не только мы вперед двигали, но все государство.
– Если бы... – вздох Параши был печален, но она уже смиренно собирала мелкие вещицы для Николая Петровича: булавки, флаконы с кремами и одеколонами – и все это складывала в дорожный несессер. – Скажите, у Павла Петровича добрая душа?
Не ожидал граф такого вопроса, да и не по вкусу он был ему почему-то.
– Хм... В детстве он был добр и доверчив. Наш общий учитель Панин сеял высокие идеалы. Затем... Русская Семирамида, та, что держит сейчас ответ перед Господом на смертном одре, умудрилась разочаровать его в людях, внести ему в душу подозрительность. «Утешила» Павла после смерти его первой жены, отдала ему в руки письма покойной Натальи к любовнику. Бросила сына в ад. Тот замкнулся, озлился на весь мир. Но с новым браком ожил, – последнюю фразу Николай Петрович произнес неуверенно. И тут же, словно ему надоело уговаривать самого себя, оборвал дальнейшие разговоры на эту тему – Впрочем, речь мы ведем не о том. Там, наверху, другие измерения, властители живут по другим законам.
– Нет, – возразила Параша, – законы людские везде одни. Нет ничего выше чистой души, выше добра, выше Бога.
Но граф уже не слушал ее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.






![Книга Пламя любви [Ночное пламя] автора Кэтрин Харт](/books_files/covers/thumbs_100/plamya-lyubvi-nochnoe-plamya-58874.jpg)

































