Текст книги "Пламя судьбы"
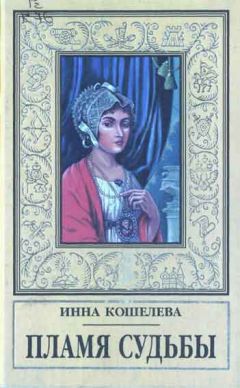
Автор книги: Инна Кошелева
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
– Не надо... Такое...
Ночью убежала из флигеля девчонка, ошеломленная недобрым словом. Во дворец возвращалась любящая женщина, готовая отстаивать свое чувство.
Она возвращалась именно во дворец, чтобы занять место, однажды ей предложенное, но отвергнутое из робости и из предрассудков. Она шла босиком. И вел ее, обняв за плечи, защитник, мужчина, муж Николай Петрович набросил на рваное, мятое, в пятнах крови серо-розовое платье свой дорожный кафтан, и шел граф спокойно, не сторонясь ничьих взглядов.
Впрочем, утро было совсем раннее, мало кто видел их, а кто видел, был так поражен увиденным, что и не знал, как это понимать.
7
Николай Петрович уложил Парашу в свою огромную, похожую на библейский ковчег кровать, и сделал это с нежностью любящего отца и старательностью умелого слуги. Отодвинул тяжелый полог, чтобы легче дышалось. Обрядил девочку в собственную ночную рубаху, в которой она утонула. Подоткнул под бока одеяло и с особым тщанием укутал запыленные ножки.
Лечь рядом он не решился, ощутив внезапную робость перед детской свежестью и непонятностью того явления, которое звалось Парашей. Заснуть он даже и не пытался. Сел в кресло напротив.
Параша спала. Легким и ровным было ее дыхание. Она лежала в его постели, и ему захотелось оградить ее от всего, что может на нее нахлынуть и унести детский покой ее тела. Какая жалость в нем к маленькой хрупкой Паше! Он любовался черными локонами, спутавшимися с белоснежными кружевами, смуглым румянцем, четким рисунком скулы и тонкими пальцами без украшений, чуть отодвинувшими от лица одеяло.
Удивительна зоркая сила чувства! Из будничной невнятицы дел и отношений мир вдруг выступает в такой отчетливости... Граф отмечал про себя: это запомнится. И это – тоже. Небывалая легкость во всех мышцах, лай приблудной собачонки под окном, бой часов и еле заметное покачивание от ветра тяжелой занавески. Впервые после детства, после раннего юношества через все обстоятельства он пробился к самому себе, и будто кто-то написал в мозгу: «Все идет как надо».
«Такого у меня не было, – думал граф, – не было. В этом моем состоянии я не выделяю телесного наслаждения. Вся жизнь стала радостью, неразделимы плоть и дух, все едино, всё – душа. Мне так же нужно смотреть на тебя, как и ласкать...»
Он смотрел и не мог насмотреться.
Самое счастливое утро графа было и самым несчастным, потому что наплывали и другие мысли, ввергавшие в отчаяние.
«Господи, как странно расставил ты людей на этой земле. Души близкие, а судьбы далекие. Все, что произошло, не может иметь продолжения в реальности. Так уж устроено общество, что не признает моей ответственности перед ней. Я – ее господин, и только. Кто о ней позаботится? Кто ее защитит?»
Он ждал и боялся Парашиного пробуждения. Ее сон был продолжением другого – того, что в мыльне, в лесу. И только теперь она сможет понять, что произошло.
Однажды он видел случайно, как она молилась в кусковской церкви. Она верит, верит безоговорочно – это было видно сразу. Да и разговоры их часто сворачивали к Нему, к Господу. Граф не встречал натуры более религиозной. Что, если обрушится на нее ужас греха? Что, если она возненавидит того, кто ввел ее в грех?
Что ж, может, оно и к лучшему? Мелькнула трусливая мысль об отъезде, о разлуке. Разлука заставит забыть все, обрубив те узлы, которые нельзя развязать. Он всегда предпочитал рубить узлы, а не развязывать...
Но в легком ее сне было столько доверчивости! Он не мог обмануть эту девочку. И, вздохнув, – приходилось действовать – пошел к батюшке.
Петра Борисовича он застал в постели. Клевретка Аннушка, видимо, еще не успела доложить о ночных похождениях сына. И это было удачей: следовало сообщить «новость» до того, как гнев захватит безудержную натуру отца полностью. Начал с главного:
– Отныне Прасковья Ковалева все-таки будет жить во дворце и пользоваться многими правами супруги, поскольку пользуется любовью моей и уважением.
Непривычная твердость прозвучала в заявлении. Ни сомнения, ни истерики – одна решимость. И как только старый граф попытался что-то сказать (возразить, разумеется, не согласиться же?), наследник перебил его:
– Предупреждаю, батюшка, что речь идет о моем мужском достоинстве, и коли вы не учтете этого, я вынужден буду резко переменить жизнь, покинуть нашу вотчину и поселиться с девицей лицом частным и незаметным в одном из селений, отошедших мне после смерти матушки.
Только этого не хватало! Сын и так не радовал старого графа участием в общественных делах. И вот сейчас, когда подошло место директора Московского банка и почти есть высокая договоренность быть сыну выдвинутым в сенат... Сейчас, когда он вошел в здравые лета, такой скандал...
Грозно взметнувшиеся было ко лбу густые брови старика бессильно опустились.
– Не наигрался? Я соглашусь до поры... Ради девицы, заслуживающей самой доброй участи... Пока не перебесишься. И другим прикажу ее не донимать.
Николай Петрович взял с одеяла старческую узловатую руку и поцеловал.
– Не в священном я, чай, сане, – растрогался, вдруг Петр Борисович.
– Для меня в священном.
– Только, – крикнул вдогонку уходящему сыну старик, – только не очень ее показывай. Чтобы все здесь, в Кускове, и кончилось.
Окрик вернул сына от двери.
– Прячь и в Кускове... Лет ей мало. Недавно высокий Совет при императрице одного дворянина осудил за связь с тринадцатилетней. Думай!
...Дверь в спальню Николай Петрович открывал так осторожно, что Параша не проснулась. Словно не он, а кто-то другой коснулся ее лба губами, сдул с чистого лба темные завитки. Встрепенулась и резко, сразу села на постели. «Матушка...»
– Здесь ты, у меня, Пашенька...
Встала навстречу и кинулась ему на шею. От первого прикосновения снова оба переполнились желанием.
Она была на пике первой чувственности – самой острой, пробуждающейся, настойчиво ищущей выхода. Он давно не был прыщавым неумехою и, несмотря на силу чувства, владел собой. И потому уже в эту близость они познали те глубины сладострастия, к которым иные возлюбленные идут долгие годы, а иные так к ним и не приходят до конца жизни.
В миг передышки, в миг исполненного влечением покоя, он спросил то ли ее, то ли Господа:
– Почему? Зачем это? Что с этим делать?
И она поняла. И ответила тихо.
– Значит, надо. Узнаем... Потом... А сейчас просто...
Просто отдаться этому счастью, этому доверию, теплу, этому прикосновению ее потрескавшихся горячих губ, ее рук, таких легких и таких печальных в тихом движении по его телу.
Но все кончается. И когда она снова села, опершись о подушки, он услышал такое детское.
– Я боюсь. Я думала – смогу... Но... Я не выйду туда, – кивнула на дверь. – Но... Но... Я... Я хочу есть, – лицо ее стало растерянным и жалким.
– Тебя не посмеют обидеть.
Она представила, как встречается с лакеем Никитой... С графом Петром Борисовичем! С калмычкой Аннушкой! С милой княгиней Долгорукой! Последнее было так стыдно, так страшно, что Параша зажмурила глаза.
– Но выйти придется, Пашенька! Ты же актриса. Представь себя моей невестой, супругой.
– И в этом случае не очень удобно.
– Ты права, и в этом случае девицам свойственно смущаться после первой ночи. Постарайся сыграть роль... Ту, что предписана тебе небесами, хотя и запрещена людьми. Здесь, в Кусково, эти люди будут молчать, понимаешь? Я ведь рядом.
В ней что-то менялось на глазах.
– Могу я попросить вас приказать Шлыковой принести мне одежду? Платье... Последнее парижское... Туфли к нему. И прочее...
В столовую она вошла твердо, опираясь на руку Николая Петровича, и все сидевшие за столом на несколько минут потеряли дар речи. Стройность и прекрасная осанка словно добавили ей роста, горящие щеки сделали лицо ярким. При каждом движении вспыхивал синий шелк платья, подчеркнувшего стройность стана и открывшего плавную линию плеча. От Параши исходило ощущение спокойной уверенности. Так могла войти в семью богатая аристократка, облагодетельствовав жениха своим согласием на брак.
Общий поклон... Особый – глубокий – старому графу, еще один – Марфе Михайловне, невольно округлившей и без того круглые глаза. Параша села, выпрямив спину, развернула салфетку, быстро задвигались в ловких руках тяжелый серебряный нож, тяжелая вилка. Ела она с явным аппетитом.
А над столом повисла неловкая тишина. Только молодой граф нарушал ее, предлагая Параше новое блюдо.
Было ясно: долго так жить они не смогут. Просторен Кусковский дворец, а никуда не укрыться от осуждающих и удивленно-любопытствующих глаз приживалок, старой дворни, знавшей еще матушку Николая Петровича... Сильно болеющий и вечно раздраженный батюшка заводил при Параше разговоры о знатных невестах. Сестра молодого графа Маргарита (сводная – по батюшке, рожденная от крепостной) не упускала случая упомянуть о прежних привязанностях Николая Петровича и перечислить внебрачных его детей. Горестно вздыхала при встречах Долгорукая, жаждущая и не решающаяся задеть щекотливую тему. Калмычка Аннушка рассуждала о достоинствах других актрис, отличавшихся скромностью и примерностью поведения.
Даже в спальне при закрытых дверях молодой граф и Параша не чувствовали себя свободными. Отыграв на людях свою роль «почти супруги», в опочивальне девочка сжималась, не могла скрыть своего напряжения. И хотя она ничего не требовала и ни о чем не просила, часто все кончалось нервной лихорадкой, жаром.
С той же несвойственной его натуре решительностью, с какой он повел разговор о Параше с батюшкой, Николай Петрович начал перестройку старой бани. Той самой... Не дворец, но прекрасный и светлый большой барский дом вскоре вырос на подступах к усадьбе. Звался он по-прежнему – «Мыльней».
Где и поселиться любящим, не насытившимся друг другом, как не здесь, вдали от всех и вся, вдали от голосов, от запахов кухни, от подглядывающих, подслушивающих и осуждающих домочадцев?
Изнеженный красавец, знавший Париж с его утонченными утехами, достигший вершины своей мужской силы, одухотворяющий свою последнюю и единственную любовь, но в то же время вкушающий ее во всех чувственных тонкостях – в деталях, в полутонах, – совсем не случайно выбрал место для совместной жизни с возлюбленной – «Мыльню», затерянную в Кусковском лесу, спрятанную от глаз домашних и гостей, овеваемую лавандовыми ветерками и сохранившую стойкий запах распаренного дерева. «Мыльню», которую он на европейский манер украсил мраморными розовыми ваннами. Ванны бросали светящиеся блики на смуглое гибкое тело девочки-девушки, делая его вдвойне живым. Их, эти ванны, изобрел чувственный Восток, чтобы выявить все, что заложено в плотских радостях. Рим одухотворил их, воспев телесную женскую и мужскую красоту.
В этом потайном жилище граф создал привычный интерьер. Любимые копии обожаемого Тициана были перенесены сюда из основного дворца. Шандалы, люстры, шпалеры и прекрасные безделушки тоже имелись в полном наборе здесь, в новых покоях. Разрезной нож из слоновой кости на письменном столе, ониксовое пресс-папье. В кабинете много книг – Вольтер, Дидро... В музыкальном кабинете – и клавесин, и виолончель, и гитара для Пашеньки. Николай Петрович хотел и Парашину половину обставить в том же «господском» духе, но она неожиданно воспротивилась.
– Я сама...
Увидел и поразился. Из всех комнат она заняла одну, точь-в-точь повторив убранство своей комнаты в актерском флигеле. Бог ты мой! Крестьянская девичья светелка. Образ Богоматери в красном углу. Ольховый старый комодик, небольшой сосновый шкаф для одежды. Затрапезные серые занавески на окнах и подзор на узенькой кроватке. Подзор деревенский, может, ею самой и связанный.
– Пашенька, – спросил Николай Петрович, – тебе это больше нравится?
– Меньше. Но это мое. То, что положено судьбою. Изображать барыню перед теми, – кивнула в сторону усадьбы, – я еще могу. Но перед вами?.. Вороне рядиться в павлиньи перья? Смешно. Здесь я такая, какая есть.
И он был здесь самим собой.
Когда он покидал «Мыльню», уезжая в Москву на очередной бал или по делам хозяйства, то надевал на себя не только фрак или камзол, но и личину делового, ловкого, расчетливого знатока жизни, каким он вовсе не был.
Он возвращался в Кусково, в свой дом, и становился добрым и романтичным человеком. Этот человек не ушел в небытие вместе с юностью, а продолжал жить в нем. В светелке его ждала женщина, которая была не только всегда ему желанна, – он доверял ей больше, чем самому себе.
Его многое поражало в ней, и прежде всего странная зрелость души, жившей в юном теле.
– Ты, Пашенька, будто не в первый раз на этой земле, – часто повторял граф.
Но все это можно было объяснить и без мистики. Целыми днями она читала, играла на любимой своей арфе, размышляла, склонившись над рукоделием. Набирала знаний, умений. Росла.
Графу приходила в голову мысль, что он обкрадывает Парашу, лишая обычных в такие лета удовольствий. Кто из молодых женщин согласится жить без пылких ухаживаний, на которые щедр был век? Без танцев, без интриг, без многолюдных сборищ?
Но на все расспросы она отвечала, что не просто счастлива, а счастлива вполне, и ей нечего просить для себя у Господа.
Господь посылал им бурные ночи и ровные дни. Впервые рядом с графом была женщина, которую он хотел бы назвать женою, но не мог даже думать об этом. Никто среди тех, кто окружал Николая Петровича, не захотел бы понять, как возникла самая мысль о таком браке.
И потому за порогом «Мыльни» он расставался с душевным покоем. Все, кроме дома, затерянного в зарослях, несло ему неразрешимые проблемы.
Он на четвертом десятке жизни – и не женат. Бездетен. То есть дети у него, а точнее, от него были. Те младенцы, которых рожали время от времени крепостные девушки, были здоровы и часто милы, но глубоких и подлинно отцовских чувств не вызывали. Он их не бросал на произвол судьбы, не обрекал на крестьянскую нищету, но и не привязывался к ним ничуть, потому что с молоком матери впитал истину аристократов: настоящий сын тот, что является наследником, настоящая дочь – наследница. Мужчина должен прежде всего думать о судьбе родового состояния, не давать волю всяким там сантиментам, агукая над слюнявым малышом.
Жизнь перешла вершину, а он не славен, как полагалось Шереметеву. Даже не самое завидное место управляющего Московским банком все еще «висит». Он вынужден унижаться перед молодым дураком – фаворитом Екатерины Платошей, просить о содействии. Тот обещает, но...
Он, наконец, не сумел доказать нужность своих театральных хлопот и заслужить признание высшего общества. «Тем хуже для общества», – так он обычно отвечает на упреки, батюшки по этому поводу, но, оставшись наедине с собой после разговоров на эту тему, впадает в панику: жизнь проходит, жизнь почти прошла, а чем он отчитается там, перед Высшим Судией?
Только рядом с Пашенькой мучительные мысли отступали...
Параша тоже совсем не случайно основную часть прекрасного летнего времени проводила в дальней комнате, в четырех стенах. Как только она покидала «Мыльню», ударяла людская недоброжелательность и зависть, словно хлыст – внезапно и больно.
Таня Шлыкова не раз сообщала, что актеры и актерки рассказывают пришлым людям, кусковским гостям о ней, о Параше. Показывают на нее пальцами: «Видите, вон гуляет «царица». То графская полюбовница». Подучивают: «Идите, спросите, откуда она и кто».
Однажды пятнадцатилетняя девочка услышала грязную ругань – кто-то из зарослей прокричал; «Эй, барская барыня! Скажи-ка, а где живет Кузнецова дочь? Того горбуна, которого проезжий цыган наградил Парашкой? Где она, эта крепостная продажная девка?» Бежала в «Мыльню», оглядываясь: слышал кто иль нет?
От подружек отдалилась, чтобы не вздрагивать от их явных и скрытых колкостей.
Параша пыталась понять природу злого и столь распространенного чувства зависти. Почему окружающие ее люди не завидуют, скажем, настоящей царице? Екатерине? Никто, наверняка никто не считает, что той меньше досталось счастья, чем ей, погрязшей в грехах и сложностях отношений. Просто богатым и знатным, тем, кто наверху, «положено». С этим все мирятся, потому что боятся власти. Но если кто поднимет голову из «своих»... Не опасных и даже слабых... Рабы, желающие быть рабами и держать близких в рабстве...
Иногда подступала обида на возлюбленного. Почему даже не пытается оградить ее от болезненных ударов? Конечно, если она пожалуется на мальчишку Петьку или на актрису Аньку, он их накажет. Но и само это наказание будет новым унижением для нее.
Впрочем, думать дальше в этом направлении не давала любовь. Бог ты мой, она каждый день видит его, слышит его, целует его! Да разве это не то, о чем она мечтала, сколько помнит себя?!
Парашино новое положение дало ей новую точку зрения на мир и на человеческую натуру. Многое ей открылось и отозвалось в ней печалью.
Барин разрешил видеться с родимой семьей, когда хочется. Но хотелось не так уж часто, потому что и родные не хотели щадить ее душу и ее честь – как жалкие рабы, торопились извлечь из всего выгоду.
Сколько просила батюшку меньше пить – куда там! О долгах его сообщали другие. У того полтинник на пропой занял от ее имени, у того рубль. Не жалко ей, да стыдно. На виду она у всех недоброжелателей. Рады они всякому напоминанию о «той грязи», из какой она вышла в «князи».
Брат Афанасий не лучше. Первый был во всех кулачных боях и драках, а как появилось решение управляющего сдать буяна в солдаты, прибежал к сестре – спаси от рекрутчины. Спасла.
Даже кроткая, вечно больная матушка то и дело присылала к Параше Мишутку не без корысти. То Матрешу просила взять под крылышко – нездорова, ни к чему не годна, кроме пения, то Николку, чересчур шустрого и озорного, умоляла определить дворовым мальчиком и положить ему жалованье.
Для себя ничего не просила Параша у любимого. Никогда. Чем подчас его даже огорчала. Ломала себя, если приходилось хлопотать за своих Николай Петрович, чувствуя это, выполнял ее просьбы тут же.
– Ах, Пашенька, экий пустяк...
Не было между ними двумя ни тайн, ни обид. Будто начертали они круг и встали в него – чур, все дурное, чур! Прочь беды, что за невидимой линией!
Но мир наступал на них со всех сторон – уж и вовсе спиной к спине, защищали они свою любовь. Того и гляди собьют их с ног, разлучат, разбросают в разные стороны.
8
Как только схлынуло первое опьянение любовью, молодой граф вернулся к делам. Он достраивал и перестраивал любимое свое Кусково, но все больше жаждал испытать себя в ином, не вотчинном масштабе. Сильное чувство давало сильную же энергию к действию. Желание утвердиться не только в глазах батюшки, но и во мнении всего общества росло день ото дня. Как пойдет его государственная служба? Способен ли он сделать карьеру? Конечно, театр – всегда радость, он для души. Но хорошо было бы доказать, что и другие поприща ему под силу... Он с нетерпением человека, уже во многом опоздавшего, ждал решения о назначении его директором Московского банка. Он многое ставил на это...
Старый же граф хлопотал о месте для сына в Сенате, преследуя две цели: естественное для наследника возвышение в обществе и удаление его от Параши. В северной столице, где полагалось сенатору проводить почти все время, выполняя свои почетные обязанности, развлечений немало. Немало и блестящих красавиц, которых хотел бы старый граф видеть рядом с Николаем. Расстояние же от Петербурга до Кускова такое, что на свидание с актрисой сын не наездится. С глаз долой – из сердца вон.
Не без умысла так настойчиво снова и снова приглашал граф императрицу в родовую усадьбу. Показывая диковинные красоты, угощая домашними яствами и заморским вином, легче поговорить о судьбе и карьере молодого Шереметева. Наконец вырвал-таки любезное обещание Екатерины летом, при посещении Москвы заехать и в Кусково, где она гостила лет десять назад и провела незабываемые часы.
Готовиться к визиту стали заранее. Придумывали всякое. Сюрпризом должна была стать беседка из полевых цветов, столь любимых царицей-матушкой. Но основные надежды возлагали на новый, отстроенный наконец-то театр и на спектакль «Самнитские браки». Музыка Гретри, первый сюжет – Жемчугова, которой в это лето должно было исполниться семнадцать лет.
Семнадцать... Это значило, что немыслимо долго тянулась немыслимая связь аристократа с простолюдинкой-рабыней. Четыре года – примерно тот срок, за который женщина и мужчина утрачивают жажду познания друг друга и разбегаются, если их не держит семья.
В этом случае все было по-другому. Невозможность раскрыться в семейном созидании оставляла невыявленные стороны в каждом. Графа поражала кротость Параши. Почему она не испытывает их отношения на прочность? Почему не заботится о собственном будущем и не спрашивает, что думает об этом он? Как решает свои дела с Богом – все же не венчана истая христианка? Задевало: неужели не хотелось бы ей видеть его супругом перед людьми? Неужели и впрямь довольна тем, что есть, и не желает большего?
Была ли она довольна?
Какое там!
Вместо сердца гигантские качели. Р-р-р-раз! И в самое небо несет ее блаженство – быть рядом с тем, кто один во всем свете мил, гладить его мягкие русые волосы, слушать его рассказы о берлинских музеях, парижских театрах или нравах московского высшего общества. Р-р-р-раз! И нет ей места в его жизни. Он в столице и в свете, она одна в «Мыльне». Каждая поездка любимого в Москву или в Петербург для нее большое прощание и маленькая смерть. Улыбайся, жди, встречай. А не вернется... Что ж, он не только ничем не обязан, но обязан когда-нибудь не прийти.
Странно, но она больше не ревновала его к женщинам. Не от себя вела отсчет событиям, а от него, и потому по-матерински жалела его, попавшего в ловушку обстоятельств. Понимала: надо ему жениться, завести детей, но отрешиться от необъяснимой надежды, что все устроится как-то по-другому, не могла. Каждая клеточка в ней кричала: навсегда, во всем, в жизни земной и вечной им предначертано быть вместе.
Не говоря о главном, они о нем говорили... с помощью театра. Здесь они проигрывали возможные и невозможные варианты своей судьбы, жадно вглядываясь друг в друга и готовя свои души к романтическому подвигу.
Нет, совсем не случайно Николай Петрович подбирал для постановки спектакли, разными сторонами поворачивающие один и тот же сюжет: двое любят друг друга, не могут соединиться из-за внешних обстоятельств, но ценой огромных усилий все-таки преодолевают их. Началось с «Лоретты», небольшой оперы, по ходу которой богатый граф женится на бедной девушке, презрев осуждение своего круга. Через год в Кусково ставили «Добрую девку» Пиччини. Теперь Параша звалась Розеттой, и роль исполняла, используя немалый опыт печали, а значит, сильнее трогая души. Дальше шла «Люсиль» Гретри. Люсиль живет в господском доме, хозяин которого влюбляется в героиню, не зная ее позорного происхождения. Все открывается, но знатный рыцарь не отступает от своего намерения и женится на любимой.
В опере Гретри «Самнитские браки», которую готовились показать императрице Екатерине, та же тема – неравный брак, правда, в зеркальном варианте. Знатная Элиана любит Парменона, вождя восставших угнетенных самнитян. Рабство не дает права любить ни ей, ни ему. И Элиана готова на все, чтобы самнитяне обрели свободу. Она – вдохновительница, она – внутренняя сила рвущихся к освобождению воинов. Завоевание свободы довершается соединением влюбленных.
Что за этим странным сюжетным однообразием?
Искал ли Шереметев-младший подсознательно «подсказку» для решения нерешаемой задачи?
Вело ли его желание получить ответы на свои невысказанные вопросы от любимой?
Пытался ли он приучить аристократическую публику к немыслимому варианту, напоминая ей об относительности общественных перегородок – они ведь не до неба, перед которым все равны?
И первое, и второе, и третье... А кроме всего, важнее важного для них этот диалог сам но себе, тайный диалог двух душ. Хождение по одному и тому же кругу дарило им боль и странное наркотическое наслаждение.
Роль Элианы Параше сразу удалась.
Начать с того, что ей очень пошел мужской костюм, в котором Элиана проникает и в стан врага, и к любимому воину Парменону. Белые плотные чулки подчеркивали стройность ножек, тяжеловатые башмаки – их изящество. Тонкая талия, перехваченная металлическим поясом, напоминала о хрупкой женственности, шлем и султан из страусовых перьев прибавляли росту. Принц, паж, подросток, девственница и... страстность, накалявшая все вокруг нее добела... Холодность жеста и жар сильных низких нот, рождавшихся в груди... Противоречия эти волновали Николая Петровича до странной слабости, до головокружения. Элиана была изображением той Параши, совместившей все несовместимое, которую он впервые узнал как женщину четыре года назад. И в то же время нынешняя его возлюбленная оказывалась незнакомо-влекущей, притягательной.
Семнадцатилетняя, расцветшая, она каждой арией говорила ему: пойми, какая я, что со мной – ради нашей любви я все терплю, я готова на все.
Заезжему голландскому художнику Николай Петрович заказал портрет Параши в костюме Элианы. Еще не исчезнувшая детская припухлость губ и страстная затуманенность взора, чувственная округлость овала лица... Этот портрет всегда висел там, где особенно часто мог на него падать взор молодого графа.
Как у всякой настоящей актрисы, жизнь у Параши не отделялась от театра. Сюжеты спектаклей поставляла жизнь, но и вокруг сцены то и дело рождались житейские сюжеты.
Каждый день начинался репетицией. Собирались в то лето в «воздушном» театре. Невысокий холм – сцена, другой холм – зрительный зал; оба огорожены деревянными «шпалерами» – досками с написанными на них картинами на античные сюжеты. Музыканты настраивали инструменты, Николай Аргунов примеривал, где разместиться «колоннам», где «морю» на тот случай, если «Браки» придется ставить в сильную жару и в новом – закрытом – театре будет очень уж душно. Актеры разбились по группкам, они хоть и в обычных, не театральных нарядах, но все-таки одеты ярко, одна Параша выделяется среди всех строгой простотой одежды: светло-серое платье, ни лент, ни бантов.
Григорий Кохановский, оперный герой-любовник, кокетливый, вихлястый, всегда смешон в своем стремлении выглядеть «благородно»: напудренный парик, нежно-розовый камзол – все это носится им так не по-мужски, что рождает желание подшутить над ним. Степан Дегтярев, еще совсем молодой и соперничающий с Кохановским за первые роли, подкрадывается к «герою» сзади, сдергивает у него с головы парик и под общий смех рассматривает его:
– Э, да сия накладка из «Опыта дружбы» – в сих кудрях я изображал слугу. Давненько это было.
Натягивает парик себе на голову боком и задом наперед.
– И моль не съела?
Кохановский вырывает парик и держит его в руках. Он не на шутку рассержен, драка близка, и Пашенька, будто совсем невзначай, оказывается между ними двумя. А рядом с ней тут как тут Аргунов.
Аргунов, собственно, и есть тот сюжет, который не Парашей писан, но и про нее тоже. Всюду чувствует она на себе его взгляд. Нечаянно перехваченный, бывает он тяжел до угрюмости. А сейчас художник улыбается ей и, оставив заботы о декорациях, прогуливается с ней по парку, иногда осторожно касаясь ее левого локтя и тут же отдергивая руку.
Подошли к Вороблевскому, строго расспрашивавшему двух певцов:
– Были вчера в Перове?
– Были. Но зачем были, непонятно.
– Чему можно научиться у поваренка Андрюшки, который у Голицыных представляет Феба? Морда – во! Вокруг головы проволока наверчена. С балкона мальчишку на толстой веревке спускают, он со страху и роль забыл, ногами и руками по воздуху лупит.
Засмеялась Параша, засмеялся и Аргунов, посмотрели друг на друга, словно переглянулись. «Ах, ни к чему это...» И холодком в сердце закрадывается вина – без вины она виновата в той доверительности, которой она не хочет и которой ищет друг ее детства.
И снова длится приятная прогулка по парку.
– Пашенька, – говорит Аргунов. – Вчера попал я на «Дидону» у Кутайсова. Барину что-то в игре примадонны не понравилось. Он вбежал прямо на сцену и отвесил ей оплеуху. Дидона поморщилась от боли, да и вошла в свою роль снова.
Невольно Параша провела ладонью по собственной щеке и вспыхнула. Связывает это ее с Аргуновым: он раб и она рабыня. Но все-таки это лишнее. Не будет же она обсуждать с ним барские замашки, коли один из господ ей дороже всех на свете. Глянула прямо в глаза собеседнику:
– Так то Кутайсов. А вон, – кивнула на дорожку, по которой приближался Николай Петрович, – а вон Шереметев.
...Сюжет «Аргунов» развивался все то лето.
Однажды художник снова сказал ей, что все же хотел бы написать с нее портрет. И что последняя работа, моделью которой служил старый крестьянин, ему удалась; даже батюшка, скупой на добрые слова, похвалил:
– А сие было нелегко, ибо в мужике одна характерность и никакой красоты. Гармония же сама ведет кисть.
– Тогда и мой случай не поможет, Коля. Подружки мне совсем в красе отказывают. Иль ты из жалости?
– Что ты, что ты, Парашенька, – замахал на нее руками. – Красивей тебя нет. Красота у тебя особая, не всякому открывается. Но если кто посвящен... Кто понимает... Если кто любит не низкое... Кто слушал тебя и души твоей коснулся... – Аргунов окончательно запутался в словах и смутился, и Параша пришла ему на помощь:
– Спасибо. Хочется тебе верить. Я постараюсь помочь тебе и охотно стану позировать.
В ее обещании была и нежность, и грусть.
В Европе в ту пору были особенно модными двойные портреты. На одном полотне изображались, как правило, муж и жена. По той же странной прихоти, по какой Шереметев-младший проигрывал невозможный альянс на сцене, возник этот замысел: он и Параша. Пусть не на публику, не на показ, повесит работу где-нибудь в дальних покоях. Пусть только на полотне – а все же вместе. Тем и ответил на просьбу Параши дать заказ своему молодому художнику.
Параша обрадовалась, так даже лучше. Все станет на свои места, исчезнет всякая неловкость.
Заказывал граф портрет в присутствии Парашеньки.
– У нас парных парсун я что-то не видывал.
– Я постараюсь достичь должной высоты в новом для меня деле, – с достоинством пообещал художник.
– Да уж, постарайтесь. Я заплачу вам вдвое, хоть и на одном полотне, но приходится изображать два лица.
– Николай Петрович, – неожиданно в разговор вмешалась Параша, – деньги заманчивы. Но для тех, кто, как Николай Иванович, отмечен явным талантом, важнее другое. Пообещайте: коли парный портрет будет небывало удачным, лучше голландских работ... Вольную автору, а?
Параша видела, как Аргунов напрягся, тонкое лицо на глазах осунулось от скрытого волнения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.






![Книга Пламя любви [Ночное пламя] автора Кэтрин Харт](/books_files/covers/thumbs_100/plamya-lyubvi-nochnoe-plamya-58874.jpg)

































