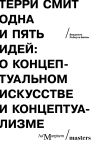Текст книги "Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве"

Автор книги: Иосиф Бакштейн
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
КБ. Ну, предположим…
БК. Мы вынуждены это сделать, в отличие от созерцания классической картины в раме, где нам каким-то образом даны все достаточные основания для понимания, и они всецело предметны, они уже вмонтированы, все эти смотровые структуры, в морфологию работы. Здесь же принципиально другая ситуация. Мы усматриваем здесь необходимость выйти за пределы морфологии и необходимость обрести новую смысловую зрительскую позицию.
МН. Но тут еще хотелось вот что сказать. Становление концептуального сознания, становление этой концептуальной возможности обязательно предполагает становление нового какого-то жанра. Потому что вот когда делались альбомы Ильи, большие щиты, жэковские стенды, – это был процесс постоянного становления новых жанров. То есть это концептуальная возможность предполагает какую-то онтологическую, постоянно развертывающуюся глубину – не изображения, а плана выражения. Это обязательно. Становление идет на уровне структур, в их отношении, в переходе в предметность. Я хорошо помню свою первую реакцию, когда увидел комнату. Видимо, концептуальное становление плохо выносит такой, что ли, взгляд ретро на уровне жанра, в том именно его месте, где структура переходит в предметность. Потому что инсталляция – это, в общем, довольно старый жанр, впервые он появился у дадаистов. И вот моя первая реакция была, что здесь как раз снята защита, защита между автором и зрителем на уровне становления жанра. Это было очень важным в моей реакции. И поскольку защита в моем восприятии была снята, то возникло ощущение, что автор туда ввалился, ввалился в зрительское пространство целиком, в зрителя, как в этот пузырь, о котором вы говорили. А с другой стороны – он ввалился в эту свою историю, то есть началась его личная экзистенциальная история.
КБ. Да, то есть возникла ситуация «это он».
МН. Да, и он оказался уязвимым. То есть еще раз хочу высказать тезис, что закон становления концептуальности обязательно включает кроме метафизических и дискурсивных моментов еще и становление жанра.
КБ. Конечно, вне сомнения.
МН. Мне кажется, что для концептуализма это аксиоматическое положение.
КБ. Да, да, можно так сказать.
БК. То есть ты хочешь сказать, что специфика концептуальной позиции состоит в том, что здесь, действительно, помимо плана оперирования с предметами, вещами, знаками есть план сознательного и целенаправленного оперирования с понятием жанра.
МН. Да, причем это самое серьезное, самое силовое и самое определяющее начало концептуального становления, как, например, в «Ящике» Ильи, где чувствуется прежде всего именно жанровая энергетика.
КБ. Да, и по некоторому определению (как, например, Тупицына считает, она цитирует Бодлера), – это последняя цель и последний смысл существования эстетического деятеля, художника. Поэтому он и художник, в отличие от пророка и т.п., потому что он устанавливает вот эти новые жанровые виды.
МН. Совершенно верно, он устанавливает новые взгляды, рамы, которые и определяют эстетическую автономию. И мне кажется все-таки, хотя, может быть, я и не прав, но в смысле жанра, установив в процессе своей работы несколько жанров, в «Комнате» Вы сделали скорее антропологическое центрирование события, а не жанровое, поэтому-то экзистенция и вылезла на первый план.
БК. А почему ты так определяешь этот прием?
МН. А потому, что, как уже Илья говорил, его «Комната» – концептуальное произведение. Ведь там, действительно, представлена только возможность: человека нет, он улетел, от него остались только хаотические обрывки, но поданы они зрителю как поверхность события. Во всяком случае, обнаружить напряженный момент становления в точке перехода от структуры к предметности (собственно – момент жанра) при первом знакомстве с работой мне не удалось. То есть при соблюдении всех метафизических оснований концептуального произведения я не увидел концептуального становления в плане эстетической автономии, не обнаружил действия закона становления нового жанра. Вероятно, потому, что не было рефлексий на саму «инсталляционность» в этой работе.
КБ. Андрей, я понимаю это. Но почему бы ее не сделать, и отчасти не делаем ли мы ее сию секунду, сейчас. Потому что я теперь как никогда убежден и по фрагментам и ваших цитат, и Иосифа, и Бори, что бессознательное и сознательное настоятельно существуют в требовании необходимости быть сопровожденными вот этой великой бумажной упаковкой, в словесную фольгу, не менее шуршащую, звенящую, блестящую, чем сам предмет упаковки. Мне это очень напоминает серебряный шар из акции КД «М». Вот эта толща серебряного шара, в котором завернуто яйцо, вот этот кокон.
МН. Верно. Но для этого надо сделать очень сильный, мощный, как Иосиф говорит, жест трансцендирования. Потому что в этой «Комнате» – и это связано с тем уровнем критической мысли, который нам сейчас доступен, актуален и который прорабатывается (скорее всего, его лучше определить как символический) – здесь происходит сцепление предметности и критики, чего не было в структуралистских и феноменалистских отстраненных анализах. То есть в традициях этой «новой» критики мы в своей комнате вступили в зону, где действуют уже силы супер-эго, на бессознательном уровне, конечно. Вы, собственно, и говорили, что, когда делали эту «Комнату», Вы как бы делали ее, целиком туда затягиваясь…
КБ. Да, да, всасываясь…
МН. И если Вы помните, когда я прослушал фонограмму к «Комнате», мне пришло на ум, что супер-эго, его шизофазальная морфология была представлена в виде вот этого царя, сидящего на троне, русского Бога, Вседержителя, а этот человек, всегда взыскующий неопределенной свободы, он вылетел, но оказался в говне, в кишках, в животе вот этого царя. Я имею в виду, конечно, мой личный символический шизоанализ текста фонограммы, где вами сделаны акценты на барабане, трубе, потом на каких-то пленках, сквозь которые он должен был пролететь, то есть текст весьма физиологичен. Поэтому мне кажется, что и наша критическая способность здесь тоже как бы теряет силы, застревает в каких-то языковых метапленках прямой кишки символизма.
КБ. И все-таки, когда я делал «Комнату», у меня было чувство, что я вижу все это со стороны. Посторонность была. И когда я сделал «Комнату», потом эту дополнительную ширму, которая ее объясняет, и вот этот наш сегодняшний текст, когда он будет записан на машинку и это все будет сделано в форме обычной книги, или это будет сделано в качестве настенных комментариев, вертушек на выставке, то есть я инстинктивно, зная, что можно погрузить в эту вещь, идентифицироваться и так далее, я хочу противопоставить ей – вот как человек, который смотрит с крыши вниз – перила, конец трубы, свешиваясь вниз, но держаться.
МН. Да, то есть поставить заслоны. И дело в том, что, когда я увидел эту Вашу ширму с этой «Комнатой», я сразу почувствовал, что вот, наконец, все, дистанция здесь появилась.
КБ. Я еще должен сказать следующую вещь. «Комната» сейчас сильно переделана в одном очень интересном смысле. Некоторые перестановки есть внутри комнаты, составляющие некоторую барьерность, то есть каждый компонент за барьером. Но еще более интересным оказалось, когда я последний раз ее монтировал. Я увеличил щель, теперь не надо подглядывать в щель, она стала более открытой, но я поставил там щит, фанерную доску, на уровне груди. То есть произошел эффект заглядывания туда. Получился род стойла. Как на ВДНХ. Получилась очень важная, зверская, так сказать, штука, эффект, что, вот, там это животное жило. Потому что когда имеется дверь, щель, то как бы и мы можем войти, то есть он был человеком, а теперь это жуткое впечатление, ну, как в милиции, где барьер, барьер в ЖЭКе, подходите, мы вам заказ упакуем, и вот за барьером отметим вашу фамилию. Вот этот ужас барьерности.
БК. Конечно, это совсем другое дело.
МН. Да, и вот здесь идет уже отрефлексированность этого супер-эго на уровне структуры, переходящей в предметность, то есть возникает структура барьерности. Вы как бы давите это супер-эго.
КБ. Да, мне важно как бы от него отстраниться.
БК. И все-таки я возвращаюсь к формальной стороне дела. Допустим, вот откуда идет попытка так буквально привязаться в поисках жанра к линии, восходящей к инсталляции. Ведь некоторая опасность и двусмысленность толкования возникала и по отношению к квазитеатральности ситуации.
МН. Да, и у Иры это было.
БК. А почему? Вот я хочу сказать о том, что было в основе недовольства, непонимания некоторых художников, упрека в том, что надо было сделать это более точно, раз речь шла о попытке воссоздать какой-то интерьер. В основе была принципиальная как бы двойственность этого пространства – оно одновременно и жилое, и символическое.
КБ. Да, точно.
БК. И поэтому оно и не такое, и не такое. Видимо, в этом и состоит его секрет. Если был какой-то умысел, то он был в этой непонятности, несостыкованности, которая нас и провоцирует на какие-то гипотезы.
КБ. Очень точно, да. Нормальные люди как раз и не хотели смотреть: или это жилая комната, или это образ комнаты.
БК. Да, что-нибудь одно. И эта двусмысленность заставляет нас предположить, что эта работа концептуального ряда, требующая комментариев.
КБ. Очень точно.
МН. Тут нужно вот что сказать. Поскольку работа все время трансформируется, теперь уже появился этот планшет, потом барьер в самой комнате, нужно сказать, что мы здесь имеем дело с очень мощным, как бы таким энергетическим полем представлений. И знак, который должен указывать на это поле, он как вот такой вот собачий ошейник (а знак – это ошейник в каком-то смысле для сущего), который постепенно подбирается, подгоняется автором под эти колоссальные размеры поля, которое к тому же склонно все время ускользать и расползаться в хаос и мусор. То есть здесь требовался мощный, стальной ошейник для этого гигантского дога, которого Вы породили и который, конечно, существует в ментальности супер-эго нашего региона. И постепенная трансформация жанра, становление этого ошейника, видимо, теперь и доведена до оптимального варианта. Очень важным был момент и включения этой комнаты в ряд ширм. Возникла еще одна дополнительная и осязаемая граница этого поля.
КБ. В силу вещественности этой комнаты очень важны были проблемы границы между свободным сознанием, о котором, разумеется, идет речь и во имя которого вообще все делается, то есть все делается во имя человека, гуманизма. Он во всех ситуациях, даже и в печке должен оставаться свободным и, если хочет, может там выпить стакан холодной воды. (Смех.) Должны быть удовлетворены все его потребности. И вот когда он оказывается в таком ужасном состоянии, когда он должен посмотреть художественное произведение, а ничего, видимо, несчастнее этого состояния нет. (Смех.) И если он заведомо, уже издалека видит, что это говно, и заведомо уже начинает мучиться. Но, без шуток, очень важным моментом является вот этот подход к границе, если он к ней подходит. Вот эта граничная ситуация между свободным сознанием и сознанием, которое собирается посмотреть произведение искусства. Дело в том, что в классической живописи мы знаем только одну форму: зритель заведомо согласен посмотреть в окно, то есть тут вопрос: хочет ли он пойти или нет, не стоит. Допустим, хозяин говорит, вот пойдем, у меня тут чудесная картинка. То есть не предполагается мысль: да пошел ты на х… со своей картинкой! Предполагается нормальный дворец, замок, все сидят, выпили, теперь вот в качестве прогулки в сад пойдем по галерее, вот тут картины висят, кстати. То есть момент внутреннего согласия вообще не обсуждается. В то время как сегодняшнее художественное произведение обыгрывает как раз ситуацию: да пошел ты на х… в конце концов!
МН. Конечно, это какая-то колючка, репей…
КБ. Да, почему? Видишь современные журналы, там черт знает что, и что меня может подвигнуть сделать усилие и пойти смотреть это? И тем не менее любопытно, что, оказывается, архетип смотрения на что-то (то есть сакральная ситуация, а музей – это сакральная вещь), феномен состоит в том, что вот кто-то делает просто собачье говно из фарфора. Но не в этом дело. Момент архетипического смотрения, то есть, ой, ну, там, обезьяньего любопытства, например. Кстати, эффект любопытства еще недостаточно изучен как архетипический.
МН. Как составляющий восприятие…
КБ. Вот, восприятие. Мы ведь в сущности подходим к любопытным таким явлениям, когда банализация не мешает восприятию. Вот Боря (Гройс), кстати, в своем выступлении по голосам сказал, что сегодняшний интерес современных художников к банальности и сила этого интереса напоминают ему интересы двадцатых годов, когда был интерес к первоэлементам, к открыванию структур, фундаментов, то есть снятию орнаментального и выявлению конструкции бытия. Сейчас это никого не интересует. Интересует как раз другая ситуация: что мир окружен морем банальностей. Все, что мы видим – это все банально, и бороться с этим не нужно. Так вот, художник, нормальный художник, видит задачу в том, как преобразовать банальное в иное. В этой задаче нет ничего, ни худшего, ни лучшего, это такая данность.
БК. Преобразовывать профанное в сакральное.
КБ. Да, профанное в сакральное без всяких проблем, не отодвигая, не крича страшным голосом.
БК. Причем исходя из того, что в принципе ситуация отношения к факту искусства – это ситуация скуки. Делать нечего, ладно, поскольку очередь за колбасой заняли.
КБ. Конечно.
МН. Но в семидесятых годах такой ситуации не было.
БК. Не было, да.
КБ. Мне тут рассказывали интересную такую историю. Когда надо было в зоопарке сделать укол обезьянке, то все знали, что она будет кричать, эта глупая обезьянка, а умный старый доктор говорит: да привяжите к шприцу красную тряпку, бант. И действительно – и это снято в кино, – когда к ней подносят шприц, обезьянка, увидев красное, вытаращивает глаза, совершенно опупительно, оказывается, инстинкт, то есть она потрясена просто… Но, возвращаясь к принципу границы, хотелось бы сказать, что в момент подхода к инвайронменту у человека есть повышенный страх, что он там сейчас увидит то, чего с внешней стороны он не видит, как вход в комнату, допустим. Эта ситуация напоминает процедуру уколов в школе. Ведь как будет, больно или нет, мы не знаем, но паника перед этим совершенно адская. Вот так же я вижу и по людям, которые подходят к инвайронменту. На какое-то мгновение у них прекращаются все сознательные акции: искусство, там, неискусство… Ой, сейчас что-то увидим! И вот это особое совершенно состояние появляется… Потом он видит такую же дрянь, как и до этого. Или, допустим, что-то другое. Он выявляет свою свободу в момент перехода, и на этой границе у него происходит очень интересное размышление – что теперь делать, уходить или еще смотреть. А может, еще посмотрим? Картина чем отличается, к сожалению, от инвайронмента? Вот я, например, смотрю на картину Янкилевского… Вот раньше бы я сказал: ой, какое пятно! А это что? Я думаю, что сам наивный художник тоже думает: вот сейчас треугольник нарисую, и вот он ахнет сейчас. Но он забывает, что количественно-то он набрал там кучу всяких произведений. Но когда человек смотрит, он охватывает мгновенно, а там, допустим, поздний сюрреализм, то есть он не смотрит нос, глаз. Это только прекрасный наивный зритель читает эту картину, мол, что вы думали, когда вы это рисовали, а это у вас х…, наверно, нарисован? А вот инвайронмент чем интересен: что он не схватывается сразу.
МН. То есть снята защита у зрителя, как и у автора.
КВ. Да, автор беззащитен тоже.
МН. То есть это как бы павильон ВДНХ со свиньями, когда они там за барьером лежат, визжат, а ты смотришь. Тут как бы такая двусмысленность.
КБ. Да. (Смех.)
БК. Да, это из-за отсутствия защиты, которой являлась ассоциация с традициями.
КБ. «А, ну этот инвайронмент!» (Смех.)
МН. Вот у меня-то так и было. Первая моя защита и была в этом. Но странно, что перед всеми Вашими предыдущими работами я не был защищен почему-то. Хотя это как бы картины и чем, вроде, они могли угрожать. И, несмотря на это, те вещи давали момент, как бы это сказать, эстетического философского мечтания, что ли, последующего мечтания о языке, о границе и т.п. А вот здесь почему-то нет. У меня сразу возникло это защитное слово «инвайронмент». Вероятно, я предшествующие Ваши работы рассматривал в меньшей степени как факт искусства, нежели вот этот инвайронмент. Его я воспринял, наоборот, как чистый факт искусства. Может быть, у меня это личное, я почему-то страшно не люблю театр. Вероятно, тут что-то связано с акциями. Потому что мы работаем с этим материалом и всегда есть опасность залезть в театр…
БК. То есть, может быть, это в чем-то ближе к тому, чем ты сам занимаешься?
МН. Может быть, и ближе, но мы страшно боимся вот этой театральности. Мы все время стараемся, чтобы обыденное и опосредованное очень медленно, постепенно проявляли границу между собой. То есть чтобы искусство сильно не бросалось в рожу, не выскакивало. Мягкий вход и мягкий выход. В театре же прямо противоположная ситуация. Там эту «мягкость» заменяет традиция, а сам эстетический акт очень резок: ты сел в кресло, занавес открылся, и началась сакральность – рай там или ад, не важно.
КБ. Вот эта проблема мягкости очень интересна. И вообще, возвращаясь к проблеме границы сакрального и несакрального: мы видим как бы мягкие такие движения, причем с большим искусством и точностью проводящие нас из неясной сферы в ясную. Вот, допустим, музыка трио Ганелина или игра Тарасова. Они поражены вот этим плавным глиссандо от хаоса, который по неизвестным причинам вдруг сосредотачивается до самых максимальных таких откровений, потом опять тут же на глазах разваливается, превращаясь на глазах в бред, шум, мусор и т.д. Вот это глиссандо, плавное движение к сакральному состоянию – оно, конечно, восходит к какому-то атману, там, я не знаю, есть специальная буддийская терминология, где сакральное находится тут же, в толпе. Оно имманентно. То есть оно зависит от нашего состояния, сосредоточенности или, лучше сказать, коана, типа: обоссали (можно оставить?) тебя на базаре, и тут ты вдруг…
МН. Но тем самым оно внутреннее. Раз оно может быть везде, значит, оно внутри.
КБ. Да, внутреннее. У него нет ритуальности.
МН. То есть мы как бы не можем себе представить, что над нами что-то есть, потому что такое представление очень тяжело, давит, и думаю, прежде всего из-за того, что мы живем в такой стране, когда над нами постоянно нависает это сакральное, все эти трибуны, планы, призывы, ритуалы, ведь это все сакральное явление. И мы всегда этому внутренне сопротивлялись. И конечно, нам бы хотелось, чтобы «там», наверху было пусто, просто звездное небо над нами и больше ничего.
БК. Но тогда источником сакральности является наше собственное сознание, наша собственная субъективная воля. То есть каждый из нас: мы как зрители – по-своему, автор – по-своему вносим это понимание, эту сакральность в саму эту работу. В этом, собственно, и фокус. А объективно она существует как бы за нами, действует из-за наших спин, затылков. Это очень зрелое, что ли; это не отношение детское, когда говорят: вот вам тут специально рамку провели, чтобы вы туда не заступали, там уже совсем другое пространство.
МН. Конечно, детское сознание – это волшебный мир.
БК. Но следы этой волшебности сохраняются в классической картине за счет определенности ее смысловых границ.
КБ. Причем очень важно еще указание, что эта картина хорошая. Потому что иначе возникает необходимость этого проклятого выбора.
БК. Ну да, если вы попали в большой, красивый замок герцога, то там уж точно хорошие картины, и чем знатнее герцог, тем картины лучше. И ценность пребывания в этом замке, в этом пространстве, кроме жратвы, еще в том, что нам сейчас покажут хорошую картину, красивую и дорогую.
КБ. Но нет ли здесь перверсивного отношения к сакральности, где мы предполагаем, что, если художник музейный, ну, как, например, любой рисунок Гогена у Хаммера, то о чем говорить? Да любой рисунок Гогена гениален, потому что его купил Хаммер. То есть получается как вот это яйцо в яйце и т.д. Получается интересная вещь, что мы все равно отдадим место этому произведению в сакральной сфере, а где же тогда тут возникают края? Но возможно, это ничего не значит, поскольку в первоначальном своем импульсе, как видно из русской последней литературы, проблема сакральности – среди мусорности, нахождения в пустоте, – она является доминирующей. Зощенко, Хармс и Бабель и так далее показывают, что токи художественности идут (прежде всего у Замятина) – эти ткани идут прежде всего из этого мира мерзости, дряни, неочищенного, непросветленного, некультурного, в конце концов, мира.
БК. Точнее, не из того, что раньше считалось культурным. Пересматривается само содержание, объем и понятие культуры и отношения к ней. Сам тип усилий, по-видимому, сам тип обработки или переработки исходного материала в культурный материал стали какими-то иными.
КБ. Замятин так и говорит, что мы приветствуем неистинные, лживые, искаженные, кривые, уродливые и другие формы и принципы изображения, поскольку, когда человек провозглашает истину, это ведет к омертвелости, оцепенению, догматизму, неподвижности и т.д. И только неистинность заставляет нас формировать наши представления и о самом истинном и искать ее. То есть все живое является как бы ложным.
МН. То есть опять же это иллюстрирует положение, что человек есть только то, чем он может стать. Правда, здесь есть и опасность крайности, например, в «Хагакуре Бусидо» сказано: «В жизни все фальшиво. Есть только одна истина, и эта истина – смерть».
КБ. Конечно, когда он знает критерий, тогда это свинья.
МН. Да, мертвый, застывший, в гробу…
КБ. То есть вопиение о некультуре Зощенко является прежде всего плачем о культуре, в основе своей. Неонтологическая жизнь зверей есть крик об онтологии.
МН. Мы очень много говорим о сакральном и прочем, но ведь эстетика выражает все это через жанры. Интересно было бы вернуть к возможностям жанров.
КБ. Это очень важно, но я очень смутно себе все это представляю.
МН. Мне кажется, что вот сейчас в Вашей новой работе «Золотая подземная река» опять пошел этот процесс становления жанра, возникновение предметности из структуры, а не из психологических, экзистенциальных обстоятельств.
БК. Мне кажется, что на другом языке жанр – это пропуск, то есть заведомый признак. По сути дела, основная тема, к которой мы все время возвращаемся все последние годы, – это критерии, условия того или иного факта, события существования в мире культуры. То есть речь идет об источниках культурного происхождения. И жанр, по сути дела (ты сам это сказал), – есть некоторая иерархия рамок, которым огораживается произведение. Жанр выступает как самая мощная по своей энергетике граница, поэтому она-то и наиболее существенна.
МН. То есть «как» мы это делаем, а не «что» делаем – это самое важное.
БК. Здесь само понятие жанра по отношению к классическому пониманию резко сузилось и по сути дела свелось как бы к границам одной работы. То есть мы можем одной работой заявить какую-то новую жанровую определенность. Но мощь жанра как художественного принципа как бы сохраняется.
МН. А не возникла ли теперь ситуация кризиса «жанровости» как таковой?
БК. Наверняка, конечно. Новая эстетика этими категориями уже не оперирует.
МН. Я просмотрел последний «КУНСТ», и там это очень чувствуется, полная жанровая энтропия.
БК. Мне кажется, в этом есть инерция мышления, состоящая в том, что только через какую-то квазижанровую определенность мы можем заведомо отделить какую-то группу явлений и это их групповое качество пытаться проинтерпретировать как культурную форму. Без качественной определенности, которую мы наблюдаем именно на целой группе явлений, мы не можем претендовать на понимание этих явлений как точно очерченного культурного явления и аргументировать.
КБ. Мы не коснулись еще того, что ты называешь планом содержания. Ведь мы сейчас все рассматриваем формально и художественно эстетические моменты этого общекультурного предмета. Но почему бы не подумать о поводе, который, собственно, толкнул на изготовление «Комнаты»? Собственно, речь идет о прямом и вполне откровенном сюжете, о человеке, который улетел, о том мифе, который послужил основой, когда изготовлялась эта вещь. У меня было ощущение, что сам миф, мифологема настолько мощна и ужасна, тянет за собой какие-то огромные традиции, что, прикасаясь к этой теме, ты вступаешь в классическую галерею образов. Это почти банальный отработанный образ о человеке, мечтателе, Икаре, который своими силами решил подняться в небо. И интерпретация всех мифологических компонентов, как, в частности, «небо», «свои силы», «проект», «инерция жизни», «тяжесть земли», земное притяжение, образные всякие помощники в этом деле и одинокая такая сила с помощниками вместе, и целый ряд других вещей. Я уже не говорю о традиционной форме, как у Булгакова: старый миф в новой форме, в кальсонах – традиционная форма, где проблема мифа поставлена таким образом, что миф беспрерывно возобновляется, то есть миф по природе не есть прошлое, а всегда настоящее, тем он отличается от сказки. Вот мы сейчас сидим, обсуждаем и являемся теми же самыми перипатетиками.
МН. Но такое осознание сигнализирует о ситуации неоклассицизма, когда миф становится ясен, всегда наступает неоклассицизм.
БК. Конечно.
МН. То есть эпоха несвободы.
КБ. Ну да, поскольку что-то констатируется, то мы уже обречены. Понятно, да.
МН. Но ведь мы не можем пока редуцировать с полной отчетливостью ваши работы семидесятых годов, начала восьмидесятых, к какому-то одному мифу, поскольку он сам еще до конца не опредметился в повторах, этот ряд настолько обширен в плане содержания, что это реальная культура, реальное становление, свобода и реальные возможности, которые на самом верху всегда «обрезаются». А здесь наверху, наоборот, обелиск. Здесь ясность.
КБ. Да, верно, очень хорошо, металличность.
МН. И это уровень несвободы, после которого наступает упадок – «полетел и упал», как в мифе об Икаре.
БК. После периода концептуализма как периода сознательных усилий по осознанию мифа действительно возникает ощущение кризиса, скованности и необходимости отдыха от усилий по созиданию культурных форм. Здесь отдых синонимичен упадку.
МН. А я думаю, что содержательная сторона и в этом наступлении ясности мифа – кроется только в форме.
КБ. В оболочке…
МН. Художники и критики почувствовали кризис жанровости как таковой.
БК. Это с одной стороны. Но говоря про эту прозрачную мифологическую первооснову, здесь интересно спросить: было бы в замысле какое-то отношение к ее этническому месту, происхождению?
КБ. Разумеется, вопроса даже нет.
БК. Мы много раз уже говорили о судьбе Комара и Меламида. Их художественная позиция и отношение к русскому мифу, в отличие от твоих работ, которые экспонировались на Западе, состояло в том, что метафизическая проработанность твоих работ несопоставима с той метафизикой, которая может быть усмотрена в работах К/М (Комара/Меламида) хотя бы в аспекте тематизированности. В то же время как раз мифологическая определенность и определенность признаков этнического происхождения у них очень четкая, сильная, и их успех объясняется этим.
КБ. Очень точно. Фантастическая фиксация и аккомодация мифа.
БК. И вот я задаю вопрос, не являлось ли обращение к мифу в его грубых, зримых формах попыткой преодолеть излишнюю такую метафизическую изощренность, утонченность, в которую склонно впадать здешнее искусство.
КБ. Может быть, да, возможно…
МН. Или, скорее, как бы увидеть этот миф в целом как знак и заключить его в своего рода тюрьму, в камеру еще большего знака, границы которого из-за своей банальности выходят за пределы нашего желания их интерпретировать, и мы оказываемся в этом промежутке – коридоре между знаком изображаемого и знаком изображающего, ощущая в этом пустом пространстве промежутка свою собственную телесность, пусть с некоторым нежелательным недоумением, так сказать, отрицательного непонимания, но все же ощущая свободу своей зрительской телесности от мифа.
БК. Когда мы входим на уровень метафизики, то она является стихией всеобщего, в этом смысле она в равном статусе выступает и в русской культуре, в ее интеллектуальных формах, и в немецкой, и в английской, и в французской и т.д. А этнос, фольклор, сказка, миф – это тоже стихия, но уже стихия региональная, локализованная в народных берегах.
МН. Да, миф и культура – разные вещи. Миф закрыт, а культура открыта.
КБ. Конечно, очевидно. Разумеется, отношение к этому мифу – это есть прежде всего предмет рефлексии. Всякое бессознательное приобретает форму и в качестве формы становится фактически насмешкой над идолом, обсуждение идола с другой стороны, но с пониманием того, что идол реален.
МН. Конечно, ведь в культуре каждый делает свой собственный индивидуальный миф. А когда человек сталкивается с мифом коллективного сознательного, у него возникает сильнейшее сопротивление, ибо тут ставится под сомнение степень его экзистенциальной свободы.
КБ. Да, но здесь есть некоторая альтернативность между универсальным мифом и мифом индивидуальным, где последний торжествует победу в форме отстранения.
БК. Мне кажется очень важным, что здесь возникает новая ситуация, потому что, зная все предшествующие работы Ильи, для нас, знающих контекст, понятно их этническое региональное происхождение, и в то же время характер их художественной оформленности таков, что их фольклорное содержание – оно очень определенно и очень точно перерабатывалось и транспонировалось на язык метафизики и понятно «всем и каждому» уже в этом метафизическом качестве. В то же время как тот прием, который эксплуатируют Комар с Меламидом, когда они это же самое фольклорное содержание показывают в виде определенного визуального знака, который, в силу отсутствия в нем подоплеки метафизического, не нуждается в комментарии и контексте; он сам по себе самодостаточен. В этом его великая сила и источник его мощи. Не получается ли так, что в этой работе, в «Комнате», делается попытка вогнать региональное содержание в новую форму – визуального знака. На К/М-овский манер?
МН. Да, да, в рамки нового знака. Натянуть этот силовой ошейник.
БК. И сделать его таким же равномощным по своей энергетике, с другими работами, не столь явного этногенеза.
МН. Да, как бы поставить его в понятийный ряд, как, например, экспонат на ВДНХ – вот тут такая-то свинья в клетке сидит, там другая и т.д.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.