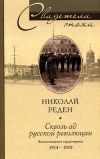Текст книги "Жизнь как на ладони. Книга 2"

Автор книги: Ирина Богданова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
17
Грязный петроградский снег стаял только в середине апреля, оставив о себе воспоминание в виде необъятных студёных луж, к утру покрывавшихся хрусткой белой корочкой, которую старательно обходили две стройные девушки – сёстры милосердия из больницы святого Пантелеимона.
– Знаешь, – грустно сказала черноволосая красавица Зоя, доверчиво приблизив к подруге круглое лицо с густыми малороссийскими бровями, – теперь я могу откровенно признаться, что была влюблена в доктора Петрова-Мокеева.
– Тимофея Николаевича? – живо отозвалась сухопарая Люся, прозванная за болтливость Балалайкой. – Ты меня нисколько не удивила, господина Петрова обожают все без исключения женщины нашей больницы, он ведь такой обворожительный душка! К нему неравнодушна даже доктор Громова. Представляешь?
Зоя представила престарелую толстую докторшу из их отделения и фыркнула.
Люся взяла соседку под руку и продолжила:
– Третьего дня Громова ходила на квартиру к Тимофею Николаевичу и расспрашивала о нём его родителей. Они сказали, что сын вечером вышел из дома и пропал. Докторша после этого плакала в ординаторской, на чём свет стоит ругая социалистов и революционеров. Нет больше нашего Тимофея Николаевича. Поняла, в чём дело? – Она утвердительно подняла вверх указательный палец, обтянутый кожаной перчаткой из дореволюционных запасов.
– Поняла, – кивнула Зоя, мрачно сложив яркие губы в прямую линию. – Я этих комиссаров с удовольствием в бочку засмолю и по морю пущу. Глаза бы мои на них не глядели, а особенно на эту раненую депутатку! «Товарищ Маша должна поправиться для дела мировой революции, головой отвечаете за её лечение…» – передразнила она краснофлотца, доставившего пострадавшую в больницу.
– Не говори, мне даже подходить к ней противно, – скривилась Люся, – хорошо, что она сама ни с кем не разговаривает, а то я за себя не ручаюсь.
Беззаботно болтая, девушки переступили порог больницы, где в ужасающей тесноте вдоль всех стен лежали больные и раненые.
Бог знает каким чудом, вчистую разорённая революцией Пантелеимоновская больница продолжала существовать.
«Не иначе как по молитвам целителя Пантелеимона», – уважительно высказывался немногочисленный персонал, остававшийся на местах после переворота. Жалование платить перестали давно, аптека не работала, и врачи лечили больных, лишь положась на веру и свою христианскую совесть и получая от больных немудрёную плату в виде картошки и яичек.
«Товарищ Маша» располагалась на особых условиях, в отдельной палате, выделенной из бывшей пошивочной мастерской, благо больничная портниха давно сбежала вместе с казённой швейной машинкой. Большую часть дня раненая лежала, безучастно отвернувшись лицом к стене, лихорадочно размышляя только об одном: сумели спастись Всеволод с Тимофеем или нет?
Из обрывочных разговоров сестёр милосердия она смогла уловить, что доктор Петров-Мокеев бесследно исчез почти месяц назад.
«Если узники не сбежали, то комиссарша Клавдия наверняка их уже расстреляла, как и обещала», – рассуждала она, холодея от ужаса и представляя, как, сузив от удовольствия глаза, товарищ Ермакова поднимает пистолет с длинным дулом и стреляет в построенных у стены заключённых.
Тяжёлая сцена в селе Соколовка, когда Клава недрогнувшей рукой убила женщину, снилась ей каждую ночь. Крыся охала, сжав зубы, чтоб не зарыдать в голос, закусывала угол простыни и долго лежала, глядя в потолок и боясь закрыть глаза.
Изредка к ней заглядывала сестра милосердия Зоя, ненавидящим взором следя, чтобы пациентка не упала с кровати. Раз в день она приходила делать укол, нарочно выбрав для «товарища Маши» самую большую и погнутую иглу, с удовлетворением всаживая её в худенькое Крысино тело, как штык, пригвождающий к земле заклятого врага.
– Долго я у вас лежу? – решилась спросить её Кристина, потерявшая счёт времени.
– Да уж залежалась, депутатка, – процедила сквозь зубы сестрица, не скрывая отвращения, – приличных людей положить некуда.
Каждое воскресенье из Реввоенсовета Кристине присылали продовольственный паёк: кило пшена, буханку хлеба, селёдку, чуть припахивавшую гнильцой, и бутылку «Ситро» из разграбленных революционерами подвалов магазина купца Елисеева. Принимать эту помощь Кристине не позволяла совесть, но она скрепя сердце делала вид, что рада продуктам. Хлеб она ела, иначе от голода и умереть недолго, а от селёдки и лимонада напрочь отказывалась, к вящему удовольствию санитарки бабы Кати, охочей до подношений от больных. Выжить Кристине помогала зыбкая надежда на спасение Всеволода и икона Спаса Нерукотворного, висевшая в углу над добротно сработанной этажеркой для белья.
О своих родителях она почти не думала, они находились в безопасности и так далеко, что казались исчезнувшими из реальности: сразу после переворота сапожник Марек Липский с Кристининой мачехой и маленьким сыном Людвигом уехал в Польшу. «Я останусь в Петрограде, – отвергла тогда их уговоры Кристина. – Моя судьба связана с Россией». Напрасно плакала пани Мария, искренне любившая падчерицу, и обиженно молчал отец. Характер нежной и хрупкой Крыси оказался твёрже алмаза: сказала «нет», значит, «нет».
– Доктор велел тебе температуру померить, – возникла на пороге сестра Зоя. – На, – она сунула Крысе холодный мокрый градусник и брезгливо покосилась на спутанные волосы раненой, – позвала бы своих комиссаров, чтоб помыли тебя, а то так и завшиветь недолго.
– Я сама.
Кристина зашевелилась, пытаясь встать, и почувствовала, словно ей на голову накинули чёрное пуховое покрывало: в глазах стало темно, дышать трудно.
– Сама не справишься, – пробормотала Зоя, чуть смягчаясь, – так уж и быть, принесу тебе мокрое полотенце, оботрёшься. И помни, делаю это только в память доктора Тимофея Николаевича, он нас учил ко всем больным быть милосердными, даже к врагам.
Кристине отчаянно, до крика захотелось сказать непримиримой Зое, что она не враг и жизнь готова отдать за Тимофея Николаевича. Но надо молчать. Если она раскроет себя, то может только навредить господину Петрову. И князю Всеволоду.
Девушка облизала пересохшие губы и чуть подалась вперёд:
– Он жив, доктор Тимофей Николаевич? Есть новости?
Зоя неопределённо пожала плечами:
– Тебе-то что? Знала его, что ли?
– Да, знала, он моего отца лечил, – соврала Кристина.
От этого признания Зоя неожиданно взбеленилась:
– Он твоего отца лечил, а ты работаешь с коммунистами, которые нашего доктора в могилу свели. Помогаешь им людей убивать и детей сиротить.
Она яростно вырвала у Крыси градусник, хлопнув дверью так, что с давно не белёного потолка посыпалась сухая штукатурка.
Расстроенная тяжёлым разговором, девушка откинулась на подушку и подумала, что революция раскроила российское общество на две части, каждая из которых до глубины души ненавидит другую.
Гражданская война. Как это страшно! Но она, скромная подданная государя-императора, всегда будет на той стороне, которая хочет мира и покоя, а не мировой революции. На той стороне, где доктор Тимофей – мальчик Тимошка из двора её детства – и где князь Всеволод. Сева Езерский.
В их последнюю встречу Всеволод очень нервничал. Несколько раз порывался что-то сказать ей, но не сказал, запинаясь и отводя разговор в сторону. С неба сыпал меленький запоздавший снежок, который сразу таял на тёплых щеках, делая лицо влажным. Он блестел капельками росы на коротких ресницах князя, и на миг Кристине показалось, что он плачет. Но Сева тряхнул головой, и наваждение исчезло. «Береги себя, будь осторожна. Встретимся в пятницу у памятника Екатерине», – шепнул он Кристине на ухо, чуть касаясь губами пряди её волос. От дыхания Всеволода у неё замирало сердце и холодели руки…
Кристина так подробно вспомнила их разговор, что на глаза её навернулись слёзы. Хорошо всё-таки, что она не уехала с отцом в Польшу, ведь тогда они с князем никогда бы не встретились.
Она посмотрела на веточку вербы с тугими налившимися почками, настойчиво стучащую в оконное стекло при каждом порыве ветра. «Выходи, выходи», – звала верба Кристину, протягивая ей тоненький прутик, словно руку помощи.
«А ведь скоро Вербное воскресенье, – подумала девушка. – Вот вербочка и распустилась, а значит, жизнь продолжается. После Вербного – Пасха. Как было бы радостно поздравить Всеволода с Воскресением Христовым!»
Она представила себе, как идёт ему навстречу, протягивает крашеное яичко, с любовью расписанное накануне, а князь берёт его, чуть касаясь пальцами Крысиной руки, и произносит:
– Христос воскресе! – приближая лицо для троекратного поцелуя.
Дорого она дала бы, чтобы узнать, жив ли князь или нет. А если жив, то где он и что сейчас делает…
18
Всеволод сидел на крылечке деревенского дома, выкрашенного голубой краской, и смотрел, как с крыши сарая-дровяника стекают капли воды от обильного весеннего дождя. Они весело выстукивали дробь по лежавшей внизу доске, оставляя на ней мокрые дорожки.
Крыльцо, на котором он сидел, тоже было мокрым, как и он сам, но князю Езерскому это было совершенно безразлично. С тех пор, как Сева узнал о гибели Кристины, дни для него потекли в другом измерении, разделившись на «до» и «после». Всё, что было до её смерти, имело вкус, цвет, запах и звук, а всё, что начилось после, было одинаково серым и бессмысленным. Он даже плохо помнил переезд в этот дом, хотя друзья перебрались на новое место жительства всего несколько дней назад.
Правду сказать, какой там переезд. Как только родители узнали, что их детям удалось бежать из тюрьмы, они наскоро побросали в саквояжи самые необходимые вещи и ночью перешли вот в этот дом, доставшийся по наследству тёте Симе от старшей сестры.
Пару лет назад Серафима купила деревянный пятистенок на городской окраине для овдовевшей сестрицы Марьи Ивановны, которой довелось прожить в нём всего год. Накануне революции тётя Сима начала было подыскивать покупателя, но потом решила, что дом может и самим пригодиться. Словно в воду глядела!
– Не беда, что клозет на улице, зато спокойно, тихо. И свинью в комнаты никто не приведёт, – уговаривала она Петра Сергеевича и Ольгу Александровну, сидя в мастерской для ремонта зонтов, где вся семья собралась на совет. – Да и негде нам теперь в городе располагаться, черезвычайка чуть не каждую ночь шныряет, и ребят с нами целая орава.
Домоправительница убедительно указала на съёжившихся на скамье Лизу, Силу и Ваньку, понимавших, что сейчас решается их судьба.
– Детям воздух нужен. Сейчас весна, через месячишко картошки посадим, авось и переживём варварское нашествие.
Удивляясь красноречию тёти Симы, всегда чувствовавшей смущение в присутствии княгини Езерской, Тимофей подумал, что упрашивать съехать с квартиры никого не придётся.
По оживлённым лицам домашних он понял, что вопрос решён положительно.
– Вы что, нас с собой берёте? – услышал он дрожащий от счастья голос Лизы.
– Безусловно, а как иначе? – удивилась Зиночка, поворачиваясь к детям и видя, как вспыхнули радостью их почти прозрачные от голода личики. – Вы теперь наши.
Аполлон Сидорович, лежащий на лавке около Тимофея, распрямил колено, чуть не сбив Тимофея на пол:
– Господа, а я чей?
– Наш, – успокоила его Ольга Александровна, подведя итог общему собранию.
– Значит, вы, мальчики, – обратилась она к Севе и Тимофею, – и вы, ребята, – она показала рукой на детей, – берите Аполлона Сидоровича и начинайте потихоньку перебираться в новое жилище. А мы с Петром Сергеевичем и Зиной пойдём за вещами. Всё надо сделать быстро, пока не заметили соседи. Чтоб не было лишних вопросов и пересудов и никто нас не выследил.
Так в одну тихую апрельскую ночь квартира на Измайловском проспекте опустела, а на Кривой улочке околотка Средней Рогатки появились новые жильцы.
За спиной у Севы скрипнула тонкая, в одну доску, дверь, и на крыльцо вышла тётя Сима, запыхавшаяся от множества дел, навалившихся сразу.
– Севушка, иди к столу, – мягко проговорила она. – Иди, голубок, не сиди под дождём.
Она принялась, как маленького, гладить его рукой по голове, приговаривая давно забытые Всеволодом детские потешки, которые в раннем детстве напевала ему няня Уля.
Князь всхлипнул и закрыл лицо руками.
– Тётя Сима, из-за меня погибла девушка. Лучшая девушка в мире. А я, здоровый, молодой офицер, жив и здоров. Женщины не должны умирать от пуль, для этого есть мы, мужчины. Женщины не должны, – повторил он, безутешно глядя перед собой, словно ожидая увидеть за пеленой дождя образ любимой.
Всеволод подвинулся, освобождая место для Тимофея, который молча пристроился рядом.
– Это я виноват, – наконец сказал Тимофей, – не надо было Крысе позволять идти в особняк. Пусть бы нас расстреляли, но она осталась бы жива. А случилось всё наоборот…
Тимофей поёжился от ударившего в лицо порыва мокрого ветра и безнадежно махнул рукой.
– Твоей вины нет. Кристина бы всё равно пошла, – остановил его брат. – Ты её не знаешь. Она необыкновенная. Беззащитная и сильная одновременно.
Осунувшееся лицо князя выражало тяжёлую скорбь. Такое же немое страдание Тимошка видел на лице Ольги Александровны сразу после смерти мужа…
Братья надолго замолчали, чувствуя поддержку друг друга.
Дождь кончился, и посветлевшее небо скуповато одаривало город пробивавшимися сквозь пелену облаков солнечными лучами.
Весна вступала в свои права.
Это была не радостная петербургская весна, расцвеченная яркими женскими нарядами и перестуком копыт лошадей, запряжённых в щегольские летние экипажи. Нынешняя весна была серой и убогой калекой, побиравшейся по помойкам, в которые превратились за зиму улицы столицы.
Дамы и барышни, именовавшиеся на новый лад «гражданками», спрятали подальше щегольские наряды – из-за них и убить могли – и закутались в серую безобразную одежду, выменянную на фамильные бриллианты у татар – старьёвщиков.
«Свобода, равенство, братство! Вся власть Советам!» – провозглашали развешанные по всему городу лозунги, криво написанные белой краской на алых шёлковых занавесках, конфискованных из барских квартир. «И где эта свобода? – недобро судачили обыватели. – Мы думали Советы и впрямь народу свободу дадут, а оказался пшик один. Отобрали нажитое трудом – вот тебе и равенство. Всяк теперь гол как сокол».
– Знаешь, Тимка, – сказал вдруг Всеволод, глядя на разорванные лучом света тучи, – у нас в Военной академии был преподаватель, генерал-лейтенант Марков. Сергей Леонидович. Однажды на лекции он сказал такие слова: «Когда раздастся священный зов к атаке, артиллерия должна забыть себя и всецело броситься на поддержку товарищей. В эти решающие мгновения артиллерия должна иметь душу… Артиллерия должна беззаветно лечь вся, если это необходимо для успеха атаки». А я русский офицер. И артиллерист.
Тимофей насторожился:
– Ты о чём?
– О том, что я решил уйти в Белую армию к генералу Маркову. Он сейчас воюет против Советов близ Ростова. Туда и подамся. Это мой долг военного и дворянина.
– Если бы я мог пойти с тобой, – со стоном вырвалось у Тимофея.
– Но ты не можешь. И не должен. У тебя на руках родители, тётя Сима, Зина, Аполлон Сидорович и теперь ещё и дети. Целых трое.
– Я понимаю, – согласился Тимофей, упрямо мотнув головой так, что ему на лоб упала прядь русых волос, как всегда, не слушавшаяся расчёски.
Он поправил её рукой и стиснул Всеволода за локоть. Слов не осталось. Да они были и не нужны. Братья понимали, что на душе у каждого из них.
– Когда пойдёшь?
Всеволод вздохнул:
– Завтра. Надо подготовить маму. Она поймёт.
– Тебе надо собраться.
Князь Езерский горько усмехнулся:
– Нищему собраться – только подпоясаться.
За высоким забором соседнего дома раздался резкий женский крик: «Федька, Манька, где вас носит? Оставьте птицу в покое! Батька уши вырвет!» Вслед за этим на забор взлетел растрёпанный петух и недоумённо посмотрел круглым глазом на сидевших на крыльце людей.
Заявившая о себе обыденная жизнь рабочей окраины немного разрядила обстановку тягостного разговора, наводя на мысль, что до завтрашнего расставания остаётся слишком мало времени и много дел.
– Я соберу тебе в дорогу аптечку, – поднялся с крыльца Тимофей, отряхивая мокрые брюки от налипшей грязи. – Угваздались с тобой, как поросята. Попадёт нам от тёти Симы. Мыла-то нет.
Мыла в Петрограде действительно не было, как не было и свечей, керосина, дров, соли, спичек, ниток, иголок, продуктов и всего того, что в старое время в избытке водилось в любой, даже самой завалящей, лавке. Здесь, на окраине города, голод чувствовался не так остро, как в центре. У рачительных хозяев водилась загодя насоленная капуста в пузатых бочках, подпол был набит тугими картофельными клубнями, а почти в каждом сарае жизнерадостно квохтали куры и похрюкивали поросята.
Выглянувшая в распахнутое окно кухни тётя Сима одобрительно оглядела красавца-петуха и высказала вслух:
– Завтра чуть свет смотаюсь к соседям, выменяю на свой полушалок двух курочек. Авось соседский кочет их облюбует. Цыпляток разведём… – Старушка мечтательно вздохнула, представляя у своих ног пушистые жёлтенькие комочки. Вот оно, счастье – только руку протянуть.
«Легко сказать “соберу аптечку”. Великолепно, если лекарства и перевязочный материал Севе не понадобятся», – думал Тимофей, деловито укладывая в найденную коробку из-под печенья насущно необходимые медикаменты: бинты, бриллиантовую зелень, желудочный порошок, мазь от нагноения ран. Ему хотелось защитить Всеволода от всех непредвиденных обстоятельств и ото всех болезней на свете.
Тимофей так задумался, что не заметил, как подошла Зина.
– Что ты делаешь?
Вздрогнув, как будто его застали за недозволенной шалостью, он взглянул прямо в Зинины глаза, требовательно смотревшие на него в ожидании ответа.
– Зина, завтра Сева уходит в Белую армию. Хочет попасть под командование своего учителя генерала Маркова.
Зина тихонько охнула и испуганно прикрыла рот рукой:
– А мы?
– А мы остаёмся, – с горечью сказал Тимофей, – мы с тобой нужны здесь. – Он на мгновение взял руки невесты в свои и прижал к груди: – Я люблю тебя больше жизни, но тем не менее почитал бы за счастье быть рядом с Севой и разделить с ним солдатскую долю. Неспокойно мне…
Зина посмотрела в побледневшее лицо жениха, сосредоточенно перебиравшего пузырьки матового стекла, заткнутые тугими резиновыми пробками, и поняла, о чём Тимофей боялся сказать вслух.
– Ты Севу словно навек провожаешь.
– Навек?
Тимофей положил в аптечку кровоостанавливающее средство и задумался. Зина права. На душе лежала неимоверная тяжесть расставания, словно не было надежды увидеть брата вновь.
До Петрограда долетали слухи о боях с большевиками, о переходивших из рук в руки донских станицах, о больших потерях Белой армии, насмерть стоявшей против одурманенных обещаниями земли и воли красноармейцев.
– После смерти Кристины и Сева хочет погибнуть, – высказала своё предположение Зина.
– Это неправильно! – остановил её Тимофей. – Пути Господни неисповедимы! Подумай о нашей дорогой Досифее Никандровне! – напомнил он Зиночке о своей наставнице. – Досифея была уверена, что жених погиб, и двадцать лет оплакивала потерю, а он оказался жив! – Тимофей, горячась, взмахнул рукой, но тотчас остановился, услышав весёлые детские голоса в гостиной: Ольга Александровна и дети беспечно разбирали вещи, ещё не зная о предстоявшей разлуке.
Зина перехватила его взгляд и нахмурилась, тревожась за Ольгу Александровну. Сегодня, впервые за последнее время, домашние вновь увидели её милую открытую улыбку. И вот теперь её ждёт тяжкое известие об уходе на фронт единственного сына…
19
Всеволод ушёл ранним утром, когда над городом ещё клубилась ночная дымка сизого тумана, чуть подсвеченная розоватой зарёй с востока, вытеснявшей за горизонт восковую луну. На улице было неестественно тихо, даже весёлый соседский петух ещё не проснулся, и заскрипевшие под тяжестью нескольких человек доски крыльца, казалось, разбудят всю округу.
За ночь на щеках Всеволода появилась лёгкая щетина, но бриться он не стал, коротко пояснив семье:
– В целях конспирации.
Тимофей подумал, что даже в рабочей одежде, обросший и осунувшийся, Всеволод всё равно выглядит князем с уверенными элегантными манерами, военной выправкой и тем невыразимым словами благородством, которое вырабатывется лишь долгими годами безупречного воспитания.
– Ну, я пошёл, – спокойно сказал Всеволод, стараясь не выдавать своего волнения.
Он поцеловал в щёку Ольгу Александровну, на ходу полуобнял Зину, дотронулся до рукава Петра Сергеевича и подошёл к Тимофею:
– Не поминай лихом. – Обняв брата, он прошептал ему в самое ухо: – Если будет возможность, то разыщи могилу Крыси.
– Обещаю, – глухо бросил Тимофей, краем глаза увидев, как Ольга Александровна поднесла руки к горлу, словно её душил весенний воздух, обильно сочившийся запахами оттаявшей земли.
Тёмный дом блестел чисто вымытыми окнами, в которых не было света, и Тимофей вдруг вспомнил светившийся огнями особняк Езерских и насмешливый голос мальчугана с аккуратно подстриженной чёлкой, сбежавшего из родительского дома на прогулку: «Это меня ищут. Разрешите представиться. Я – князь Всеволод Езерский».
Звук хлопнувшей калитки за Севиной спиной прозвучал в вязкой предрассветной тишине как удар похоронного колокола, и берёза у забора сиротливо качнула вслед ветками:
– Свидимся ли?
Если бы не дети, то из-за ухода Всеволода Ольга Александровна наверняка слегла бы. Но Лиза, Ванька и тощий золотушный Сила требовали неусыпной заботы. Лизу надо было обшить, у девочки совершенно отсутствовала приличная одежда, молчаливый десятилетний Ванька громко кричал по ночам, а Сила, помимо малого веса, рахита и коросты на щеках, абсолютно не умел читать. Правда, за обучение чтению Ольга Александровна не беспокоилась: в этом вопросе можно было вполне положиться на господина библиотекаря, который после тюремных переживаний начал понемногу приходить в себя.
Все остальные члены семьи были заняты с утра до вечера.
Пётр Сергеевич ходил на службу в свою клинику принца Ольденбургского, переименованную новым правительством в «Больницу памяти жертв революции», Зина с тётей Симой целыми днями хлопотали по хозяйству, разыскивая продукты и обстирывая большую семью, а Тимофей, не решаясь пока выйти на улицу, вскапывал большой огород, готовя почву под посадку картофеля. Ещё не подсохшая после зимы земля поддавалась с большим трудом, выворачиваясь мокрыми пластами, оплетёнными корнями давно не кошеной целины. Когда Тимофей уставал, то поднимал голову и смотрел на облака, представляя, что в эту минуту Сева тоже смотрит на небо, над которым не властны никакие земные силы…
В первый же день оказалось, что от крестьянской работы он отвык: черенком лопаты он моментально натёр кровавые мозоли, а спина надсадно ныла от усталости. «Совсем городской стал парень», – укорил бы его в этом случае дед Илья, всегда требовавший от внука усердия в работе.
Когда огород был перекопан дважды, Тимофей удовлетворённо оглядел проделанную работу, поклонился на все четыре стороны, как всегда делал его дед, и выговорил присказку, без которой в его родной Соколовке ни один хозяин к севу не приступал: «Матерь Божья! Гавриил архангел! Благовестите, благоволите, нас урожаем благословите: овсом да рожью, ячменем, пшеницей и всякого жита сторицей!» И от этой ли присказки, веками повторявшейся русскими мужиками, или от вольного духа родной земли, Тимофеем внезапно овладело полное спокойствие. «Что бы ни случилось, какая бы власть ни пришла, земли и неба у нас никто не отнимет!» Он вытер натруженные руки, крепко воткнул лопату в землю у первой борозды и решительно вошёл в дом, объявляя во всеуслышание:
– Завтра я выхожу на работу.
– Как? – замерла у печи Зиночка, ловко управлявшаяся с большим чугуном кипятка. – Тебя поймают и снова посадят в тюрьму.
– Не думаю, – пожал плечами Тимофей, – во-первых, большевиков тревожит Белая гвардия и им не до меня, а потом, навряд ли комиссарша Клава знает, где я работаю. Век за забором не просидишь, а больные требуют помощи. Мой медальон ежедневно напоминает мне о врачебном долге, – он вытащил из-за ворота золотой кулон с чашей, обвитой змеёй, и поднёс его к губам.
Тётя Сима бросила крошить выменянную на серебряную солонку свёклу и всплеснула руками:
– Ахти нам! Что удумал! Не пущу! Подожди чуток, кончится проклятая советская власть, тогда и пойдёшь. Ольга Александровна, вы слышите, что Тимка говорит? Он в свою больницу собрался!
Княгиня вышла из комнаты, где вместе с Лизой перешивала ей юбку из своей шотландской пелерины, и пристально посмотрела на Тимофея:
– Ты принял окончательное решение?
– Да.
– Тогда всё в порядке. – Она повернулась к тёте Симе и укоризненно посмотрела в раскрасневшееся лицо старушки: – Серафима, пора смириться с тем, что наши мальчики уже взрослые люди и вправе распоряжаться своей жизнью. В Российском государстве только одна личность может как угодно располагать любым человеком в империи – это законный государь.
Тимофей совсем не ожидал поддержки от Ольги Александровны и в который раз убедился в силе духа этой необыкновенной женщины. Воистину, нет предела человеческому мужеству!
Чтобы разрядить обстановку, он умильно чмокнул тётю Симу в морщинистую щёку и, как в детстве, заискивающе заглянул в глаза:
– Я огород вскопал.
– Неужто весь? – удивилась она, немного смягчаясь. Но суровые складочки на лбу домоправительницы говорили о том, что тётя Сима крайне не одобряет опрометчивого решения своего Тимошки, будь он хоть трижды доктор.
– Хоть бы ты Тимку образумила, – чуть позже выговаривала она Зине. – Чует моё сердце, накличет Тимка беду на свою растрёпанную головушку. Сейчас время лихое, лучше ему дома пересидеть, пока снова царь-батюшка на престол не вернётся. Вон соседка, что мне курей продала, сказывала, будто в соседней слободе корова чёрного козлищу родила. Рогатого, с бородой и двумя хвостами: белым и чёрным. Бабка-кликуша как увидала, так и закатилась в крике: пришёл конец света. Хвосты-то знаешь что означают? – она так требовательно глянула на Зину, что та была вынуждена поинтересоваться:
– Что?
– А то, – многозначительно поджала губы тётя Сима, – один хвост – белый день пропадёт бесследно, другой – чёрная ночь растает. И не будет в России ни дня, ни ночи – одно марево. Трава расти прекратит, воды под землю утекут, а народ в два года повымрет.
Зина обтёрла чистым полотенцем найденную в буфете посуду, которую старательно перемывала с утра, и сокрушённо вздохнула:
– Тётя Сима, ведь ты верующая, православная, к лицу ли тебе во всякие байки верить? Подумай, что бы тебе отец Михаил сказал, если б слышал, какие ты нелепые суеверия разносишь?
Старушка обиженно фыркнула:
– Не хочешь, не верь, а помяни моё слово: бывать на Руси серому мареву.
Зина выглянула за окно и впрямь увидела серое марево, укутывавшее кусты парной дымкой от преющей земли, по которой важно бродили три пёстрые курочки – гордость тёти Симы. Пеструшки усиленно копошились крепкими лапами в куче прошлогодних листьев, не обращая внимания ни на какие мировые революции.
Тётя Сима заглянула через Зинино плечо во двор, полюбовалась на своё приобретение и кликнула маленького Ванятку, сунув ему в руки тарелку с кожурой от варёной картошки:
– Иди, голубчик, покорми курей. Да погромче их покликай: «цыпа, цыпа». Понял?
Мальчишка послушно схватил тарелочку и, тайком засовывая в рот ещё тёплые очистки, принялся кормить ненасытных.
– Вот и Тимошка почти такой же был, когда его доктор Мокеев на вокзале подобрал.
Только Тимкины волосёнки больше пшеницу напоминали, а этот, вишь, словно воронёнок, – прослезилась тётя Сима, глядя на вихрастую макушку мальчика, одетого в тёплую душегрею бывшей хозяйки дома, доходившую ему до колен.
Ваньку можно было бы назвать красивым, если бы не странное выражение лица, на котором никогда не мелькала даже мимолётная улыбка. Он всегда смотрел сурово, прямо перед собой, обиженно поджав полную нижнюю губу.
– Дяденька, ты Ваньку не трогай, – предупредила Тимофея Лиза в первый же день переезда на новое место жительства, – он у нас особенный, три раза сирота.
Она рассудительно сложила руки на коленях, покрутила головой, проследив, чтобы рядом не было Ванькиных ушей, и объяснила:
– Сперва их с отцом мать бросила, когда Ванюхе три года исполнилось. Ему бабка рассказывала, что мать красивая была, молодая, но с норовом. Бешеная. Да и себе на уме. Уж не знаю, что она там надумала, но в один день собрала вещи, и поминай как звали. Отец его, рабочий с Балтийского завода, ушёл на мировую войну. Там и голову сложил. А бабку Мотю, отцову мать, бандиты убили, которых Советы из тюрем повыпускали. Ввалились трое каторжников к ним в дом: «Давай, – говорят, – бабка, деньги, а то прирежем». А какие у старухи деньги? Никаких. Вот они её и зарезали. Прямо на Ванькиных глазах. С тех пор он смурной у нас. Разговаривать не любит. Только поёт иногда. Жалобно так:
Не уезжай ты, мой голубчик!
Печальна жизнь мне без тебя.
Дай на прощанье обещанье,
Что не забудешь ты меня…
Лиза очень похоже показала, как Ванька качает головой, словно кукла-неваляшка, и заунывно выводит немудрёную мелодию.
Двенадцатилетнего заморыша Силу Лиза охарактеризовала как бедового парня, которого надо крепко за вожжи держать, а не то он такого начудит, что не расхлебаешь.
Сама Лиза считала себя умудрённой жизнью женщиной и держала мальчишек в полном подчинении. Стоило ей мигнуть глазом, как оба её подопечных мчались выполнять указания со всем усердием, на какое были способны. Именно Лизина серьёзность и рассудительность не дали ей пропасть в первые же недели после исчезновения матери.
«Пойду в деревню к родне, может, хоть меру крупы выпрошу», – были последние слова, сказанные дочке Катериной Семёновной. Деревня располагалась неблизко, и мать наотрез запретила девочке идти с ней. «Вернёмся, а наши вещи по соседям растащены», – опасалась она за немудрёное имущество, состоявшее из нескольких тарелок, медного чайника и оклеенного картинками сундучка из липовых досок. Вот Лиза и осталась. Знала бы, что мать пропадёт – волоком бы за ней волоклась, на коленках ползла, но одну нипочём бы не отпустила.
Ожидая мать, пару дней девочка просидела у окна в тесной комнатушке подвального этажа. Комнатка принадлежала злющей тётке Василисе, однако единственной из всех хозяев в округе, согласившейся сдать им с матерью угол за ситцевым пологом.
Ещё пару дней, Лиза бегала по немногочисленным знакомым, расспрашивая, не видал ли кто Катерину Семёновну, а ещё через неделю ушла в обнимку с сундучком куда глаза глядят. О том, чтобы оставить девчонку жить у себя, хозяйка и слышать не хотела. Разговор был короткий: «Не платишь – выметайся».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?