Текст книги "Краски. Путь домой. Часть 5"
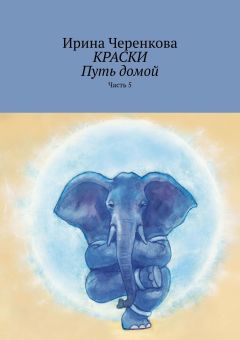
Автор книги: Ирина Черенкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Стоп, Офелия не замужем! Этот факт вдруг ударил ее обухом по голове, да так сильно, что она едва доработала смену. В состоянии мозговой комы она закрыла карточку волонтера и переоделась, покинула дом престарелых и, не в состоянии выбрать себе трамвай или направление движения, поймала первое попавшееся такси до дома. Совершенно не ориентируясь в пространстве, она рассчиталась с таксистом и вылезла у знакомого светло-фисташкового здания, за ссуду которого Джонатан расплачивался в одиночку, и из которого она с такой легкостью его выгнала, считая жилье своим личным. Интересно, где он сейчас? Не дом, Джонатан, конечно же.
Словно в бреду, Офелия забралась старческой поступью на высокие ступени крыльца, усыпанного жухлыми листьями иссохшихся растений в кадках. Она совсем забыла о том, что их нужно поливать. Кое-где на стенах жилища уже начала отколупываться краска, а грязный налет на панелях второго этажа намекал, что за ним давно не ухаживали. Обычно по весне Джонатан лез со шлангом и шваброй по лестнице и мыл их, но не в этом году.
Скидывая на ходу свою одежду, Офелия мечтала лишь об одном – отмыться от этого заведения. Тяжелой походкой больного и изможденного человека она ворвалась в ванну и ошалела от своего отражения. Из зеркала на нее глядела пучеглазая старуха с жидкими всклокоченными волосами, осунувшаяся и морщинистая. Митч оказался прав, она ужасно постарела. С мужем женщина хоть как-то держала себя в строю, пытаясь всеми силами показать Джо, как ему повезло с женой, такому никчемному и безобразно мягкому, но сейчас совсем запустила себя. У нее просто не стало стимула мазаться снадобьем из баночек на туалетном столике и укладывать волосы феном всякий раз после мытья головы. Даже отмывать дом на вред ему не требовалось, и Офелия заросла седой пылью и паутиной под потолком.
Осторожно, будто делала это впервые, она протянула руку к пересушенной тряпке, висевшей в шкафчике под раковиной для сантехнических нужд, и намочила ее под тугой струей воды. Сначала боязно, словно делала что-то недозволенное, потом смелее, она принялась протирать горизонтальные поверхности своего логова. Для себя. Впервые в жизни. Со странным теплым чувством в груди, заботой и благодарностью к себе и стенам дома. Она мыла жилище с любовью и трепетом, вычищая пыль и песок, белесым слоем покрывшие ее мир за долгие недели без влажной уборки.
Офелия поднялась на второй этаж и прошла шваброй комнаты своих детей, где образовался уже плотный сизый налет из нежилой пыли. Следом смыла весь мрак со спальни, поменяла постельное белье, простынь которого уже отдавала желтизной в месте, где женщина лежала ночами, не двигаясь, словно мертвец. Далее пришел черед занавесок и окон. И ничего, что начала она уборку в сумерках, а закончила глубоко за полночь – для гигиены своей жизни не может быть неподходящего времени.
После их супружеского гнезда владелица дома, несправедливо полученного в единоличное владение без споров и тяжб, отправилась отмывать себя. Распаренная и натертая мочалкой до яркого румянца, Офелия принялась смазывать тело кремами из баночек. Сначала так же осторожно, не до конца понимая, для чего она это делает, а после с усердием и нежностью, словно учась любить свою кожу заново. Или впервые, кто знает.
В половине второго ночи она уставшая, но довольная нырнула, наконец, под чистое белоснежное одеяло. В груди теплилось доселе неизведанное чувство, но теперь, когда женщина угомонилась и легла в кровать, замеченное ею. Оно чесало изнутри ребра, жгло сердце и распирало действием руки и голову. Растекалось улыбкой по лицу, блаженством по телу и слабостью в конечностях. В этом непонятном ощущении Офелия распознала чувство самоуважения, такое странное и чужое.
Она засыпала в довольстве и почти что счастливая, и уже повернулась было на бок к супругу, чтобы сообщить ему о своих достижениях, но вовремя вспомнила, что кровать пуста. Ну и ладно, она проживет это в одиночестве.
Спустя неделю такой жизни морщинки на ее лице начали потихоньку выправляться, волосы обрели былой блеск и объем. Офелия старалась не лениться с укладкой шевелюры и уборкой кровати, как и с накрыванием стола на себя одну. Она начала входить во вкус, изучая любовь к себе, как диковинного зверя, и даже сообразила на руках кое-какой маникюр. Когда эти нехитрые заботы вошли в ее привычку, сердце, наполненное невероятным полетом, буквально потребовало поделиться с кем-то своими достижениями. Но вокруг нее никого не было. Никогошеньки! Даже котов она не выносила. Что там, котов, у нее даже не было растений в доме!
Растения, конечно же!
Вспомнив про свои засохшие кусты, женщина решила начать облагораживать и их. Два жильца, отмокнув в питательном растворе, дали ростки, а вот оставшиеся три горшка с растительными скелетами оживить не удалось. Навестив ближайший магазин с горшочными цветами, она приобрела пару фикусов и раскидистую драцену, пока реанимированные роза и бальзамин осваивались в новой почве. С ними она и решила поделиться своими достижениями. Цветы оказались прилежными слушателями, и уже к концу июня стали колоситься и цвести, кто как умел.
Их семейная идиллия могла продолжаться долго, если бы однажды, пересчитав своих подопечных, Офелия не вскрикнула от ужаса. В ее руках оказались пара старомодных еле выживших растений и три новых, два из которых были одного вида, а третье – другого. Это же четко ее семья когда-то!
Оторопев, женщина даже на какое-то время бросила уход за цветами, потратив все силы на осознание факта. Конечно же, бальзамином, нежным и податливым, был Джонатан, а розой, строптивой колючей бестией, которая цвела, когда ей вздумается – и только ей одной! – она, Офелия. За сутки без полива бальзамин тут же опустил веточки с сочной зеленью и приуныл. Роза же наоборот ощетинилась, казалось, колючими стали даже листья и едва начавшие набиваться бутончики. Как символично, прямо до мигрени!
Два фикуса припустили без контроля женщины так, что вскоре пришлось менять им кадки, словно только и ждали, когда карга оставит их в покое. Корни заполнили всю площадь и потребовали дальнейшей свободы, они даже дали «деток» от той же корневой системы, умилив Офелию «внуками» до румянца на пожилом лице.
Но больше всего ее удивила драцена. Негласно окрестившись Нилом, она замерла в росте. Занимаясь рассадкой фикусов, Офелия лишь к середине июля обнаружила, что та не меняется совсем. Узкие листья, колючие и безжизненные, как у нее самой, делали вид, что ничего не происходит, пока от прикосновения рук женщины растение не надломилось у земли. Оказалось, корневая система пальмовидного питомца сгнила, хотя снаружи казалось, что все в полном порядке, и одеревеневший ствол держался возле почвы лишь на нитях перегноя.
Когда до садовода дошло, что ее питомец мертв, Офелию разбила истерика. Сперва она тщетно пыталась приладить ствол к корешку, вкопать его поглубже, привязать веревочкой в конце концов! Она уговаривала его ожить, молила, плакала, обещала уделять больше внимания, все, что угодно, только живи! Но драцена лишь растеряла листья от излишне агрессивных манипуляций.
В полушоковом состоянии она вошла в дом и за закрытой дверью разрыдалась в голос. Она выла раненным зверем, бесновалась, не желая смиряться с потерей, злилась на растение, что бросило ее в этом сумасшедшем мире, потом рыдала, обиженная, и снова злилась. Даже попыталась начать ругать бога, но довольно скоро изнутри пришло яркое осознание своей невменяемости.
– До полноты безумия осталось обвинить бальзамин в смерти драцены, – прохрипела она контужено.
Это было бы логично с ее складом характера, ведь именно это она сделала, узнав о смерти сына – обвинила в ней неуследившего мужа.
Ощущая разорванную потерей грудную клетку и острую резь в горле от неудержимого рева, Офелия вдруг очнулась. Постаревшая одинокая мать троих детей, разведенная и оставленная всеми в покое. Как она хотела. Мечта сбылась.
Она вернулась за трупом драцены и понесла сгнившее растение на крошечный задний двор. Там, где так и не удалось поставить желанную ею альпийскую горку за нехваткой места, превозмогая себя, она выкопала небольшую яму под сухим дерном и, обливаясь слезами, вывалила содержимое горшка в землю, после чего вернулась с растительных похорон в дом абсолютно опустошенная.
Мир потерял краски. Казалось, с погибшей драценой она похоронила часть себя, часть своей семьи, жизни. Боль когтистыми лапами рвала сердце, а ватный разум не видел смысла жить дальше. Отчаявшись справиться, Офелия принялась делать то, чего не принимала в своей жизни ни под каким соусом. Она начала молиться. В силу того, что она никогда этим не занималась и не знала ни одной «официальной» молитвы, она бубнила то, что лилось из сердца. Женщина просила прощения у творца, у семьи и сына, у драцены, даже у бальзамина, что забывала заботиться о нем, страдая. Она просила смирения и покоя своей измученной душе, а потом и всего самого прекрасного оставшимся «растениям» – Джонатану, Эмме и Мелани. Она молила создателя о счастье своим родным, о лучшей судьбе и любви, которой некогда не смогла дать она.
И только в момент, когда женщина начала благодарить бога за ниспосланные испытания, боль начала отступать. Сначала она притупилась, освободив грудь для глубокого прерывистого вздоха. А потом и вовсе раскрылась огненным горячим цветком в сердце, согрев его своим дыханием.
Офелия поднялась с пола, не понимая, как она на нем оказалась, и двинулась в кладовку. Там из коробки с фотографиями семьи она выбрала несколько альбомов и, слегка пошатываясь, побрела к гостиной, где плюхнулась на диван, рассыпав тяжелые талмуды с историей молодости. На секунду задумавшись, она выбрала большой коричневый фолиант и раскрыла его на первых страницах.
С нецветных картинок на нее смотрели счастливые молодожены: совсем детское доброе лицо Джонатана, обрамленное удлиненными волосами, и улыбчивая сияющая физиономия девушки рядом с ним, невесты. Кто это такая? Разве может она так светиться? Шокированная дама в возрасте пролистала еще пару страниц – абсолютно все фотографии со свадьбы искрились теплом и довольством, будто бы Офелия могла быть радостной когда-то с этим человеком.
Страницы показывали немое кино ее свадьбы, и к концу торжества женщина была уверена на все сто процентов: девушка на фотографиях – самая счастливая из всех, что ей приходилось видеть в жизни. Офелия, обалдев от этого осознания, округлила глаза и раскрыла рот, не в состоянии поверить очевидным доказательствам.
Ведь память выдавала совсем иную картинку. Она с самого, с самого начала их совместной жизни ощутила себя в тюрьме, куда ее загнали вредоносные действия матери! Не могло быть такого, чтобы она улыбалась! Свадьба стала для нее приговором на пожизненное заключение! И если до рождения детей она свято верила, что вскоре сможет набраться мужества и сбежать от неугодного партнера, навязанного родительницей, то при появлении Эммы ее надежды рухнули осколками разбитого стеклянного замка.
Но невеста улыбалась. И Офелия вдруг поняла одну простую вещь: не «сдай» ее тогда мать замуж, она сама бы ни за что не выбрала замужество, и уж тем более с таким «водянистым» персонажем, как Джонатан Портер! Так бы и продолжила таскаться по «крепким коньякам» большой выдержки или «игристым винам», бьющим в голову далеко не здравым смыслом. Получается, мать спасла ее от бремени шлюхи? Неизвестно, где и с кем бы она была сейчас, если бы не надежный супруг.
Руки долистали альбом до картинок с беззубым младенцем. Малышку обнимали любящие родители, по улыбкам которых не возникало сомнений – пара жила душа в душу и была безмерно счастлива появлению в их чете ребенка. Молодая Офелия улыбалась во весь рот, тискала дочку, которая с каждой страницей все больше росла и оформлялась в красивую девочку, так похожую на нее саму. Бесформенные пеленки стали сменяться на ползунки, а потом и на юбочки, из-под которых выглядывали еще неокрепшие ножки Эммы. Погрязнув в воспоминаниях, она не заметила, как ее щеки стали мокрыми от вдруг нахлынувших слез.
Повинуясь внезапно проснувшемуся материнскому инстинкту, Офелия закрыла альбом с воспоминаниями и направилась на второй этаж в комнату дочери. Тихий дом поскрипывал старой лестницей под ее ногами, напоминая ей о былых временах, когда она по этому скрипу узнавала, что семья спускается на завтрак.
Тугой спертый воздух навалился на нее из нежилой конуры, выдохнув в лицо запах пыли и лежалой ветоши. Эмма жила в самой маленькой комнате под скатом крыши, которую выбрала сама на правах старшей из трех имеющихся. Офелия долгие годы не могла понять, почему девочка так поступила, пока уже после ее отъезда в пылу очередной ссоры Нил не выдал тайну сестры.
– Чтобы сбегать через крышу из этого ненавистного дома под покровом ночи! – Выплюнул он своим басовитым голосом, который повышал крайне редко. – Чтобы ты не знала об их похождениях с Беллой и не орала лишний раз!
Оглушенная воплем мертвого ребенка, мать постояла посреди комнаты, едва дыша, и вдруг шагнула к окну. Руки сами открыли запор рамы и подтянули нижние конечности к подоконнику. Офелия перекинула ноги через уступ окна и оказалась на покатой крыше, заканчивающейся стоком в футе от ее ног. Повинуясь каким-то диким инстинктам, женщина спрыгнула на бетонный сток и, осторожно ступая, прошла между двух стоящих вплотную друг к другу домов – своего и соседского, пока гладкая от дождей битумная дорожка не закончилась ступенчатой стеной между их крылечками. Раз, два, три – и Офелия оказалась на соседской подъездной дорожке перед фасадом здания.
Вероятнее всего, живущая в этом доме семья Джонсов, знала о проделках ее дочери. И они еще смели улыбаться строгой женщине, здороваясь по утрам перед школой и службой. Предатели! Ни один из них не сдал старшую дочь строгой матери, что же это за соседи такие? Ее привычный мир рассыпался на сотню двуликих зеркальных кусочков.
Вздохнув глубоко и смиренно, она пробралась через низкие кусты к своему крыльцу и, не готовая лезть назад тем же опасным с ее точки зрения путем, вошла в дом «по-человечески». Тут ее нервная система, давшая трещину уже довольно давно, не выдержала, и Офелия, потеряв остатки сил и разума, осела на пол прихожей, скользнув спиной по входной двери. Она ничего не знала о тех людях, которые жили с ней под одной крышей и звались ее семьей.
Слез не было. Она сидела на входе в ворохе ботинок, которые раньше заставляла всех ставить ровно и красиво, не считая сейчас это таким уж важным делом, и отупело смотрела пустым взглядом во всю длину коридора до дверей супружеской спальни. Время, которое ей было однажды крайне важно, вплоть до лишней минуты, никогда не бывавшей лишней, вдруг остановилось, не имея ценности более.
Спустя вечность она поднялась с пола и побрела назад в комнату Эммы. В ее голове, покрытой кое-где седыми волосами, появился странный план, позволяющий, как она надеялась, узнать свою пропавшую дочь немного лучше. Оказавшись в знакомом узком пространстве, срезанном частью крыши у самого потолка, Офелия улеглась на кровать дочери и, устроившись так, как та любила лежать, прикрыла глаза. Она представила, что где-то внизу в спальне есть ее родители, через стену от нее в центральной комнате с царским эркером живет замкнутый в себе брат, с появлением которого в три года у нее закончилось детство, а за его хоромами – визгливая младшая сестра, за плач которой всегда влетало.
– Перестань ее задирать! – Визжала Офелия на Эмму, когда Мелани снова отстаивала свои права воплем. – Невозможно жить в этом доме с такими криками!
Женщина сжалась в комок от собственного голоса, звенящего в мертвенно тихом доме отголосками прошлого, и поняла, что безмерно хочет убежать отсюда. В окно. А там привычными шагами по стоку, три ступеньки, газон соседей и – свобода!
Офелия закрутилась в покрывало с постели дочери и, повернувшись на бок от темнеющего окна, уставилась в бежевую стену, ставшую в сумерках темно-голубой. Беззвучные слезы все же набрякли на ее обрамленных морщинами глазах и скатились по щеке и носу на подушку. Женщина сжалась в комок, ощущая холод космического пространства в глубине своего сердца.
Она прожила в спальне дочери неделю. Сполна ощутила ужас той, когда мать заставляла драить весь дом, казавшийся непосильно огромным по сравнению с ее девичьей каморкой. Почувствовала скрип лестницы под ногами, оповещающей жильцов о том, что кто-то спускается по ней, и поняла, отчего Эмма выбирала окно и крышу. А заодно и осознала, что затворничество и беспрекословность, за которые мать так любила старшую дочь, были замечательной ширмой для иной жизни. Жизни, в которую Офелию не посвящали, потому что она осудила бы. Начала бы скандалить. И в ответ на свои вопли слышать неизменное:
– Мам, ну ничего же не произошло! Ну, что ты начинаешь?
Только сейчас, яростно пытаясь понять свою дочь хоть немного, Офелия посмела признаться себе, что не беспокоилась за саму девушку. Ею всецело владело странное чувство стыда за дочь перед людьми. С молодостью и беспечностью Эммы, с ее возможностями быть свободной люди вокруг могли подумать, что за той совсем не следит мать. И Офелия следила изо всех сил. Как глупо!
Если бы она влюбилась, то на месте Эммы сделала бы то же самое – убежала бегом из этого холодного дома, где главным аргументом для воспитания было слово «нельзя». А почему? Вероятно, человек, устанавливающий правила, сам не знал причин к своему душевному дисбалансу, но пытался найти их в близких.
Однако переехать к мужчине без официального брака, как это сделала Эмма в итоге, а потом и забеременеть от него – это прямой путь к жизни матерью-одиночкой, как жила Жаклин все эти годы! Офелия предостаточно насмотрелась на сложности одинокого бытия и просто пыталась спасти от этого свою старшую дочь, если не уразумением, то угрозой отречения, что в этом плохого? Кто же думал, что Эмма воспримет это с радостью и всерьез?
Черт ее дери, эту Жаклин! Ведь именно мать виделась ей в собственной дочери!
– Вы обе меня бросили! – Выдохнула Офелия, устав от злобы в сердце, и та уступила место боли и слезам, запертым в нем долгие годы.
Ей стало безмерно жаль, что все так вышло с Эммой! Ведь если Алистер ее бросил – а он несомненно ее бросил, потому что мужчин нужно сразу же привязывать к себе браком и убеждением о их несостоятельности, чтобы не сбежали – то единственной поддержкой, которая у нее могла быть, это она, Офелия. Но, раз та не вернулась в отчий дом, вероятно, у нее все было хорошо. И непонятно, что вызывало больше тревоги у женщины: что у ее дочери все хорошо без нее, или что у той все чрезвычайно плохо.
К окончанию июля Офелия официально переехала назад в супружескую спальню, пережив по отношению к Эмме полный спектр эмоций: от всепоглощающего чувства вины до гнева за непослушание, от сожаления и безумной тоски до отречения от родства и огненной ненависти. Итогом ее перипетий с самой собой стало ровное принятие дочери такой, какая она есть. Исчезнувшей из ее жизни по понятным причинам, не появляющейся здесь уже много лет, чужой. Никакой. В конце концов, какая разница, как ты относишься к человеку, который, скорее всего, живет лишь только внутри тебя? Сама по себе Эмма уже отметила свой сорок седьмой день рождения и наверняка имела внуков.
Все это время Офелия не забывала ухаживать за своими питомцами на крыльце, а те в свою очередь радовали ее цветением. Бутоны розы раскрылись и выпустили бархатистые шапки цветов, а бальзамин раскинулся ярко-алым облаком вокруг глиняного горшка. Фикусы же наплодили отростков, которые женщина перестала отсаживать от основного растения. Их эластичные изумрудные листья сияли гладкой чистотой и ухоженностью, радуясь вниманию садовода. Солнечный Сан-Франциско, не отставая от главного возделывателя домашних культур, купал ее подопечных в ежедневной ванне из ультрафиолета и свежего океанического воздуха. Казалось, сама вселенная заботится о ее зеленой семье, как же приятно!
На очередной плановой уборке дома Офелия обнаружила в гостиной сваленные кучей альбомы, оставленные ею когда-то в моменты душевных невзгод. Свято веря, что все самые жуткие эмоции, связанные с фотографиями и семьей, позади, она, не предвидя ничего дурного, уселась на диван с тем самым коричневым фолиантом.
Первые страницы с уже привычной веселой свадьбой принялись ею с улыбкой. Она ностальгически вздыхала над их первым с Джонатаном поцелуем в роли мужа и жены, умилялась воспоминаниям по распределению торта, и пустила скупую слезу на первом танце молодых. Казалось, иначе и быть не могло. Их свадьба была самым счастливым событием в ее жизни.
Дальше пошли привычные картинки с первенцем. Пеленки, ползунки, юбочки, сандалики. Вот Офелия с большим круглым пузом и трехлетней Эммой за руку. Потом с коляской. Эмма заглядывает в детскую кроватку, оценивая хмурым взглядом нарушителя спокойствия. Счастливый Джонатан с не менее счастливым наследником в руках. Первые шаги Нила. Вот яркие картинки с семейной фотосессии в специализированном ателье, которую подарили им на годовщину свадьбы родители Джонатана незадолго до своей смерти. Сын в клетчатых брюках и клетчатом галстуке-бабочке на юбилее у ее матери.
Офелия, прервавшая приборку и рассевшаяся за альбомом в домашних штанах и тунике, даже не сняв с головы косынки, полностью погрузилась в прошлое. Лучи солнца, бьющие в окно гостиной, щекотали ей нос и подсвечивали зависшие в воздухе пылинки. Руки добрались до окончания альбома, где Нилу исполнилось три года, а Эмма начала посещать подготовительные к школе занятия. Прекрасное было время.
Она закрыла фолиант и протянула руку к следующему, темно серому. И с первой же страницы, на которой ожидались картинки ее улыбчивых детей, на нее взглянули зеленые глаза Нила, полные укора и тяжести. Цветная похоронная фотография с черной косой полосой сбоку оказалась заложенной в первый попавшийся альбом, который никогда не будет вытащен из кладовки. Офелия выпустила из рук увесистый том и вскрикнула, отпрыгнув от дивана.
Портрет сына осенним листом опустился на пол гостиной и замер возле ее ног. Дрожь разбила все ее тело. Женщина осела на колени и подняла портрет, понимая, что призраков бояться глупо. Встрепанные чуть волнистые волосы, веснушчатый вздернутый нос, полные губы отца, и этот взгляд. Казалось, он прошибает им насквозь.
– Я не сделала ничего дурного, дорогой, – дрожащим голосом произнесла она, но сын не смягчился во взоре – еще бы, ведь это была всего лишь фотография. – Это ты меня оставил здесь! Бросил. Одну. Да, я была не одна, но они все… Они…
Нужных слов не нашлось. Конечно же, у нее остались близкие люди вокруг. И Нил лишил себя гораздо большего, чем ее. Но, тем не менее, Офелия ощущала себя преданной им до глубины души, словно парень обещал ей что-то и не исполнил наказ. Портрет вернулся назад в альбом, начисто отравив дальнейшее желание к просмотру картинок. Кто же положил его сюда, в том с детскими фотографиями?
Память выдала сдерживаемую годами волну воспоминаний. С Нилом никогда не было проблем в детстве. Мальчишка рос на радость мамы с папой, беспрекословно слушаясь их и продолжая линию Портеров в полной ее мере, пока не началось половое созревание. Тут Офелия представления не имела, что делать с подростком, как его учить правилам полового этикета и общепринятой гигиене. А Джонатан, работавший тогда на две ставки для выплаты займа на дом, оставил супругу одну с этим вопросом, вроде как забота о детях – это ее «работа». И действительно, она сама выбрала быть дома с детьми, но, рожденная в семье матриархата в третьем поколении девочек, Офелия представления не имела, что такое мальчик, и с чем его едят. И если физически она справлялась неплохо, подмывая младенца с интересными причиндалами и читая ему книги на ночь, то на его расшалившуюся психику ей не хватило знаний.
И мать начала прививать сыну целомудрие и сверхкритичную избирательность, примерно такие же, какие требовались ее дочерям по ее уразумению, вплоть до контроля круга общения. Неожиданно со стороны сына начались ссоры и обиды, вызванные внезапно активировавшейся строптивостью юнца. Нил не понимал азов жизни, не соглашался с ценностями родительницы, но и перечить не смел, отчего в доме стало расти напряжение. Джонатан же при виде этих проблем умывал руки!
– Боже, так это не ты меня бросил, дорогой мой, а твой отец! Джонатан решил уйти из семьи на работу, будь он неладен! – Воскликнула женщина.
Она распахнула альбом и достала обратно портрет сына с черной лентой. Слезы застилали взор, размывая привычные очертания гостиной. Она сжила со света ни в чем неповинного ребенка, тая обиду на его отца. Гореть ей в аду.
Подняв с пола отяжелевшее вдруг тело, женщина поплелась в кладовку, где в горе́ ненужных вещей нашла рамочку. Руки делали свое дело, пока ноги сами несли ватный разум в комнату сына, самую обширную и богатую на втором этаже. Широкий эркер на две трети стены заливал помещение золотистым сиянием, освещая стоявший неподалеку рабочий стол с настольной лампой. Вдоль стены устроился диван, полный журналов для взрослых, которые нашлись, когда родителям пришлось разбирать личные вещи погибшего сына. Диван никогда не расстилался, потому что Нилу было все равно, где и как спать. Однажды Офелия разобрала парню постель, но, спустя неделю расшвырянных по комнате простыней, собрала назад, осознав всю глупость затеи.
Она поставила рамочку с фотографией на стол и плавно опустилась на край дивана, благоговейно глядя на сына. Какой же он красивый!
«Был», – отрезвляюще напомнил холодный рассудок.
При этом неведомые силы подняли ее взгляд к своду эркера, где Нил в свое время приладил турник, на котором в итоге и повесился. Офелия довольно отчетливо увидела очертания висящего тела сына, мелькнувшие на долю секунды и тут же исчезнувшие, словно само место помнило его гибель.
Ужаснувшись фантомов прошлого, она вскрикнула, но вовремя зажала себе рот ладонью, испугавшись резкого звука из собственного горла. Дыхание сбилось. Она никогда не спрашивала, как был одет Нил, потому что нашли его Мелани с Джонатаном, а сама Офелия увидела сына уже в морге, раздетым, прикрытым больничной простыней. Но сегодня она точно распознала его темно-зеленую футболку с гитарой и потертые серые джинсы. Боже, как теперь забыть эту картинку?
«Теперь ты довольна?» – Словно удар кулаком в челюсть, донесся до ее внутреннего слуха его голос.
– Но я ничего не… – Проблеяла Офелия, но не договорила.
Разум выдал воспоминание об их последней ссоре, после которой Нил замкнулся в себе. Не сильно, конечно, не сильнее, чем это было в школьные годы или в любые другие сложные времена, чтобы Офелия заметила разницу, но все же. Он так же здоровался с ней по приходу домой, благодарил за завтрак, но перестал рассказывать о себе. Совсем. С того момента, когда однажды хмурым весенним днем пришел к ней в спальню и признался, что до потери себя влюблен в Изабеллу Робертсон.
– В эту проститутку?! – Возмутилась тогда Офелия. – Худшей пассии и выбрать нельзя! Ты в своем уме? Она спала со всеми, у кого есть!..
Бранное слово она сдержала, да, но полный брезгливости взгляд – нет. Нил, пришедший к ней в берлогу с открытым сердцем, получил в него удар кувалдой. Этот взгляд на фото. Офелия не забудет его никогда, ведь в тот день она была вознаграждена именно таким взором раненного возлюбленного, ставшего вмиг бессердечным.
– Ты не сможешь ничего сделать, я все равно люблю ее, – доложил сын безразличным тоном, но лицо выдавало подавленность.
– Придушу своими руками, если посмеешь ослушаться, – прошипела мать, теряя бразды правления над выросшим ребенком.
Промолчав, он вышел из ее комнаты и больше не заговаривал об этом. Все лето их дом был погружен в анабиоз, самое прекрасное время ее жизни! Тишина, полное отсутствие забот и хлопот, что может быть лучше? Но за пеленой спокойствия скрывалось нечто большее, потому что после тихого лета их семья начала рушиться.
Дочери, как догадывалась теперь Офелия, были в курсе об их с Нилом разговоре. Теперь ей казалось, что все были в курсе, даже соседи. Набравшись тогда духа, она поговорила об этом с мужем, и тот кивнул, нисколько не удивившись.
– Ты ничего не сделаешь? – Возмутилась она.
– Разве что вырвать ему сердце, – пожал плечами безвольный студень.
– Не студень, – поняла Офелия, подав голос в этой страшной комнате.
Как же он был прав! Какая разница, кого любил сын, если теперь он был мертв? Придушен ее руками, превратившимися в ремень брюк, на котором он и свел счеты.
Размазанная собственными воспоминаниями, она разрыдалась в голос. Казалось, она только сейчас осознала потерю близкого человека в полной мере, будто до этого знала о трагедии лишь понаслышке, по глупым россказням зевак и сплетников. Офелия упала ничком на диван сына, спрятав лицо в ладонях, не в силах смотреть больше на солнечное окно, и взвыла волком, вынужденным отгрызть ногу, застрявшую в капкане.
Там она и нашла себя наутро с растрепанными волосами, валяющейся на полу косынкой и разбитым сердцем в груди. Огромная дыра зияла там, где раньше было тепло.
Женщина вспомнила, как жила недавно в обители старшей дочери и, решив, что страшнее ночи, проведенной в комнате мертвеца, ничего уже быть не может, согласилась на очередную терапию. Ночь за ночью она впитывала его отчаяние, оставленное в каждом уголке логова сына, оплакивала каждый дюйм его тела, ушедшего таким молодым, выкрикивала каждое слово, которое не успела сказать ему живому. Портрет с черной полосой стерпел все. Казалось, он даже одобрительно заулыбался, но это абсурд, он же всего лишь фотография!
Когда Офелию взяла апатия, прекрасным выходом из которой увиделся крепкий турник на окне, манивший ее присоединиться к судьбе Нила, она решила, что довольно. Трех недель хватило на понимание причин и следствий, пришло осознание, что все участники играли по отведенным им правилам, а трагедия – это лишь результат того, чего уже не изменить. Нет виноватых. Нет потерпевших. Есть лишь ужасный опыт того, как не следует больше делать. Никогда.
В гардеробе нашелся строгий темно-серый костюм, в котором Офелия щеголяла по профсоюзу когда-то, и черная блуза без рукавов. Облачившись в траурный наряд, женщина повязала на голову платок и отправилась туда, где не была двадцать три года, с самых похорон сына.
Кладбище за это время очень сильно изменилось и разрослось. Если бы не управляющий, то Офелия никогда бы не нашла старую его часть. Усопших обнесли кованой изгородью в два человеческих роста и закрыли массивными воротами, увенчанными огромным крестом, будто боялись, что их кто-то растащит извне, или они разбегутся сами. Как ни странно, настроение ее, в унисон погоде, было лучистым и солнечным. Сердце не рвалось на части от боли, а душа была полна лишь тихой теплой скорби и благодарности, что Нил пожил с ними хотя бы столько.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































