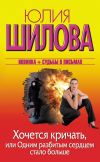Текст книги "Купец и русалка"

Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Катя внесла в столовую самовар. Григорий Сергеич спал в кабинете, тяжело и жалобно дыша. Рукава его белой рубашки были закатаны, брови сведены, он еле слышно скрипел зубами. Елена Антоновна сидела на корточках возле дивана, не сводила с него глаз. Она понимала, как крепок этот сон, и поэтому осторожно, не боясь потревожить, гладила его лицо и волосы. Потом поднялась, прошла через столовую, где кругленький пил крепкий чай, читая газету, в своей комнате вывалила из шкафа всё его содержимое и вдруг переоделась в белое холщовое платье, купленное еще в Лозанне после одной из велосипедных прогулок. В зеркале отразилась не она, а юная девочка, испуганная, с решительным, горящим лицом. Елена Антоновна чувствовала, что пробил её час. Что он, который спит мёртвым сном, теперь в её власти. Пускай не надолго. Ей не пришло в голову даже удивиться, что в такой момент она помнит только о своей любви и стремится завладеть любимым человеком, несмотря ни на что. Какая-то жгучая сила толкала её изнутри, ей не было страшно и не было стыдно.
Он спал. Он все спал. Елена Антоновна опять опустилась на корточки, прижала лицо к его волосатой руке.
Прошло минут десять, не больше. Григорий Сергеич вскочил.
– Жива?!
– Да, жива! Да, конечно, жива! – Елена Антоновна тоже вскочила.
– А вы что здесь делали? Там нужно быть!
Не надевая башмаков, он побежал к дочери, натыкаясь на мебель. За ним из столовой заторопился кругленький доктор, вытирая рот салфеткой.
– Помилуй, Григорий Сергеич! Да что же? Ты и получаса еще не спал!
Больная лежала в том же положении, в котором её оставили, только лицо было другим: задумчиво-строгим, спокойным, таким, как будто бы что-то сейчас проясняется, и главное, не пропустить. Худая, поросшая черными блестящими волосками рука, напоминающая лапку лесного зверя, с полоской засохшей коричневой крови на правом мизинце, была словно чем-то отдельным от тела.
– Тата? – выдохнул доктор Терехов, наклоняясь к этому спокойному, прояснившемуся лицу.
Кругленький со стоном ужаса поднырнул под его локоть, сдернул с тела простыню и припал щекой к груди Таты. Григорий Сергеич его отшвырнул.
– Татуся! Что ты? Не пугай меня, Тата!
Ничего страшнее не слышала Елена Антоновна, чем короткий визг, который, как показалось ей, не мог вырваться из горла доктора Терехова, а, скорее, из перееханного колёсами щенка. Но визг повторился, и это был он.
– Да, да! – Кругленький закричал и заплакал. – Не дышит, не дышит! Убей меня, Гриша! Убей, виноват! Да как же я мог пропустить? Как же я… Ведь было же всё хорошо! Ведь дышала! Дышала же, Гриша! Как Бог свят: дышала!
То, что случилось потом, Елена Антоновна плохо помнила: все лица, слова и предметы подёрнулись красным, и сквозь это красное, которое вдруг прорвалось, как материя, проплыло покорное детское тело, которое гладил и мял сильными, дрожащими руками Григорий Сергеич, надавливая на грудь с бледно-розовым, маленьким, как высохшая земляника, соском, на живот, и эта картина сменилась другой, не менее жуткой: взъерошенного и кричащего доктора от тела оттаскивали посторонние люди, которые не понятно как оказались в квартире. И кто-то накидывал белую тряпку на мертвую Тату, а он эту тряпку срывал, и кто-то пытался ему помешать, внесли что-то вроде носилок, но доктор отмел всех и вырвался, принялся снова массировать, мять, наклонялся, смотрел, прикладывал ухо к холодной груди. Потом высокий доктор с бородкой и плачущий кругленький доктор вкололи ему что-то в руку. Григорий Сергеич обмяк, сел в кресло, умершую вынесли. Елена Антоновна слышала, как в коридоре кто-то говорил: «Сердце не выдержало, интоксикация зверская, не выдержало, да, просто зверская, зверская…», и ей показалась, что связь между лапкой лесного зверька и этим повтором «да, зверская, зверская» совсем не случайна. Потом она заметила, что кресло, в которое он рухнул, то самое, продавленное кресло, где Тата часто проводила ночь, опустело. А значит, он встал и куда-то пошёл, никто его не останавливал…
Она нашла Терехова в кабинете. Он лежал, забывшись, в неловкой позе. Лицо его было озлобленным. Как будто ему было нужно спешить, бежать, а он вдруг свалился, не может подняться, но как только встанет, он сразу расправится с теми, которые влили в него эту гадость! Она глубоко вздохнула, осторожно распрямила его ноги, подложила под голову подушку, плотно закрыла дверь, чтобы никто не беспокоил их, и тихо легла рядом.
Безымянная русалка всё больше и больше отличалась от подруг, играющих жемчугом, праздных, веселых, тем взглядом, который всегда появлялся, когда она молча смотрела на берег, особенно на купола золотые. Во взгляде её появилось усилие. Оно и на дне её не оставляло. Да, высохла память. Как звали, не помню. Но, кажется, помню: дом был на Ордынке. На дне всё играют. Им весело, глупеньким. Вот рыба плывет. Все смеются: вот рыба. А вот длиннохвостые юркие детки. Они родились у беспечных русалок, которые сразу про деток забыли. Забавно, смешно. Детки, детки, ау! Услышишь расплывчатый звук поцелуя, так знай, что какая-нибудь из подруг опять приманила кудрявого парня и нежно ласкает его и целует, хотя он уже побелел и не дышит. Он тоже, наверное, умер от смеха. Конечно, и ссоры, и драки случаются. Русалки всегда посылают друг друга подальше к чертям: «Иди, говорю тебе, к черту, зелёная!» И эта зелёная – бульк! – и под камень. Опять-таки, очень смешно. Кому же охота отдаться рогатому? Они до отвратности сластолюбивы. Пока всю зубами насквозь не прокусит, пока не наставит кровавых засосов на нежных плечах, черт из пекла не выпустит.
Короче, чудесная жизнь, бесконечная. А эта смотрела, смотрела, смотрела. Дом был на Ордынке. Дом был на Ордынке. Но как его звали?
Григорий Сергеич очнулся первым. Он не удивился, увидев рядом с собой спящую Елену Антоновну. Напротив, посмотрел на неё с рассеянной нежностью и пошел обратно в детскую. Катя уже замыла кровь и теперь заправляла на кровати свежее бельё, словно Тата должна была вскорости вернуться домой и лечь спать. Она слабо вскрикнула, увидев доктора Терехова, и начала быстро креститься. Он потрепал её по плечу.
– Ну-ну, – бодро сказал он. – Рыдать ни к чему. Что с обедом у нас?
Катя выкатила белки.
– Обедать пора, – повторил он спокойно. – Пошли Степаниду на рынок. Пускай купит рыбы. И свежего сыру. Но сыру пускай возьмет нам французского, у Елисеева.
Катя в ужасе поклонилась ему и исчезла. Она прошмыгнула на кухню, слезливо прошептала что-то в самое ухо кухарки, после чего они вдвоем заперлись и носу не показывали. Григорий Сергеич ровным и тихим шагом обошел всю квартиру и снова вернулся в кабинет, лег на краешек дивана. Елена Антоновна открыла глаза.
– Что, Ляля? – спросил он негромко. – Пока её нет, можно и полежать.
– Кого пока нет?
– Да дочки моей. Ты, верно, ведь знаешь? Она умерла.
И он усмехнулся неловкой усмешкой. У Елены Антоновны похолодела спина.
– Григорий Сергеич… – Она тихо всхлипнула.
– Не нужно, не нужно! – Он замахал руками и некстати, как всегда, ярко улыбнулся. – Всё знаю отлично! Всё знаю. Они наказали меня.
– Кто: они?
– Ну, этого ты не поймешь. Ведь я говорил, что, когда моя Тата на свет появилась, она не дышала. Ведь я говорил тебе, да?
Он перешел на «ты», но это не обрадовало, а ужаснуло Елену Антоновну.
– Вы мне говорили.
– Но я её спас! Жена-то уже отдала Богу душу, а Татка кричать начала. И я ей сказал, моей Оленьке: «Не бойся. Всю жизнь на неё положу. А ты отдыхай, ты намучилась, бедная». Ну, Оля ушла, а мы с Таткой остались. Они говорили: «Лечить её нужно». Лечить от чего? Объясни: от чего? Я помню, ей было лет шесть или семь. Я тиф подхватил, ездил на эпидемию. Лежал у себя. Она ко мне каждую ночь прибегала, садилась в ногах. Вот так до утра и сидела, как мышка. От этого что? Есть лекарства? Какие?
Он коротко захохотал.
– Вернётся, сама её спросишь.
– Вернётся?
– Конечно, вернётся. Куда же ей деться? И вновь усмехнулся неловкой усмешкой.
– А я, кстати, знаю один такой фокус… – Григорий Сергеич прищурился. – Давай-ка попробуем. Ложись со мной рядом и думай о ней. И я буду думать. Кто первый увидит, тот, значит, и выиграл.
В квартире было темно. За окнами шел снег. Телефон в коридоре надрывался. Потом позвонили в дверь. Кухарка пошла открывать и звенела цепочкой, пока открывала. Мужской голос произнес что-то неразборчивое, наверное, спросил, как Григорий Сергеич. Кухарка ответила, шамкая, плача.
– А, спит? Пусть поспит, – сказал мужской голос. – Записочку вот передай, как проснется.
Дверь захлопнулась. Кухарка вернулась на кухню.
Григорий Сергеич большими горячими руками принялся расстегивать на гувернантке платье. Она замерла от страха, но с каждой секундой восторг нарастал, тело стало гореть…
– Красивая грудь у тебя, – шепнул он. – Ведь я так и думал, что очень красивая. А ты оказалась еще даже лучше. Ты взглядов моих, что ли, не замечала?
Он поцеловал её голую грудь.
– При Татке мне было нельзя. Запретила. Такая малютка была, а ревнивая! И всё повторяла, что мама вернётся. Жена моя, Оля. Я ей объяснял, что мёртвые не возвращаются. «Откуда ты, папочка, знаешь? Откуда?» Так все говорят. А она за своё! «Увидишь – вернётся. Проснёмся, а мама в столовой сидит».
Григорий Сергеич с ласковым недоумением покачал головой. Сухие ищущие губы прижались сначала к щеке гувернантки, потом оцарапали ей подбородок. Он жадно припал к её рту, раздвинул его, и горячий язык ударил по небу, обжег и застыл… Она задохнулась. Никто никогда её не желал с такой силой. Никто. Она вся раскрылась навстречу. Сглотнула с готовностью его горькую слюну, почувствовала слабый вкус табака на своих деснах и сразу упала на спину, раздвинула ноги под клетчатой юбкой.
В середине лета на дне заметили, что русалка становится равнодушной к играм, всё чаще норовит выскользнуть на поверхность и глаз не спускает с земли. Пошептались с чертом. Ответил готовностью. Выбор пал на молодого купца Хрящева. Тот собрался, снял сапоги, чтобы полы не скрипели, бутылку водки в карман засунул, картуз надел и садами, огородами, как мальчишка какой-нибудь, выбрался к реке. Закинул удочку. Русалка вынырнула посмотреть, хорош ли купчик. С дворянским сословием решили не связываться: те летом разъезжаются по имениям, дачи нанимают, играют в любительских спектаклях. Июльская ночь была тёмная, вся в трелях, как в кружеве. Как раз для греха. И Хрящев понравился. Захаживали ведь и другие купцы, заманивали, предлагали колечки. Короче, вели себя как с балеринами. Там лебедь какой-нибудь вспрыгнет на сцену, руками блеснёт и, закинув головку из мрамора, всю в оперении, пойдет семенить, не касаясь паркета. А в ложе стоит пучеглазый купчина – спина в серой перхоти – да и решает, которого лебедя звать в номера? Вот этого слева аль этого справа?
Как только Григорий Сергеич поднялся с дивана, на котором Елена Антоновна еще постанывала слегка от только что пережитого счастья, он словно бы сразу забыл про неё, поправил свой галстук, не снятый им с позавчерашнего дня, отошел к окну и задумался, опустив плечи. Снег, шедший всю ночь и зажегший всю землю своим белоснежным огнём, вдруг погас. Зато стало ветрено, хмуро, тревожно, и гнулись к сугробам деревья, как будто пытались расслышать, что им говорят из самой земли.
– Её унесли? – спросил Терехов глухо.
– Её? – испугалась Елена Антоновна.
Он с досадой махнул рукой, нетвердыми шагами направился в кухню, где прятались горничная с кухаркой.
– Катя, самовар поставь, – приказал Григорий Сергеич. – Пить хочется. Я еду в больницу. Никто не приезжал, пока я спал?
Кухарка подала ему записочку. Он бегло пробежал её глазами. Руки его сильно дрожали.
– Да, именно так я и думал. Да, да…
Стоя в пальто, он выпил стакан крепкого чаю с тремя кусками сахара, потом вернулся к Елене Антоновне. Она сидела на диване в измятом белом платье, без чулок, поджимала под себя озябшие ноги.
– Мне нужно уехать, – сухо сказал Терехов.
– Мне с вами? – спросила она, заикаясь.
– Со мной? Нет, куда вам со мной? Ни к чему.
Григорий Сергеич сморщился, как будто пытался разрешить в голове какую-то тяжелую задачу, но, видимо, сдался.
– Елена Антоновна, – так же сухо, не глядя на неё, сказал он. – Видите, какие обстоятельства? Я дочь потерял. – Он скрипнул зубами. – Просить у вас извинения за то, что произошло между нами, я не буду. Вы видели: был не в себе. Вкололи в меня, дураки… Что было, то было. А вы ни при чем. Вы очень хорошая барышня.
Она хотела что-то сказать, возразить ему и не смогла. Зажала ладонью трясущийся рот.
– Вам нужны деньги, – быстро добавил он. – Возьмите. Вот, вот. Ведь я ваш должник, – вынул бумажник, вытащил толстую пачку денег, положил ей на колени и сразу отдернул руку, словно боялся испачкаться. – Будут еще нужны, напишите, я сразу же вышлю по адресу. Еще что? – Он сморщился снова. – Вы можете жить здесь пока. А как её похороню… Не знаю, что сделаю с этой квартирой. Возможно, что сдам и уеду куда-нибудь. Вот, кажется, всё.
Она зарыдала. Вскочила. Схватила его за рукав. Он высвободился и отошел к двери.
– Ну, что вы? – спросил он. – Какая вы, право… Ведь это же я потерял дочь, не вы. – Лицо стало злым и закрытым. – Позвольте пройти мне, Елена Антоновна.
Дверь хлопнула. Катя внесла самовар.
– А чаю-то как же? Ведь чаю просили…
В своей комнате Елена Антоновна сняла платье и, оставшись в одной тонкой рубашке, сразу легла, укуталась в русский народный платок. Опять же, остался еще со Швейцарии, там в них щеголяли все народоволки. Она чувствовала, что выхода нет никакого и нужно как можно скорее умереть. Но как умереть? А эта болезнь, дифтерит или как её? Она ведь заразна? Вот если бы ей повезло заразиться! Елена Антоновна представила, как Григорий Сергеич возвращается домой и Катя докладывает ему, что гувернантка заболела. Он входит, видит её раздувшуюся, как это было у Таты, шею, красное потное лицо, чувствует её гнилое дыхание… Да всё, что угодно, но только не это! А как же тогда? Она вспомнила, что один товарищ, с которым все и всегда горячо спорили, повесился в Цюрихе, оставив глупую, самодовольную записку. Но повесился, дурак, не до конца, спасли. Нет, тоже не выход. К тому же уродливо. А нужно придумать, как сразу исчезнуть. Чтобы ничего не осталось: ни капельки, ни волосинки. И вдруг её как осенило: огонь! Он сразу обнимет её, всю обнимет, и кончится жизнь. Елене Антоновне стало смешно. Вот вам и свобода! Жила-была Лялечка и вдруг сгорела. Всхлипывая и смеясь, Елена Антоновна скинула платок в розовых и красных цветах по чёрному полю, сняла панталоны, подвязки. На кружеве панталон, на подвязках был терпкий и сладостный запах любви. Она их прижала к лицу на секунду и поцеловала, взволнованно, нежно. Потом, как была, без чулок, без рубашки, скользнула в столовую. Вот она, лампа. Полна керосина. Плеснула немного на руку. Подумала. Плеснула еще. И еще. Жуткий запах. А ну, как кухарка и Катя не спят? Хотя что им делать еще? Спят как мертвые. И всё-таки лучше бы выйти на улицу. Она взяла спички и вышла на улицу. Темно, неприютно. И небо так близко. А там, в небесах, вся семья: мать, отец. И Вася. Все там.
– Простите меня, – прошептала она.
Последний раз она просила прощения только в детстве, давным-давно. Кажется, это было под Новый год. Да, под Новый год, потому что в зале стояла, переливаясь, большая наряженная елка и пахло хвоей. Под ёлкой лежали подарки для всех детей. Десятилетняя Лялечка развернула один из подарков, самый большой, и спрятала в своей комнате. Она вспомнила, как горячо пылали свечи на ёлке, когда мама втащила её обратно в залу и велела ей объяснить, зачем она это сделала, испортила праздник. Тогда она долго просила прощения. И обе они с мамой плакали. Елена Антоновна так живо вспомнила запах хвои, блеск и дрожь свечей, теплые мамины руки на своём лице – мама отирала её слезы и успокаивала её. Как было хорошо. Как всё хорошо было, как замечательно, пока не пошли эти несчастья, не согнулся отец, не притихла мама и дома – особенно по вечерам – казалось, стучит чье-то сердце. Стучит и стучит. И было тревожно и страшно от этого.
Елена Антоновна плеснула керосином себе на грудь, потом на волосы. Подняла глаза к небу. Ей захотелось, чтобы родные видели её в эту минуту и помогли ей. Но небо было пустым, хотя что-то мягко, еле-еле, стекало с него на землю, как стекает с тряпок, которыми прокладывают старые подоконники.
– Ах, ладно, неважно! – сказала она.
Поднесла спичку к голове, и волосы с готовностью вспыхнули. Огонь моментально разросся. И вдруг он запел, побежал живо вниз, где было раздолье: и плечи, и руки… Она запылала всем телом. Так, всею корой, всеми листьями, пылают деревья.
Это была не боль, а что-то другое, чему нет названия на человеческом языке. Елена Антоновна закружилась на месте, глаза её вылезли из орбит. Она закричала, но крик её сразу прервался: горело лицо, и огонь попал в горло. Тогда она вдруг побежала. Объятая огненными лохмотьями, беззвучная, с вытянутыми руками – на каждой по пламенному крылу – она долетела до набережной. Лёд плыл по Москве-реке. Важный и громкий. Уже наступал блекло-сизый рассвет, и, запорошенные тающим снегом, огромные льдины прощались друг с другом и шли умирать неизвестно куда.
В этот ранний час на Раушской набережной не было народу. Но двое каких-то серьезных, хмельных, в дырявых полушубках, которые, обнявшись, брели из кабака, увидели чудо и перекрестились. От ближнего дома катился огонь, и было внутри его – нет, не лицо, а рваное что-то, сгоревшее напрочь, но, как утверждали они: по сгоревшему текли ярко-чёрные слезы. На том, что слёзы были ярко-черными и очень обильными, пьяницы настаивали особенно, когда прибывшие полицейские начали выспрашивать подробности. Этими подробностями они запутали полицейских окончательно. Один из них оказался, как на грех, слишком словоохотливым и всё время перебивал приятеля, который, тужась и заикаясь, пытался что-то вспомнить, но словоохотливый махал на него рукой, на которой не было мизинца, и быстро, брызгая слюной, рассказывал, как прямо на их глазах в воду упало горящее существо, которое не могло быть ни мужчиной, ни женщиной, а было, скорее всего, зверем небесным. Короче, антихристом.
– Спалить хотел Первопрестольную, – объяснял мужик без мизинца. – Господь не пустил. В реку кинул. В реке и утопло. Я верно вам всё говорю, так и было. Господь не пустил. А то бы иначе всем миром погибли. Живой бы души на Москве не осталось.
И всхлипывая, он перекрестился на купол церкви, чей колокол вздрогнул, готовясь к заутрене. Воспользовавшись короткой паузой, приятель его принялся излагать свою версию, которая полностью отличалась от только что услышанной.
– Совсем не зверь, ваше превосходительство. Ничего зверского, а женщина. Но точно из ада, не наша, не здешняя. Идем мы оттудова, значит, беседуем, а видим: бежит. И огнём её жарит. И всё она кружится, кружится. Потом вроде в воздух её подняло. Как будто и ног под ней не было. Во как! А после на льдину – как шмякнет! И там, в этой льдине, всё черное стало. Чернее золы. А уж после под воду.
Хрящев вернулся домой из страховой конторы и хотел было опять выпить, чтобы избавиться от тоски, но пить было некогда. Нужно было разъяснить самому себе, что это за шаг он нынче сделал. Выходило, что, желая повенчаться с малознакомой русалкой, он застраховал две сразу жизни: маменькину и женину. Вернее сказать, три жизни, потому что жена была беременна на восьмом месяце. Проще говоря, и маменьке, и жене с младенцем во чреве хорошо бы как можно скорее умереть, чтобы влюбленный муж и сын получил значительную сумму денег на устройство своего счастья. Как только Хрящев сформулировал наконец существо дела, его бросило в жар и пот градом покатился по его несчастному лицу. Затея ужасная. Он попытался вспомнить, кто именно натолкнул его на эту затею, но в голове начало всё расползаться.
– Не сам же я это придумал! – отчаянно забормотал Хрящев. – Мне бы такая пакость и во сне не приснилась! Но женщина точно была. С хвостом. Красивая женщина.
Он вспомнил, как закинул удочку и как её начало сильно дергать, так сильно, что он чуть было не свалился на песок. А потом появилась эта красавица с необыкновенно блестящими серебристыми плечами и такой прекрасной, совсем голой грудью, что даже сейчас, представив себе эту грудь с ярко-розовым и крупным соском, купец чуть было не застонал во весь голос.
– Так и вышло, что она мне полюбилась, – продолжал он бормотать. – Но не настолько, чтобы маменьку с Татьяной на тот свет отправить, совсем не настолько! Жениться я ей предлагал, это правда, но только без всякого зверства в семье. Хотел развестись, как теперь все разводятся, а денег хотел на хозяйстве урезать, хотел лес тамбовский продать, но без крови…
Он почувствовал, что одно звено во всей этой истории явно провисает, что был кто-то еще, кто и виноват в том, что Хрящев отправился в страховую контору, но если он по причине запоя не покидал своей спальни, где же он мог познакомиться с этим человеком?
– А может, и не человеком. А кем? – Пот прошиб его с новой силой. – Кого ж я к себе подпустил?
Он подошел к зеркалу и внимательно всмотрелся в него. Собственное лицо показалось ему отвратительным. Оно было красным, маслянисто блестело, и пот тёк ручьями на шею. Но самым ужасным было то, что за спиной своего отражения Хрящев увидел еще одно, принадлежащее кому-то знакомому, худому, ехидному, с поджатыми губами.
– А этот откуда? – беспомощно всхлипнул купец, заслоняясь руками от зеркала. – Вот он-то во всём виноват! А я-то при чем? Когда я – человек? Человек в своих поступках не волен! Он всё и подстроил! А я вот возьму да и перекрещусь! А я вот возьму да и плюну в мерзавца!
Он поднял непослушную, словно свинцом налитую, правую руку и попробовал перекреститься, но крестное знамение вышло неубедительным и слабым. Рука не подчинялась купцу, тянуло её во все стороны.
– Вот, значит, ты как? Ну а ежели плюну? Возьму вот и плюну! В глаза твои тошные!
Тошные глаза быстро заморгали, лицо отвернулось, а густой плевок Хрящева до зеркала не долетел.
– Ну, ты, брат, даешь! – прошептал Хрящев. – Оставь меня, а? Боюсь, я с тобой таких дров наломаю…
– А дамочка как же? – шепотом спросили его из зеркала. – Ведь сам же жениться позвал! Ты вспомни, какие у ней атрибуты! Вот так и отступишься?
– А вот отступлюсь! – запальчиво крикнул Хрящев. – Нам с лица не воду пить!
– С какого лица? Ты формы-то вспомни, голуба моя, телесные формы!
– Да, формы… – И Хрящев смутился. – Конечно, Татьяне такое не снилось. Особо сейчас, когда вся как кадушка…
– А то! – ухмыльнулась ехидная рожа. – Чем спорить, ты лучше бы старших послушал.
Вдруг свежая мысль осенила купца. Он весь побледнел от волнения.
– Вот, говорят, в Индии ни одной свадьбы не сделают без того, чтобы астрономы не произвели специального умозаключения…
– Какие еще астрономы! – разозлился его собеседник. – Ну, что тебе Индия? Где тебе Индия?
Хрящев немного смутился, потому что ему действительно не было никакого дела до Индии, но сдаться, пойти на попятный не мог. Он принялся со всем жаром протрезвевшего рассудка размышлять об Индии, и казалось, что сейчас только Индия поможет ему побороть дурные страсти.
– От нас далеко, – рассуждал бедный Хрящев. – У нас, скажем, снег, а у них там жарища. Все голые ходят, включая и женщин. – Опять повело на запретную тему: он быстро запнулся. – Включая детей. А бабы в платках. Ну, змеи, конечно. Змей у них очень много. У нас вот ужи, а у них одни змеи. Но яблок и вишен не сыщешь. Народ бананами кормится. Фиников много. Откуда вон у Елисеева финики? Написано: «Финик сушёный. Индийский». Идешь по прошпекту, а вместо извозчиков – слоны так и шастают. Транспорт такой. Садись на слона и езжай куда хочешь. Конечно, картина весьма впечатляет. Не то что у нас: снег повалит – сиди. У нас, говорят, оттого много грязи, что мы, значит, пьем. Типа, значит, спиваемся. А в Индии что? Тоже бедность да грязь. И пьют они тоже не меньше, чем мы.
Внезапное сопоставление родной земли с таинственной Индией увлекло Хрящева, и мысли его приняли серьезно критическое направление. Прежде, все двадцать восемь лет своей жизни, он редко вмешивался в споры, то и дело разгорающиеся в купеческих собраниях, и если особенно горячие умы, вроде того же Пашки Рябужинского, нахватавшись невесть чего в Париже, принимались разбираться, по какому пути направиться России: не то ей на Запад, не то на Восток, Хрящев начинал зевать, скучал, отворачивался и в конце концов примыкал к тем, которые, махая рукой, говорили:
– А чё там? Идём и идём. Никому не мешаем.
В связи с Индией вспомнилась Хрящеву и большая, весьма потрепанная, поскольку передавалась она из рук в руки, индийская книга под названием Камасутра, когда-то завезённая в Россию Афанасием Никитиным, родным прадедом одного из одноклассников Хрящева. Виталий Никитин прадеда своего не слишком жаловал, говорил, что тот, увлекшись путешествиями и прочими фантастическими идеями, спустил состояние, чтобы снарядить этот самый корабль, нанять капитана, матросов и юнгу, а дом, свой родной, русский дом, где жили его дети, внуки и правнуки, пустил под откос и оставил ни с чем. Пьянствовать Виталий Никитин приучился еще даже раньше Маркела Авраамыча, а именно: в третьем классе гимназии, и частенько приходил на уроки Закона Божия под хмельком, косил голубыми глазами, хихикал, и батюшка Савва, всегда очень добрый и любящий свою детскую паству, его огорченно вышвыривал вон. Индийская книга Камасутра, принесенная Никитиным в гимназию тоже в третьем классе, большим успехом не пользовалась, поскольку была лишена иллюстраций, а русские школьники любят картинки, и эти абстрактные уведомления совсем ни к чему. В конце концов, книга осела у Хрящева. Много раз принимался он за чтение, но то ли перевод был некачественным, то ли времени не хватало у купца, но доходил он каждый раз до шестнадцатой страницы, которая объясняла простому человеку сексуальную позу под названием «Зевок», и на этом успокаивался. Теперь же, в связи со своими рассуждениями по поводу Индии, Хрящев достал Камасутру, которую прятал обычно за печкой, боясь как бы ей не попасться случайно ни маменьке и ни супруге. Он начал листать, удивился тому, что следует людям копировать разных лягушек и змей, подражать их звукам, представил, каков бы он был, подражая шипенью змеи или кваканью жабы, и как напугалась бы насмерть жена – пожалуй, еще и врача бы позвали, – потом перестал удивляться, задумался. Ему пришла в голову важная мысль. Она была мыслью весьма необычной, исполненной гордости за государство, в котором ему довелось народиться и где он поныне живет, хлеб жует, а время придет помереть, он помрет без всякой без Индии, здесь, на Пречистинке.
«А враки, что это из Индии! Враки! – подумал купец. – Ведь Кама-то – наша река. Наша, кровная. А «сутра» – неверно написано. Когда ты разделишь два слова, получится: с утра, вот и всё! То есть занимайся супругой с утра, а ночи не жди. Ночью спать полагается».
И вдруг на душе у него полегчало. Не всё так погано, как черт описал. И в Индию можно совсем не ходить. А кстати: ходил ли Никитин? А то написать-то легко. Любой вот возьмет да напишет.
Рассуждение об Индии и особенно последний вывод, к которому пришел Хрящев, вспомнив о реке Каме, подняли настроение, и, хоть, как вино, в нём бродила еще коварная память о скользкой красавице, которую выплеснула река на крепкую грудь его, но всё-таки меньше кипело в душе, не так, как когда он сидел в страховой.
Иногда именно лень становится той положительной силой, с помощью которой человек уходит от греха. Потому что человек существо ленивое, и чем больше препятствий приходится ему преодолевать, чтобы достичь заветную цель, тем быстрее он охладевает к ней, а вскоре уже и перестаёт понимать, что это его так привлекало. Хрящев был от природы стыдлив и застенчив, не было в нём развязности золотой молодежи вроде Пашки Рябужинского, да и денег не было, чтобы швыряться ими направо и налево. Потеряв девственность в определенном заведении, он очень угрызался этим и вскоре посватался к Татьяне Поликарповне не потому, что голову потерял от неё, а потому, что решил как можно скорее зажить порядочной семейной жизнью. Любви, однако, не получилось. Бывает так, что, если возьмешь половинку скорлупы у одного грецкого ореха и приложишь её к половинке скорлупы другого грецкого ореха, по виду такого же, целого ореха всё равно не получится, как ты ни бейся. И с жизнью семейной такие же казусы. Вроде и мила была молодая невеста в своей подвенечной фате, и трогательной мелкой дрожью дрожала рука её, державшая свечку, и вздрагивали густые ресницы над застенчиво опущенными глазами, и кончик кокетливого башмачка слегка выглядывал из-под кружевного богатого платья, а сердце в женихе словно застыло, и ощущение было такое, что не его венчают, а кого-то другого. Даже и страха никакого не было. Он вскоре заметил, что Татьяна Поликарповна была веселого и смешливого характера, любила и наряды, и театры, и ярмарки, и летние гулянья, но не хотелось ему ни баловать молодую жену, ни тратиться на её удовольствия, ни дачу нанять. И ведь не от скупости, а потому что не подходили они друг к другу, как половинки двух разных грецких орехов. В супружеских обязанностях Хрящев старался быть незабывчивым, исполнительным, да и молодость брала своё: нельзя же человеку двадцати с лишним лет совсем обходиться без женщины, но только, исполнив обязанность, он с облегчением отваливался от Татьяны Поликарповны, даже и не поцеловав её на прощание. Засыпал крепко и сны видел тусклые, долгие, вязкие, похожие больше на реку осеннюю, чем на человеческий сон. Вот тогда, в самые первые месяцы своей семейной жизни, и начал он всё чаще прикладываться к бутылке, но делал это втайне от маменьки, которая жила с ними одним домом и очень могла рассердиться. Вспоминалась ему одна история, связанная всё с тем же Рябужинским, которого Хрящев поначалу от души презирал за его увлечение безродной курносой француженкой. Татьяне Поликарповне очень хотелось сходить в театр. Было это в самом начале её беременности, она слонялась по дому растерянная, часто плакала и вызывала жалость к себе этой своей растерянностью, слезами и, главное, тем, как подурнело и расползлось её милое молоденькое лицо. Взяли два кресла в Малом, где давали в этот вечер трагедийную пьесу Шекспира «Отелло, венецианский мавр». И Хрящев, и все остальные заметили – нельзя было не заметить, – как в самую главную ложу вошла эта парочка: французская мадмуазель с Рябужинским. Она, курносая, широкоскулая, с огромными бархатными глазами, с ямочками на щеках, одета была в черное сверкающее платье (таких платьев в Москве не видывали, должно, из Парижа выписали!), на шее какое-то тоже сверканье. Была весела и спокойна, оглядывала публику, как королева, и веером черным махала, а Пашка Рябужинский стоял за её спиной, весь с иголочки, лицо горело, смотрел ястребом: того и гляди кинется, посмей кто-нибудь косой взгляд бросить на его содержанку. Весь город знал, что завтра бы он обвенчался с мамзелью, – одно удерживало: отец обещал проклянуть и денег лишить. Без денег с такой королевой – куда? И Хрящев позавидовал. Он и на сцену-то не глядел толком, а всё на эту ложу и заметил, как Пашка в полумраке то и дело наклонял к плечу своей ненаглядной напомаженную голову, шептал что-то ей, брал за ручку, кусал и ласкал её пальчики, а эта курносая лишь усмехалась. И еще заметил Хрящев, что перед ними, на красном бархате ложи, стояла огромная открытая коробка шоколада, которая так и осталась неначатой…