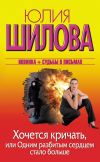Текст книги "Купец и русалка"

Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Поздно, уже к полуночи, вернулись они с Татьяной Поликарповной домой. Её затошнило, бедняжку, а Хрящев бросился, не раздеваясь, на постель, и стали перед его глазами проплывать воспаленные видения: вот Пашка и француженка с бархатными глазами входят в спальню, она присаживается к своему парижскому зеркалу, а Пашка становится на колени, задирает на ней сверкающее платье, вминается в эти её кружева, целует, рычит от восторга… И ночь у них – ну, до того не похожа на то, что имеет сейчас Маркел Хрящев с законной женой своей, – ну, до того…
Нет, не случайно именно он, а никто другой вышел на берег реки, и не случайно попалась ему на удочку серебристая русалка, сама вся тоскующая, удивленная, совсем не похожая на остальных, отнюдь не случайно сошлись они этой безветренной, огненной от всех созвездий, шумящей листвою и травами ночью, и грех, приключившийся перед рассветом, был (что говорить?) не случайным.
Порассуждав вдоволь об Индии и полистав развратную книгу, Хрящев слегка отвлёкся от тягостных мыслей и уже собирался было кликнуть прислугу, спросить графин водки и кислой капусты, как вдруг он услышал какую-то птицу, запевшую с самых небес. Спальня, в которой он находился, располагалась на втором этаже, парадные покои с портретами предков и шелковой мебелью – на первом. Окна парадных покоев, как это было принято, выходили на улицу, а окна супружеской спальни – на сад, где зрели плоды, в большинстве своём яблоки. Там же, во глубине сада, был небольшой старый пруд, где прежде располагалась купальня, теперь развалившаяся, и в мае там пел хор лягушек. Маменька требовала, чтобы пруд осушили и на его место поставили бы оранжерею, но руки не доходили, и сам Хрящев с удовольствием иногда захаживал к пруду, особенно по вечерам, дышал его свежестью. Ему показалось, что сейчас эта птица зазвучала именно со стороны пруда, но только находится она высоко над ним, так высоко, что с земли её не разглядишь. Пела она, однако, хорошо, грустно и одновременно маняще – так пела чудесно, что Хрящев о водке забыл. Голос был незнакомым, отнюдь не соловьиным, и что-то в нём было другое, не птичье, а женское, сладкое, слабое и – что уж греха-то таить? – колдовское. И Хрящев заслушался, чуть не всплакнул. Душа чья-то пела, родная душа. Хотя, может, грешная, кто её знает?
«Эх, жизнь наша, жизнь! – думал Хрящев. – Ну, вот я: дурак-дураком. А птичка запела, и я её слушаю. И всё во мне тает. С чего я такой? Как будто костей нет во мне, одна мякоть».
Он сам понимал, что если и была в нём какая воля, так её давно сломали. Его кто поманит, за тем он пойдёт. Поманит русалка – он кинется к ней, поманит француженка, как вот у Пашки, – и к ней побежит. А эта тоска его, странная, тёмная, она испытание души. Пей – не пей, тоска не уйдёт, потому что ему, хоть он и дурак, нужно что-то такое, к чему он с восторгом прильнёт и забудет себя самого. И чтобы все жилочки в теле дрожали, чтобы всё томилось в нем так, как томится, когда приближается издалека – еще и без грохота, свежестью только, внезапной пронзительной голубизной – такая гроза, от которой погнутся деревья в лесу и прижмется от страха последняя травка к земле.
Кончилось тем, что большой, широкоплечий, уже начинающий слегка полнеть Хрящев решил сам себя привязать.
– А что? – сказал он, глядя в небо. – Попробую. Собаку сажают на цепь. Так и я. Возьму себя и привяжу. Как собаку.
Он отыскал в шкафу крепкую веревку и привязал себя к спинке кровати так, что отвязать было бы непросто.
– Ну, пой, пой, голубушка! Пой на здоровье! А я буду слушать, но не убегу и глупостей больше уже не наделаю.
Похоронив единственную дочь, умершую от дифтерита, доктор медицины Терехов даже и не вспомнил о сбежавшей неизвестно куда Елене Антоновне. Сбежала, и всё. То, что произошло между ними, стерлось из сознания Григория Сергеича. Он ничего не помнил. Вернее, помнил, но как-то смутно, тяжело, сквозь тошноту и отвращение к себе самому. После похорон Григорий Сергеич лег в кабинете на диван, накрыл лицо шелковой подушкой и замер. Нет, нет, он не спал. Отлично слышал, как несколько раз звенел дверной колокольчик, заезжали коллеги, справлялись о его здоровье. Их деликатные покашливания и шарканье ног в коридоре почему-то напоминали о том, что все когда-нибудь умрут и закончатся и эти покашливания, и это угодливое шарканье. Катя отвечала визитёрам тонким голосом. Слышно было, до чего она перепугана. Вялые мысли изредка поднимались в голове доктора Терехова, мешали друг другу, потом опускались. Ни одна не задерживалась. Один раз он хотел даже встать и застрелиться, вспомнил, что пистолет хранился в нижнем ящике письменного стола – хороший пистолет, подарок старшего брата, – но всё же не встал, не сбросил подушку с лица. Губы его пересохли, наверное, хотелось пить, но он решил терпеть, и это внезапно даже понравилось ему: вот хочется пить, а он будет терпеть. К полуночи, когда уже стихли все звуки на улице и только протяжно мяукала кошка, искала, должно быть, тепла и уюта, он с диким восторгом услышал, как Тата заплакала в детской. Восторг и облегчение были такой силы, что доктор Терехов не стал даже и объяснять себе, как же это случилось, что Тата не умерла и не было никаких похорон, а вот пробило полночь, и она заплакала. Наверное, что-то плохое приснилось. Несмотря на то что было совсем темно, Григорий Сергеич сообразил, что для того, чтобы его собственный страшный сон не вернулся, нужно как можно быстрее встать, умыться и ехать в больницу работать. Там много тяжелых больных, его ждут. Григорий Сергеич поспешно умылся, надел свежую рубашку, попробовал найти пальто, но не нашел, и забыл об этом, и на цыпочках, чтобы никого не разбудить, пошел к дочери, замирая от страха, что её нет, а плач ему послышался. С тем же восторгом и облегчением, от которого закололо кончики пальцев, он увидел, что Тата спит, свернувшись в любимом продавленном кресле, поджав под себя свои тонкие ноги в чулках и ботинках. С огромною нежностью он перекрестил её иссиня-черную кудрявую голову, поцеловал, еле дотрагиваясь пересохшими губами до лба и подбородка, толкнул дверь в столовую и изумился. Пропавшая гувернантка сидела, как и раньше, за самоваром, но только была без всякой одежды. Сказать проще, голая. Всё тело её было обожжено, особенно сильно, до самых костей, сгорели и руки, и ноги, но барышня, казалось, всем этим не мучилась, наготы своей не стеснялась и на возглас изумления вошедшего Григория Сергеича ответила бодрой улыбкой.
– Помилуйте, Ляля! – вскричал доктор Терехов. – Да где это вас? Одевайтесь немедленно, мы едем в больницу! Немедленно! Слышите?
– А завтракать как же? – спросила сумасшедшая гувернантка, пытаясь ко всему еще и соблазнить его нежным и низким голосом.
– Какое там: завтракать? Вы же погибнете!
– Пускай я погибну, но прежде… – Она опустила дрожащие веки и сделала неловкую попытку приподняться.
Не помня себя от злости на это нелепое поведение, Терехов подскочил к столу, желая схватить её черную руку и тут же, набросив на голое тело какой-нибудь плед, одеяло какое-нибудь, тащить эту дуру скорее в больницу, но пальцы его натолкнулись на воздух. Да, был самовар. Даже чашки стояли. Варенье и масло в маслёнке. Но барышни не было.
– Черт! – Доктор ударил ладонью по плошке с вареньем и тут же услышал гнусавый и мерзостный голос, сказавший за самой спиной его:
– Здеся я. Здеся.
– Кто: «здеся»?
– Как: кто? Разве не узнаёшь?
На этом и оборвалось. Григорий Сергеич разлепил глаза, увидел свой кабинет, подушку, съехавшую на пол, вспомнил, что вчера похоронил дочь, и в эту минуту раздался звонок. Звонок был упорным и долгим. Потом Катя громко гремела цепочкой, как будто не знала, открыть или нет.
– Полиция! – басом сказали за дверью. – Где барин?
– Они отдыхают, – ответила Катя. – Несчастье у нас…
Григорий Сергеич, надеясь во глубине души, что и это ему тоже снится, вскочил и, всклоченный, помятый, без башмаков, вышел в коридор. Перед ним выросло двое жандармов.
– Девица Вяземская здесь проживают? – спросил тот, который был старше, и густо, протяжно откашлялся.
– Не знаю, – ответил Григорий Сергеич. – Мне не до неё. Дочь моя умерла.
Жандармы переглянулись.
– Беда, – сказали они почти хором и сняли, замявшись, фуражки. – Конечно, беда. Понимаем. Сочувствуем. Но вот ведь какая история странная…
И тут же, ссылаясь на слово свидетелей, сказали, что утром в Москву-реку кинулась почти что сгоревшая женщина. Ею могла быть служившая здесь гувернанткой и здесь проживающая девица с фамилией Вяземская. Елена Антоновна.
– Вот полюбуйтесь.
Жандармы стали совать в лицо доктора какую-то писанину в кляксах и помарках, но Григорий Сергеич брезгливо отмахнулся. Тогда тот, который был постарше, зачитал показание свидетелей, из которого Григорий Сергеич расслышал не всё, а то, что расслышал, совершенно не понял. Выходило, что сгоревшая почти до конца молодая женщина добежала тем не менее до самой реки, которая, впрочем, находилась очень близко, и кинулась в воду. В воде был при этом такой ледоход, что звук его слышали даже в Кремле. Григорий Сергеич покрылся мурашками: сон с голой, покрытой ожогами барышней ему сразу вспомнился.
– Я, господа, – ответил он тихо, – ей-богу, не знаю, где эта девица. Могла просто выйти. Погода хорошая. А может, отправилась в биржу труда. Работу искать. Это очень понятно.
– В таком, понимаете, виде не ищут. Свидетели так показали: бежала без всякой одежды, горела. Потом уже бросилась в воду.
– Кто бросился?
– Да вот в этом вся и загадка. Кто бросился? Пытаемся выяснить. Всё ведёт к вам. Кухарка еще вчера утром сказала, что вы, так сказать…
– Я при чем?
– А вы даже очень при чем. Поскольку девицы, у вас проживающей, сейчас в вашем доме уже не находится. И правдоподобная версия та, что эта утопшая может являться Еленой Антоновной Вяземской. Вот как.
Григорий Сергеич схватился за голову.
– Ну, это же нонсенс! Я дочь хоронил!
– Так вы хоронили когда? Вчера поутру. А эта девица утопла в четверг. Вчера была пятница. И ваша кухарка сказала, что вы рано утром в четверг изволили быть здесь, на месте.
Григорий Сергеич пытался понять, какой сейчас год, день недели и прочее. Не понял. Не смог.
– Оставьте меня! – Доктор наконец взорвался. – Врываетесь нагло в чужую квартиру, молотите сами не знаете что! А ну, пошли вон! Вон пошли, говорю!
Представители власти тихонько вздохнули.
– Вы, доктор, полегче… Руками махать… В каких отношениях вы состояли с девицею Вяземской?
– Вы одурели! – И Терехов побагровел. – В каких отношениях?! Вас не спросил, в каких отношениях мне состоять!
Жандармы вздохнули еще раз. Поглубже.
– Пока что: пройдемте в участок.
Видно было, что им очень не по себе и не хотелось бы применять власть по отношению к осиротевшему отцу, но ничего другого не оставалось. Григорий Сергеич занёс кулаки, но жандармы живо защелкнули наручники на его запястьях и подтолкнули доктора к двери. Горничная, плача, принесла из кабинета башмаки, и тот жандарм, который был постарше, опустился на корточки и, кряхтя, надел их на ноги доктора Терехова, который словно остекленел и перестал двигаться.
– Пойдёмте, пойдемте. Ну, что вы, ей-богу? – сказал, поднимаясь, старый жандарм.
Горничная Катя и кухарка, прилипшие к окнам широкими лицами, увидели, как барина сажали в пролетку, как шляпа упала с его головы прямо в грязь и порыв тяжелого ветра приподнял густые, слегка поседевшие волосы доктора.
– Отпустят? – И Катя заплакала горько. – Куда же его без одёжи, без завтрака…
– Какое «отпустят»? – Кухарка дыхнула вчерашнею луковицей. – Кто отпустит? Я правды скрывать не намерена больше. Спросили меня, так я всё им сказала. И впредь всё скажу.
– А что ты сказала?
– Сказала, что видела. Сношался наш барин с Еленкой Антонной. Вон там, на диване. Как остервенелый.
– Да ты одурела! – воскликнула Катя. – Промеж нашим барином и этой выдрой… Да в жизни тебе не поверю! Вот крест!
И Катя неистово перекрестилась.
– А хочешь чулочек тебе покажу? – спросила кухарка с ехидной улыбкой. – Я этот чулочек там прям и нашла. Под самым диваном. Пойдем покажу. И трогать не стала. Поскольку: улика.
– Какая улика?
– Такая. Судейская. В суде разберутся, зачем там чулочек. И кто утопился, они разберутся. Пойдем покажу. Что боишься-то, глупая!
И став на толстые ярко-бурые колени, кухарка отклячила нижнюю часть своей очень плотной фигуры, залезла под диван в докторском кабинете и достала оттуда беспомощный, белый, швейцарский чулочек. Уже запылившийся, сморщенный.
– Ну, что? – торжествуя, спросила она. – Не твой ведь, Катюха? Не твой! И не мой. А барышни нашей Елены Антонны.
– Так это он… что же? – У Кати дрожал подбородок. – Так как? Конечно, раз были такие дела, так всяко случается. Я понимаю. Но только топить-то зачем?
– Вот этого мы с тобой знать не могём! А если он вдруг осерчал на неё? Мужик, сама знаешь, когда осерчает… Он, может, её в эту речку и скинул!
– Как скинул? Жандармы сказали: бежала сама.
– А кто там бежал, никому не известно. Сказали, что вроде из нашего дому. А сколько у нас в дому женщин, считай-ка! Ты, я да она.
– Все вещи на месте… – И Катя заплакала слезами беспомощными, удивленными. – А барышня-то неплохая была. Чудная, конечно…
– Не знамо, не знамо! – Кухарка запрятала потную прядь под белый платок. – Людям, знаешь, верить, так только наплачешься! Я так понимаю: когда идешь в церковь, так там стой и верь! И не ошибёшься! Зажжешь когда свечечку, да перекрестишься, да Матери Божией в личико глянешь, тогда вот и верь! И вся тебе правда!
Дело получилось запутанным вот, по какой причине. В один и тот же день пропали с Ордынки две молодые женщины. И обе следов никаких не оставили. То, что кто-то сгорел и бросился в реку, засвидетельствовали только пьяницы, шедшие из трактира. Никто, кроме них, не видел бегущего и полыхающего ярким пламенем «антихриста». Пропавшие в один и тот же день женщины не имели друг к другу никакого отношения и даже, как установила полиция, не были знакомы. Про Елену Антоновну всё было более или менее понятно. Она служила гувернанткой у доктора Терехова и состояла с ним в любовной связи. Вполне могло быть, что барышня убила себя, догадавшись, что доктор Терехов потерял к ней всякий интерес, погруженный в своё горе. Вторая внезапно пропавшая дама уже давно вызывала сильные подозрения полиции и соседей. Она была молода, богата, держала великолепный особняк, прислугу, собственную коляску, но жила замкнутой жизнью, выезжала редко и не посещала места гуляний, балы и театры. Настораживало то, что каждый второй вторник, к десяти часам вечера, в доме зажигались все лампы, застывал в дверях нарядный, но мрачный, с белыми усами швейцар, и к подъезду начинали съезжаться мужчины. Все были без дам, исключительно дорого, нарядно одеты, от каждого пахло духами, а возраст варьировался. Случались и старые, и молодые. И чаще встречались совсем молодые.
Шторы задергивались, двери закрывались. Что происходило за этими шторами, никто не знал. Поговаривали о заговоре, о тайном обществе. Но к чему тогда эта вызывающая нарядность? И почему гости покидали дом поодиночке? Почему ни один из них не держал своего лица открытым, когда входил в подъезд и выходил из него?
Молодую особу звали Клеопатрой Валерьевной. Имя для православного мира не самое привычное, а проще сказать, вычурное, не наше имя. Полиция не могла найти ни одной зацепки, чтобы проникнуть в этот дом и потревожить хозяйку. А может быть, и подкупили её: полицию то есть. Клеопатра Валерьевна держала двух глухонемых от рождения горничных, приходившихся друг другу родными сестрами, повара-индуса, не знающего по-русски ни слова, и кучера, язык у которого был отморожен еще в раннем детстве. Лизнул на морозе железа, и всё тут. Короче, вся челядь была так подобрана, чтобы ничего не раскрылось.
И вот в прошлый четверг, то есть именно тогда, когда горящая, как факел, неизвестная женщина покончила с собой, бросившись в реку, пропала и Клеопатра Валерьевна. Никто не заявил о её исчезновении, некому было заявлять: две глухонемые, индус да кучер с куском отмороженного языка. Но поскольку жандармы обходили каждый дом на Ордынке и интересовались, на месте или нет обитающий в данном доме женский пол, факт отсутствия Клеопатры Валерьевны открылся быстро. Открыться – открылся, но дальше тупик. Невежество наших жандармов – известное дело, поэтому к работе был привлечен один из молодых, но вовремя выскочивших на поверхность отечественной юриспруденции молодой человек по фамилии Зяблин, недавно накрывший артель нелегальных торговцев наркотиками, которые лихо сбывали товар, некачественный, второсортный и грязный, простым гимназистам и даже прислуге.
Зяблин рьяно взялся за поручение и вскоре выяснил, что в Москве существует странная секта, состоящая из одних мужчин, причем не просто мужчин, а исключительно представителей самых знатных семей, который одержимы любовью друг к другу, но при этом еще и придерживаются масонских взглядов.
– Ерунда какая-то! – Начальник Зяблина, Гаврила Петрович Сидоров (ударение на о), близкий друг его покойного отца, выкатив ярко-голубые, рачьи глаза, воскликнул, когда Зяблин бодро закончил своё донесение. – Ты слышишь себя, Федор, милый? Они мужеложствуют или как? Какие же это масоны? Масоны, как я понимаю, философы… Они не по этому делу.
– Так точно, Гаврила Петрович. Отнюдь не поэтому. Но эти масоны особые. У них, понимаете, столько свободы, что всё в головах перепуталось. Поганая секта. Клянусь вам: поганая. А всё началось даже очень давно: еще государь Александр был жив.
– Так что, при французах?
– Ну да. При французах. Война нас тогда измотала, с французами. Во всех, понимаете, смыслах. И в высшем сословии, сами ведь помните, таких мухоморов тогда развелось…
– Ну да. Помню, помню, голубчик. Всё помню. В семействе Апраксиных барышни обе, Настюша и Анна, сношались с прислугой. Одна даже, кажется, с истопником. Вторая, как мне говорили, с каретником. Вот страсть! Как кухарки, прости меня Господи! А всё потому, что запуталось общество. Кому помогло, что сослали в Сибирь верхушку дворянства? Сослать-то сослали, да было уж поздно. Так что Клеопатра-то эта, Валерьевна?
– Она, как я понял, стоит в стороне. Стояла, вернее. У ней собирались. Приёмы богатые, но не для всех. Шампанское, вина. Корзинами – фрукты.
– А делали что?
– Вы хлыстов наших знаете? – спросил напрямик молодой смелый Зяблин. – На ихних раденьях чего не бывает. И голыми скачут, и женщин насилуют. И ведь без вина! Совершенно ведь трезвые! – И Зяблин поморщился. – Гаврила Петрович, мне стыдно сказать…
– Уж нет, говори всё как есть. – Сидоров упёр свои рачьи глаза в портрет императора. – Ужо говори! Когда государство, я вижу, в опасности. Тут, знаешь, никак не до тюлечек-мулечек! Допрыгались мы с демократией!
– Какие уж тюлечки? – Зяблин вздохнул. – Короче, устроили вроде как секту. Потом уж пошло, так сказать, мужеложество. Масонство, как я понимаю, забыли. А может, оно для прикрытия было.
– И кто же из них мужеложствовал?
– А все. Один архитектор был, двое художников. Князь Зуриков с внуком.
– Князь Зуриков с внуком?
– Ну, внук у него, Ипполит, сами знаете… Расслабленный юноша…
Гаврила Петрович приблизил лицо к пунцовому уху помощника.
– Скажи мне, голубчик… Зачем же они съезжались все к этой… Ну, как? Клеопатре?
– Она дама тихая, обществом брезгует… А то может быть, что её даже наняли. Вот, как говорят, нанимают в Японии.
– В Японии? Только того не хватает! Там, знаешь, какие дела? Возьмет вострый ножик да вскроет живот. Кишки-то наружу, а честь спасена! Уволь меня, милый, от этой Японии!
– Вот я и об этом хотел вам сказать. Кишки, говорите, наружу? А эта, которая в реку-то прыгнула? Она ведь себя подожгла или как?
– Так что?
– А похоже весьма на Японию. Но только не ножиком, только не ножиком… Зачем? Когда спички простые имеются?
Гаврила Петрович открыл широко рот и начал бурно заглатывать тёплый воздух своего кабинета.
– Смотри-ка, голубчик, ведь что получается? Одна – гувернантка и в страстной любви. Тут дочку хоронят, она вся в отчаянии… Раз! Чиркнула и загорелась! Какие следы? Где следы? Имеется так же другая особа. И очень подходит под все подозрения. Поскольку весьма и весьма непонятная. Мужчины одни окружают, богатые. Она им и стол, понимаешь, и кров… А может, там тайна какая скрывалась? А может быть, переворот замышлялся? И ей кто-то тихо на ушко шепнул: «Давай, дорогая, пора закрываться. Иначе в Сибирь по этапу да плёткой. Мы все так на так в один ад попадём, но ты поразмысли, куда тебе лучше…» Она тоже спичечкой, значит… Следы уничтожила. Придётся нам этих господ опросить.
– Гаврила Петрович! Да как: опросить? Там важные люди. Я больше скажу вам…
Неизвестно, что именно сказал Зяблин своему начальнику Гавриле Петровичу Сидорову, но только, выслушав его, Гаврила Петрович развел руки в сторону и побагровел. Зяблин открыл настежь форточку. Серый морозный воздух ворвался в комнату. Гаврила Петрович очнулся и долго пил воду.
Бывает, рождается в мире ребенок и будет жить долго, но так безотрадно, что лучше бы вовсе ему не родиться. Нечто подобное и произошло с Клеопатрой Валерьевной. Она была рыжеволосой, надменной и шла по земле, как летела, почти не касаясь поверхности. Казалось, что жизнь её не волновала, не отягощала ничем. Известно однако, что был покровитель, душа у которого тихо гнила, как, скажем, гниёт под дождём почерневший, но всё еще с запахом лета цветок. Что именно соединило красавицу с огнём в волосах, с этим слабым румянцем и тихого, подслеповатого, тощего, который всё время облизывал губы? Но надо сначала начать. За несколько минут до начала пасхального богослужения в церковь Рождества Богородицы на Малой Дмитровке кто-то принес корзину с новорожденным и поставил её слева от входа. Умно было сделано: не выбросят ведь на последнюю стужу (весна наступила в тот год совсем поздно, и долго мело, бесконечно мело!) – не выставят же на ступени младенца, которому от роду, может, неделя? И ведь не простая неделя, Пасхальная! Сильная душевная радость и всякое, особенно сильное движение сердца сливаются с болью, как реки сливаются. А боль открывает дорогу любви. Когда хор восторженно пел и паства ему подпевала, корзина с младенцем, безмолвным по-прежнему, вдруг стала как будто немного светиться. Была совсем маленькой и незаметной, а тут словно в ней огонечек зажгли. Заметив его, над корзиной склонились две женщины. И обе застыли в своих шелестящих и праздничных юбках, в своих этих праздничных белых платочках и стали немного похожи на ангелов, которые в грустном и робком почтении стоят где-нибудь на иконе, и свет, идущий из самого центра её, лежит на их лицах. Младенца поспешно извлекли из белых простынок и поразились тому, что он не плачет. Увидели, что это девочка и что на головке её пробивается сияющий пух. Тогда прихожанка одна, величавая, с косою до самой своей поясницы, высвободила из-под шали правую руку, прижала новорожденную к себе и с нею пошла вокруг церкви. Крестный ход происходил на морозе, в лица поющим летел снег, а свечи чадили от этого, гасли, и люди огонь заслоняли руками, пугаясь недоброй приметы. Ведь это известно: когда свеча гаснет, и жизнь твоя может угаснуть, не дай бог. Трижды обойдя церковь, умиленно улыбающиеся, с торжественными лицами люди вернулись с холода в яркое и праздничное тепло храма, где девочку опять положили в корзину, и она, на секунду открывшая светло-голубого, молочного цвета глаза вновь заснула. И так мирно, сладко, спокойно спала, что растроганные прихожане не решились отдать её в сиротский приют, а, собравшись после литургии в трапезной, начали думать и совещаться, куда бы пристроить такую малютку. В конце концов девочку согласилась взять к себе в семью та самая женщина с толстой косой, которая и обошла трижды церковь, прижавши младенца к груди. По кругу пустили бобровую, с промаслившейся красной подкладкой шапку, и вернулась она обратно, доверху наполненная медными и бумажными деньгами.
С этой минуты начались мытарства Капитолины. Клеопатрой она стала не сразу, жила поначалу под именем Капы в семействе Сосновых. Пафнутий Степаныч Соснов держал лесной склад и еще приторговывал сибирской пушниной. Жена помогала ему, все расчеты лежали на ней плюс хозяйство, плюс дом. Когда своих деток – двенадцать голов, зачем же еще одного брать, чужого? Семья была трудной, отец несговорчивым. Мог поколотить, мог без хлеба оставить. Порода такая есть русских людей, которые сердцем не злы, но незлобливость их не разглядишь за скандалом и криком. Кричат и кричат. Встанут утром – кричат. Обедать садятся и снова кричат. И в бане кричат, даже если намылены. Пафнутий Степаныч Соснов был именно эдаким, хоть и незлобным, но невыносимым в быту человеком. Хотя и женился по сильной привязанности, любил по ночам свою густоволосую, свою величавую Анну-жену, и деток прижил с ней ни много ни мало, а целых двенадцать, и в церковь ходил, и бил там земные поклоны до поту, а только была в нем какая-то лютость, как будто наелся он мокрого войлоку и ни отрыгнуть теперь, ни проглотить. Зимой в доме было чадно, топили сильно, жар берегли, поэтому всею семьей угорали, а младший мальчишечка, бойкий, с глазенками такого же цвета, как летние пчёлы, однажды чуть было не помер. Поутру проснулись – уже весь холодный лежит, не смеётся. С трудом откачали. Нельзя сказать, что Анна Петровна была злой женщиной, но жизнь её так истерзала – то дети болеют, то роды тяжелые, то муж задурит, – что только во храме она отдыхала. Платочек повяжет и в храм. Стоит, величавая, слезы глотает. В такую растроганную минуту она согласилась на просьбы, взяла себе эту безродную девочку. Но чем дольше жила в её доме эта девочка, тем сильнее поднималось раздражение внутри Анны Петровны. Капитолина не была своей. Она не перечила, всё, что приказывали, исполняла, училась неплохо, но было в ней что-то чужое, нездешнее, и это мешало. То ли слишком острыми и наблюдательными были её глаза, слишком мраморным – даже в зной – лицо, но главное: эта летучая легкость в походке и в том, как склоняла она временами надменную голову, словно прислушивалась. Анне Петровне до слез хотелось объяснить подкидышу, что если бы она ни прижала её к своей полной молока груди, ни обошла с ней трижды православную церковь в ночь, когда воскрес Спаситель, то и жила бы она сейчас со всей красотой своей сказочной в каком-нибудь нищем приюте, а там то ли выживешь, то ли помрешь от вечного голода и от болезней. Но она была выдержанной, ничего такого себе не позволяла, только всё сильнее и сильнее озлоблялась. Сама Капитолина, превратившаяся из младенца в ярко-рыжую, тонкую, но крепкую и весьма себе на уме девушку, только и думала, как ей удрать от благодетелей. Ей дом опостылел, ей всё опостылело. Остальные дети пугались до полусмерти, когда по ночам раздавался вдруг крик из родительской комнаты, и, сжимая в ладони клок мокрых волос, появлялась на пороге растерзанная мать, и вслед ей летели проклятья. А старшая девочка Маша хватала скорее икону на кухне и ею пыталась прикрыться сама и маленьких тоже прикрыть. Старших детей в семье было двое: Маша и Григорий, остальные девять человек были погодками и намного младше. Григорий был до того похож на отца, что даже голоса у них были одинаковыми. Но Пафнутий Степаныч, хоть и был большим склочником и скандалистом, подлостей не делал и часто даже раскаивался, если кого-то сильно обижал: ходил сам не свой, с до черноты спекшимися губами, пил воду из остывшего самовара, а потом подходил к обиженному им человеку и кланялся в ноги. Григорий же был негодяем. Ему ничего не стоило смеху ради отрубить хвост котенку, украсть деньги из отцовского кармана и перевалить вину на другого, учился он плохо, но в свои шестнадцать лет уже познал женщин и хвастался этим. Григория Капитолина боялась. И если бы кто-нибудь спросил, каким она представляет себе черта, она описала бы точь-в-точь Григория, хотя он был беловолосым, бесцветным и полным, с большими кривыми ногами.
– Ты, Капа, его стерегись, Гришки-то, – сказала однажды ей старшая, Маша. – Не нравится мне, как смотрит…
– Как смотрит?
– А так, словно всё с тебя, Капа, сдирает.
Все девочки Сосновы спали вместе в одной комнате. Купец был не бедным, но на детей тратиться не любил: младшие донашивали за старшими, а целые, без заплаток, сапоги были только у одного Григория. Но в эту ночь, мертвенно-светлую от луны, неестественно-светлую, когда виден был каждый камешек на земле, и выли собаки, и в небе всё время шумело, дрожало, как будто там кто-то куда-то бежал, Капитолина вдруг расхворалась, надсадно раскашлялась, стала гореть сухим жаром, и в конце концов Анна Петровна заварила ей липового цвета с медом и велела лечь спать отдельно в теплом чуланчике за кухней. Мебели там никакой не было, кроме старого, кованного железными скобами сундука. Она легла и как провалилась. Сон её был похож на обморок. Наверное, жар нарастал во всём теле. И вдруг, посреди этой ночи, по-прежнему лунной, по-прежнему страшной, очнулась от боли. Григорий, лицо которого показалось особенно белесым, почти и без глаз, словно его залепили густым тестом, раздвинул ей ноги и сам был внутри её крупной дрожью дрожавшего тела. Она попыталась закричать, но пухлая, потная рука надавила ей на горло, и крик сразу смялся во рту, не успел. Капитолина подавилась кашлем, однако успела изо всех сил вцепиться Григорию в волосы. За дверью чуланчика послышались шаги, и в ту же секунду Капитолине удалось вытолкнуть из себя то гадкое, тёплое, что причиняло ей боль. Григорий вскочил, натягивая портки, но сбежать не успел: в дверях заморгала свеча. Анна Петровна с дрожащим от гнева большим подбородком, с распущенными, седыми уже волосами, босая, высоко держала правой рукой огарок, а левую сжала в кулак. Она смотрела на них с отвращением, ненавистью, словно ей хотелось то ли убить их обоих, то ли самой умереть от стыда.
– Пошел вон, подлец, – тихо сказала она. – Уродом родился, уродом помрешь.
Потом тяжело опустилась на сундук.
– Оботрись, – сказала она и бросила Капитолине поднятую с пола тряпку.
Капитолина подтянула колени к подбородку, спрятала в них лицо. Анна Петровна негромко заплакала, хотела было погладить её по голове, но одумалась, отдернула руку.
– В полицию пойдешь? – хрипло спросила она. – Наказывают за эти дела.
Капитолина замотала головой.
– Да знала я, что не пойдешь, – с облегчением выдохнула благодетельница. – Что теперь с уродом делать? Горбатого могила исправит.