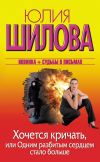Текст книги "Купец и русалка"

Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц)
Несмотря на то что актеров обычно упрекают в цинизме и распущенности, именно им нельзя отказать в некой стыдливости и даже сентиментальности. После этого рассказа от приятеля Пестова отвернулась вся театральная труппа. Зато к нему самому начали относиться бережно, хотя и настороженно. Все заметили, что он, сказавшийся больным после того, как его сразу после свадьбы бросила жена, через месяц вернулся к работе, но это был словно бы другой, не открытый, веселый и щедрый, а измученный тайной, надломленный и уставший человек. Его пожалели. Никому не пришло в голову, что на разрыве с женой дело не кончится. Поначалу это не пришло и в голову самому Пестову. Он с тонкою страстью играл на сцене роли любовников, но в жизни ни одна женщина, даже самая привлекательная, не вызывала в нём никаких чувств. О жене он старался не вспоминать. Но желание какой-то сумасшедшей, очень сильной и безрассудной любви не покидало его ни днём, ни ночью. В конце концов он перестал таиться и с ужасом, с содроганием признался себе самому, что любит мужчин. Это открытие было таким ошарашивающим, так перечеркивало всю его жизнь и надежды на семейное счастье, что Пестов начал всё чаще и чаще прикладываться к бутылке и почти разорвал отношения с родителями, которые никогда не поняли бы того, что с ним происходит. Он, разумеется, слышал про то, что существует однополая любовь, знал, что в древности это даже не считалось предосудительным, но согласиться с тем, что теперь ему самому, Дмитрию Пестову, предстоит жизнь, до самых краев налитая постыдной тайной и нужно либо решиться на эту жизнь, либо покончить с собой, чтобы не мучиться, было непросто. Месяц проходил за месяцем, Пестов пил всё больше, но в актерской игре его начало проступать временами какое-то одухотворенное страдание, что-то слишком искреннее и одновременно недосказанное, от чего многие, не знающие его люди приходили в восторг. Борьба с самим собой не могла продолжаться вечно. На одной из актерских вечеринок к пьяному Пестову подошел незнакомый, очень красивый и развязный мужчина, который прямо предложил ему уехать вместе с этой бестолковой пирушки, и Пестов согласился. Они уехали. Это было началом того пути, о котором прежде Пестов боялся и думать. Он часто влюблялся в мужчин – женщины отметались полностью, – и мужчины влюблялись в него, происходили бурные встречи и не менее бурные расставания, много было взаимных оскорблений, подозрений в изменах и измен настоящих, но жизнь не стояла на месте, и та её пламенность, та её постыдная, но затягивающая сила, которой ему не хватало с самого отрочества, присутствовала теперь постоянно, и всё это устраивало бы его, если бы не один совершенно истерзавший актёра сон. Сон этот возвращался не реже двух-трех раз в месяц, и почти каждый вечер, ложась спать, Пестов боялся, что сегодня он опять повторится. Снился ему львёнок, который временами оборачивался мальчиком лет двенадцати с длинными волосами и ясными светло-голубыми глазами. Этот львёнок (а может быть, мальчик) составлял якобы основную заботу Пестова и вызывал в нём самое чистое и нежное чувство. Сон начинался с того, что Пестов всеми силами души переживал за это красивое, загадочное существо, ухаживал за ним, как мать или отец ухаживают за своим ребенком, и больше всего боялся, чтобы его юное существование чем-то омрачилось. Львенок же требовал свободы, постоянно убегал куда-то от любящего Пестова, и проходило долгое время – особенно мучительное в кошмарной природе человеческих сновидений, – пока он возвращался. А дальше начиналось такое, что много раз, проснувшись, Пестов говорил себе: «Нет, больше не могу». Из темноты медленно и мягко прокрадывалось дурно пахнущее существо. Каждый раз это было какое-то другое животное: волк, собака, огромная кошка, но чаще всего гиена. Это животное не было мертвым, но разлагалось оно так, как разлагается только мертвая плоть. Хотя извивалось и ползало. Пестов понимал, что оно охотится за любимым им мальчиком-львёнком и нужно спасать его, нужно спасать, но на него вдруг наваливалась такая слабость, что он не мог пошевелиться. Распространяя зловоние, гиена, едва заметная в темноте, обнюхивала лежащего без сил Пестова и прокрадывалась дальше, где должен был сладко и крепко спать львёнок, а Пестов, еле слышно мыча, пытался помешать ей. Сон всегда кончался одинаково: Пестов проваливался в ту же темноту, из которой выползла гиена, и переставал что-либо чувствовать.
Отношения с любовниками, всегда очень нервные и жгучие, затягивали Пестова всё сильнее и сильнее. В конце концов он совсем оставил театр и перебрался из Петербурга в Москву, где жили родители. Узнав обо всём (Пестов решил, что лучше пусть они услышат это от него самого), и мать, и отец сникли и состарились за один вечер. Мать вообще почти перестала вставать с постели, а отец разговаривал с сыном через силу, и ни тот, ни другой не дотрагивались до него физически. Пестов чувствовал, что вызывает в них невольную брезгливость, смешанную с очень сильной, но раздавленной, перебитой по позвоночнику любовью, и перестал бывать в родительском доме. Тогда он сменил имя и стал Константином Борисовичем Бельским. Как это ни покажется странным, но новое имя помогло бывшему Пестову, оно развязало ему руки. Стыд и ощущение того, что жизнь его ужасна, начали бледнеть, гаснуть и в конце концов отпустили его. Теперь он не брезговал ни молоденькими солдатами, которых находил у казарм, ни лакеями в ресторанах, и если раньше только вино помогало ему справиться с ощущением греха, то теперь, ставши Бельским, он выпивал изредка и не нуждался больше в этом лекарстве. Тут один за другим умерли оба родителя, оставив своему сыну значительное состояние, имение в Тульской губернии и каменный особняк на Ордынке. Бельский потерял голову. Теперь он менял любовников чуть ли не каждую неделю. Безумная похоть съедала его. Он уже не стеснялся подрисовывать брови и пудрить лицо. Вообще ничего он уже не стеснялся. Глядя на него, задумчиво гуляющего по набережной вдоль лениво-беспокойной реки, всегда дорого и прекрасно одетого, выхоленного, с тревожными, слегка подслеповатыми глазами – зрение его было слабым с детства, – постороннему человеку трудно было представить себе, что в душе у этого неторопливого господина бушует ад и мечутся черные тени. Он не мог провести ни одного вечера в одиночестве. Самым страшным было именно это – остаться наедине с собой. Гиена, которая перестала приходить во сне, могла вдруг припомниться днём. Он был щедр и одалживал, а то и дарил деньги направо-налево. Постепенно у Бельского образовалась небольшая компания таких же, как он (но беднее, чем он) приятелей, и сама собой пришла в голову идея: оформить своё не совсем обычное общество, прикрыть его, что ли, от любопытных взглядов. Кто-то предложил найти молодую красивую даму, с манерами, но молчаливую, скрытную и в доме у ней сделать вроде как клуб. Ночной клуб таких удовольствий. Сюда будут съезжаться мужчины, но все чтобы были хороших фамилий. Предполагалось, что члены клуба будут привозить с собою в гости к молодой даме новых своих любовников или тех юношей, которые должны были бы вскорости стать их любовниками. Пассиями менялись, завязывались новые знакомства, вспыхивали привязанности. Главным для самого Бельского было то, что теперь он уже никогда, ни при каких обстоятельствах, не останется один. Клуб – его детище, и все в нём будут связаны одним грехом: гиена из давнего сна уползёт в темноту, зловония некому будет унюхать. И именно это зажгло ему кровь. Внутри патриархальной по сравнению с Петербургом Москвы, в его собственном особняке на Ордынке, со всех сторон окруженном церквями, поселить молодую, прекрасную собой и абсолютно холодную даму, которая не только не любит мужчин, но даже презирает их именно за то, что они мужчины. Относится к ним, мужчинам, подобно тому, как они сами относятся к женщинам: с равнодушием и настороженностью. Бельскому также очень понравилась мысль, что в таком частном доме не будет доносчиков и проходимцев. Массонская ложа и английский клуб вот так же устроены.
Роль хозяйки должна была играть такая женщина, которую ни в чем и никогда не заподозрят ни соседи, ни полиция. И такую ему отыскали довольно быстро. Племянница чья-то из бедной семьи. Манеры у неё были самые что ни на есть благородные, воспитание прекрасное, денег ни копейки. При этом барышня оказалась не столько молчаливой, сколько вообще странной. Ничто её не волновало. Она прекрасно вела предоставленный ей дом (тот самый особняк на Ордынке), одевалась с утонченной изысканностью, чудесно пела, двигалась с изяществом, на обнаженных мужчин смотрела застывшими прозрачными глазами, не отворачивалась, не краснела. Это придавало вечерам какую-то особую терпкость. Поначалу собирались три раза в неделю, но это начало приедаться, как всё и всегда приедается, поэтому и согласились на вторник. Встречаться по вторникам. Бельский уже не представлял себе жизни без этих развлечений, на каждом из которых всегда ждал участников какой-то приятный сюрприз: то торт в виде красной клубнички, то греческое представление в масках.
В самом конце февраля молодая дама внезапно заболела, закашляла кровью и быстро скончалась. Вторники закончились, дом на Ордынке опустел. Бельский начал искать замену умершей и пару раз забредал на Хитровку, присматривался к молоденьким работницам и начинающим проституткам. Всё не годилось, пока однажды в сумерки ищущий взгляд его не наткнулся на девушку, пронзительно рыжую, с бледным лицом. Скорее всего, сирота-приживалка. Она стояла неподвижно, как статуя в Летнем саду, но в осанке её, в повороте небольшой, гордо поставленной головы (в косе каждый выбившийся рыжий локон был словно бы вылеплен скульптором), он сразу заметил породу. О нет, не купцы, не мещане, конечно, а что-то повыше, с другими корнями. Разговор в трактире, её свободная внимательность, ясность ума, соединенная с тем, как она красиво ела, отщипывала кусочки хлеба, усмехалась, решили дело.
На следующий день выправили документы. Капитолина Пафнутьевна Соснова стала Клеопатрой Валерьевной Волынской. Через полгода она перебралась в особняк на Ордынке со своим поваром, двумя глухонемыми горничными и кучером.
* * *
Сжимая в кулаке тусклую сережку своей возлюбленной, Хрящев медленно шел по улице и старался понять, как ему жить теперь и что делать дальше. Отчаяние от того, что любить больше некого, а именно этого и хотелось больше всего, заполнило всё существо, не оставив ни капли просвета.
«У всякого своя печаль, – думал он. – В чужую душу не влезешь, а поговорить на свете не с кем. Вот, бывает, что муж с женой, как одна плоть, живут. А может, и это брехня? Да ясно, брехня!»
Ночь неохотно уступала место рассвету, её звездная пыль смешивалась с еле заметной голубизной подступающего утра, но месяц, казавшийся мёртвым в своей неподвижности, висел еще на горизонте. Воздух был чист, и по-прежнему сильно пахло яблоками.
«Нападало сколько! – вяло подумал купец. – А завтра варенья начнут варить, наставят жаровень, ос слетится видимо-невидимо, ребят покусает, губёнки распухнут, а матери станут ругаться, гонять их…»
Он вспомнил, что скоро и у него появится ребенок и тоже, наверное, через пару лет будет бегать по этому берегу и этой мокрой, тяжелой от росы траве, но в душе ничего не отозвалось. Сердце начинало звонко стучать только тогда, когда он заново, с пронзительной болью и радостью, вспоминал кружевную пену на скользких плечах русалки, её мокрые то зеленоватые, то ярко-сиреневые глаза и особенно ту минуту, когда он горячими руками притиснул её всю к себе и стала она его женщиной.
В доме Хрящева горел свет. Почему-то было настежь открыто окно на первом этаже в большой гостиной и, наполовину закрывая его своим массивным телом, стояла освещенная комнатными лампами незнакомая женщина в малиновом платье и нарядном платке на голове, всматриваясь в подходящего Хрящева зоркими глазами.
– Пожаловали, наконец! – сказала она в темноту с торжественной фамильярностью. – Не знали уж, где вас искать, куда посылать-то за вами!
Простоволосая горничная матушки выбежала с парадного крыльца с тазом и скрылась. Купец вдруг испугался чего-то и так сильно испугался, что его слегка затошнило, словно с похмелья. В прихожей никого не было, гостиная тоже оказалась пустой – массивная женщина в малиновом платье куда-то скрылась, – но через секунду из маленькой гостиной, где стоял только диван и два широких кресла, а все стены были плотно увешаны портретами дедов и прадедов, вышла старая нянька Хрящева, умильно улыбаясь розовым беззубым ртом. Она подошла к нему и, поклонившись, прижала тёплую, знакомо пахнущую голову к его груди.
– Маркел Авраамыч, – сказала она. – А мы тебя, ангел наш, ждем не дождемся. Уж матушка плакала, еле утихла. Ступай, там дитё у тебя народилось.
Хрящев ахнул, побежал на свою половину и чуть было не сшиб акушерку. Вытирая белые, сдобные, как хлеб, большие руки, она шла ему навстречу с жалостливым и важным лицом.
– Ну, что? Бог как дал, так и взял, – сказала она и вздохнула. – Раз помер, так не воскресишь.
– Кто помер?
– Мальчоночка помер. – Она аккуратно смахнула слезу. – А дочка жива. Ты пойди, погляди.
Хрящев ничего не понял из её слов. Выходило, что ребёнок, то есть его сын, помер, а дочка жива. Откуда же дочка-то эта взялась? Он вытер выступивший на лбу пот и, осторожно ступая грязными от прилипшего песка сапогами, вошел в спальню. Татьяна Поликарповна, ярко-красная, с пылающими щеками и прилипшими ко лбу темными волосами, возвышалась на подушках. Глаза ее были закрыты, длинные ресницы мелко дрожали. Несмотря на дрожь этих ресниц и яркую окраску всего лица, Хрящеву показалось, что жена его лежит перед ним мертвая, и он, встав на колени перед кроватью, приблизил своё лицо к её гладкому, пылающему лицу. Лоб был живым, на виске билась голубая ниточка. Хрящев обрадовался и чуть было не всхлипнул. В углу комнаты происходило какое-то движение, суета и тихий старательный звук чьей-то жизни, такой незначительной, маленькой, жалкой, что можно его было и не заметить. К Хрящеву подошел недовольного вида молодой человек с плоской, словно приклеенной, бородкой, который держал в своих руках плотный белый сверток. Хрящев понял, что это и есть новорожденный его ребенок, и вскочил.
– Что, доктор? Она не помрет? – Он говорил о Татьяне Поликарповне, но доктор его не понял.
– Младенец, конечно, весьма недоношенный, – сказал мрачно доктор. – Субтильный младенец. Уход и еще раз уход. На вашем бы месте я съездил в Швейцарию.
– В какую Швейцарию?
– Одна у нас вроде Швейцария, – злясь на глупый вопрос, ответил доктор. – Там воздух, озера. Ну, сливки, конечно. У нас таких сливок никто и не пробовал.
– А мне зачем сливки?
– Ребенку, не вам! – гаркнул доктор, совсем раздражившись. – Вы что, не заметили? Дочь ведь у вас!
И прямо в нос Хрящеву ткнул завернутым в белую простынку ребенком, словно желая, чтобы Хрящев понюхал его. Доктор был не тот, которого хорошо знал Хрящев и который лечил и матушку от болей в пояснице, и Татьяну Поликарповну от обмороков, да и самого Хрящева нередко выводил из запоев, а незнакомый, молодой и заносчивый, судя по всему, из «новых», которые не уважали купцов и соглашались на визиты к ним только из-за денег.
Хрящев послушно понюхал ребенка, и вдруг голова закружилась. От плотного свертка, внутри которого было совсем крошечное, красное личико, пахло, как померещилось ему, сиренью, но пахло чуть-чуть, словно эта сирень была далеко и едва распустилась.
– Маркел Авраамыч, – тихо позвала его жена. – Подойди ко мне, говорить трудно…
Хрящев испуганно метнулся к постели. Глаза у Татьяны Поликарповны были широко открыты и ярко блестели от слез.
– Мне доктор сказал, хорошо, что, мол, так… А то могло вовсе и хуже случиться… – испуганно заговорила она. – Ты где был, Маркел Авраамыч? Звала я тебя. Проститься хотела, совсем помирала…
Хрящеву хотелось сказать ей что-то хорошее, успокоить её, но ком стоял в горле. Он только кивнул.
– А кто знать-то мог, что их двое? – тихо плача, продолжала Татьяна Поликарповна. – Родился живым наш сыночек, живым. И глазки раскрыл, на меня поглядел. А после вздохнул да и помер.
Она выпростала из-под одеяла полную руку в кольцах и ухватилась за край мужней рубахи.
– Что ж, мы некрещеным его похороним?
Доктор с удивленным раздражением прислушался к тому, что она говорила.
– Да сын ваш практически вовсе не жил! – перебил он Татьяну Поликарповну. – Секунд, может, сорок, не больше! Он, в сущности, не задышал, а вы говорите «вздохнул»! Какое «вздохнул»?
Татьяна Поликарповна быстро закрыла глаза, не желая, видимо, сердить его.
– Голубушка, это же первые роды! – Доктор пожал плечами и передал ребенка акушерке. – Десятого вы не заметите. Сам выскочит.
Он нахмурился и пощупал у роженицы пульс.
– Ну, что же? Я больше не нужен.
Выразительно взглянул на Хрящева и направился к двери. Хрящев понял, что речь идет об оплате, и поспешил за ним.
– Ребенок здоров. Благодарствуйте. – Молодой человек с плоской бородкой быстро спрятал деньги, лицо его стало немного приветливее. – Я завтра заеду, проверю, что как. А вы молока ей давайте побольше, супруге своей. Молока, молока. В Швейцарии вот и коровы другие…
В глазах его остановилась тоска: он, видно, не мог примириться с той мыслью, что где-то в Швейцарии жизнь не похожа на здешнюю жизнь, а ему приходится мучиться в этой глуши, лечить здесь мясистых купцов.
– Маркел Авраамыч, заснула она, – сказала Хрящеву акушерка, когда он вернулся в спальню. – Намучилась, бедная. А мы вот сейчас уберёмся, папаше покажемся… Какие мы славные да востроглазые… Папаша, гляди… Вот какие мы славные…
Она что-то делала с ребенком, развернув его, обтирала головку, покрытую редкими, бело-золотистыми волосами, сводила вместе и разводила в стороны маленькие до ужаса руки и ноги. Хрящев подошел ближе, следя за её уверенными движениями. На ногах и руках новорожденной были совсем прозрачные, как капельки росы, ногти. Эти ногти вдруг до того ошеломили Хрящева, что он схватил акушерку за руку, когда ему показалось, что она своими слишком уверенными движениями может сделать что-то не то. Акушерка подозрительно посмотрела на него: не пьян ли? Но он не был пьян. Еле слышный запах сирени, исходящий от его дочери, вызывал в нём такую нежность, которой он никогда ни к кому не испытывал. Но одновременно с этой нежностью в нём поднялся страх: ведь Бог же отнял у них только что мальчика, так, значит, и девочку может отнять? Жена не спала. Она приподнялась на одном локте и, не отирая слез, которые так и продолжали литься по её уставшему лицу, следила за тем, что делала акушерка.
– А дайте я встану, – шепнула она. – Соскучилась я ведь по ней. Дайте встану.
И когда акушерка, весело улыбаясь на них обоих и, видимо, одобряя в душе их чувства, поднесла Татьяне Поликарповне девочку, Хрящев вздохнул с облегчением: вот так-то спокойнее. Так-то надежнее.
Русалки не видят снов. На дне спится крепко, и, пока коралловые крабы не примутся щекотать им веки и ноздри, можно и до позднего утра не просыпаться. Но если какая-то русалка увидит сон, это считается плохой приметой: значит, в ней не до конца умерла её человеческая природа. Нельзя, однако, быть до конца уверенными в том, что речные девы, которые клянутся, что никаких снов они и в самом деле никогда не видели, говорят правду: они очень часто лукавят. Заморочив купца Хрящева и вдоволь натешившись им, знакомая нам русалка погрузилась в прежнюю тоску. Она часами качалась на поверхности воды, расширив ноздри, и пристально всматривалась в летнюю жизнь города. На дно опускалась всё реже и реже. Однажды она живо вспомнила снег. Он был слегка розовым, солнце всходило. Мама держала её на руках.
– Молись, молись, Лялечка! – просила мама. – Молись, чтобы папа поправился.
– А где он?
– Лежит он, болеет. Нам надо молиться за папино здравие. И мне, и тебе. Господь деток слышит, они Ему ближе.
Вместе они шептали слова молитвы, мама подносила её к окну, и каждая голая ветка дрожала, как будто стремилась помочь. Потом их позвали. Они вошли в комнату с завешенными окнами, где прочно стоял запах лекарств. Мама посадила её на пол, а сама опустилась на колени возле отцовской постели. Отец стал худым, словно кем-то объеденным до самых костей, но глаза были прежними. Они и блестели, как раньше.
– Ну, Оля, не плачь, – сказал он. – Вот доктор сказал, что теперь точно выживу. И Лялечка плачет. Дурынды вы обе.
И он засмеялся, но сразу закашлялся. Они с мамой плакали вместе так бурно, что горничная принесла таз со льдом, и мама прикладывала к её лбу прозрачные льдинки.
Вспомнив этот день, тепло освещенную зимним солнцем комнату, запах печного дыма, а главное, то, как плакала мама и как смущенно, любовно засмеялся выздоравливающий отец, русалка подумала, что там, на земле, куда веселее: там можно болеть, можно плакать, стыдиться. В конце концов, можно ведь и умереть. И тоже, наверное, не пропадешь: душа и в огне не горит, и не тонет ни в пресной воде, ни в солёной. А здесь? Опасная странная мысль осенила русалку: когда эти льдины с их яростным скрежетом её не убили и не раздавили, когда она, тихо скользнув между ними, спустилась на дно, где очнулась и стала такой, как сейчас, – разве это удача? И разве русалочье это бессмертие похоже на то, что отпущено людям? А сколько прошло даром времени! Сколько погублено ею простых мужиков, которые – кто под хмельком, кто по дурости – спустились к реке поудить ночью рыбку, и тут на крючок вдруг попалась красавица с серебряной пеной на скользких плечах.
Она всё не могла вспомнить той прежней жизни до конца. Уже появлялись какие-то лица, широкие, бледные, споры и крики, озера швейцарские, очень холодные, потом вновь Москва… Опять снег и печка, какой-то в пенсне, на тщедушных ногах, который просил о гражданской любви… Она его, кажется, возненавидела.
Всё дно пело ей в один голос: «Тебя не узнать, не узнать, не узнать!» Подруги с их мерцающими разноцветными глазами пугались её неподвижного тёмного взгляда. Она становилась чужой. Когда русалка зарывалась с головой в песок и застывала так, обхватив себя руками, издалека не всегда было разобрать, живое лежит или мёртвое.
Однажды на город пришла гроза. Никто и не ждал её, потому что с самого утра солнце особенно ясно и щедро светило на землю, особенно радостно пели птицы, как будто слегка обезумев от этого света, тепла, спелых ягод, гниющих в траве и красневших на ветках, и горничные суетились в садах, таща самовары под яблони и синие, белые, круглые, с золотом, сервизные чашки: в Москве часто пили чаи на траве. А в три часа пополудни всё потемнело с такой внезапностью, которую позволяет себе только природа: она гасит свет на земле, а без света нет жизни. Все повскакивали, заметались, наступило бестолковое оживление и тревога, всегда немного смешанная с восторгом, потому что внутри особенно сильного страха часто находится место какому-то первобытному неразумному восторгу. Вот тогда русалка и вынырнула из воды, зная, что сейчас хлынет дикий дождь, но прежде того, до дождя, расколется небо и в нём загорится тот самый огонь, о котором людей давным-давно предупреждали. Всё так и случилось. В разрыве небесном, в глубокой, как будто кровавой расщелине, куда она, не отрываясь, смотрела, мелькали какие-то тени и лица. Там шла своя жизнь, в небесах, там сгорало ненужное, мелкое, что накопилось, поскольку всегда и везде всё сгорает, когда переполнено, невмоготу – всегда и везде разражается грохот, раскалывается любая поверхность, и надо молиться, терпеть, ждать пощады, ведь может и не миновать, не простить… Она качалась на вздыбленной волне, с жадностью погружая свой взгляд в черноту, в горячую кровь обнаженного неба, она умоляла кого-то о помощи: хоть имя бы вспомнить, одно только имя!
И имя пришло к ней. Так просто, спокойно. Он жил на Ордынке. С прислугой и дочерью. Она поступила к нему гувернанткой. Григорий Сергеевич Терехов. Вот как. А дочка потом умерла. Ни с чем не сравнить то облегчение, которое испытала русалка, когда гроза закончилась, в воздухе остро запахло эфиром, по крышам домов и в садах дрожало, струилось, стекало, синело, а она, забившись под пятнистый камень, свернувшись в клубочек, шептала, шептала: «Григорий Сергеич, Григорий Сергеич…» Она ощущала, что с ней происходит, но не было зеркала посмотреться, и она не видела, как с лица сползает речная бледность и оно наполняется здоровой земной свежестью, как плечи, слегка еще зеленоватые, становятся женскими, круглыми, белыми, а брови меняют свой цвет серебристый на черный, совсем человеческий цвет. Она уходила со дна, поднималась всё выше, всё выше, к нему, в его жизнь, и это бессмертье – русалочье, скользкое, – которое прежде казалось желанным, не нужно ей больше. Да пусть отбирают!
Доктор Терехов пришел с дежурства – в городе участились случаи тифа, многие его коллеги ночевали в больнице. Уже часов в пять он почувствовал себя скверно, ночевать в больнице не остался, потому что ото всех недомоганий у него было одно лекарство: заснуть в детской на Татиной кровати и хорошо выспаться. Придя домой с мигренью, он выпил крепкого чаю, надел халат, обвязал голову шерстяным платком, что часто помогало, и сразу же лёг. Тата моментально приблизилась так явственно, что до неё можно было дотронуться. Да он никогда и не верил в её смерть. Через какое-то время доктору стало легче, прошел колотивший его крупный озноб, и боль отлила от головы.
Очень некстати раздался звонок. Ему показалось, что Катя открыла, и он слегка выругался.
– Сказал ведь: меня не будить! Что за люди!
Из коридора послышался шорох снимаемой одежды, потом милый голос спросил:
– И давно?
И, кажется, Катя ответила:
– Да уж. Часов шесть проспали. Просили не трогать.
И голос сказал:
– А мне можно.
Терехов усмехнулся в подушку. Так Тата всегда говорила:
– Мне можно.
Тонкая девушка, такая тонкая, что талию её можно было обхватить двумя ладонями (очень, кстати, и хотелось обхватить её двумя ладонями!), на цыпочках вошла в детскую и затворила за собой дверь. Терехов наблюдал за нею сквозь неплотно сомкнутые ресницы. Она подошла к самой его кровати и долго смотрела на него с большой нежностью. Он узнал её. Не сразу, но всё же узнал. Это была гувернантка его дочери Елена Антоновна Вяземская. Только та Елена Антоновна, которая жила у него в доме и получала от него жалованье, была слишком нервной, издерганной, часто закусывала губы, грозилась уехать обратно в Швейцарию, потому что там жертвуют собой настоящие люди (Терехов знал, что ни одному своему слову она не верит и уезжать никуда не собирается). К тому же она часто обижалась на Тату, которая тихо её ненавидела (отца ревновала, конечно!), и иногда доктору казалось, что лучше было бы всё-таки найти престарелую спокойную бонну, чем так вот терпеть взволнованную и влюбленную барышню. А то, что Елена Антоновна влюблена в него до какого-то просто исступления, знал не только он, а все вокруг, включая дворника. Если бы Елена Антоновна не нравилась ему, Терехов давно бы попросил её искать себе другого места, но в том-то и дело, что она ему страшно нравилась. Особенно по утрам, когда он выходил к чаю в столовую и барышня-революционерка сидела за кипящим самоваром в сереньком платьице с наивным белым воротничком, с туго заплетенной косой, которой она дважды обвивала свою голову. Сидела, смотрела на дверь, ожидая того, что он войдет. А глаза у неё были женскими, страстными, любящими и детскими одновременно – испуганными. После того, что произошло между ними в день Татиной смерти, ей, разумеется, нельзя было оставаться в его доме. И он ей сказал это честно и прямо. И дал кучу денег. А она, как утверждали в полиции, покончила с собой: подожгла платье и бросилась в реку. Тела так и не нашли. Да разве найдешь в этой мути? И рыба давно уж не водится. Нельзя сказать, чтобы доктор так сильно казнился или упрекал себя в её смерти. Да кто знает, что это такое – смерть? То, что Елена Антоновна выбрала, было её решением. Значит, и огонь, и вода привлекали её сильнее, чем жизнь на Ордынке. Всё это было большой, не нашего ума, тайной. Существуют, кстати, сны, которые не может понять самая продвинутая медицина. Говорят, отголоски дневных впечатлений. Электрические мозговые разряды. Чушь и еще раз чушь. Это он проверил на себе, когда карабкался на шестой этаж по обледенелой лестнице каменного петербургского дома, чтобы накормить маму. А вместо мамы оказалась Тата. И он был мальчишкой. И встретились они с Татой во сне. Ну, что же, он примет и это. Лишь только бы не исчезала совсем.
Итак, раздался звонок, Катя по своей бестолковости открыла, и в детскую вошла бывшая гувернантка. Та самая, про которую было известно, что она сгорела и утопилась. Терехов в глубине души обрадовался. Лицо гувернантки бархатисто светлело, глаза были, как у детей, простодушными. Она сняла шляпку, украшенную незабудками, сняла и жакет, осталась в коротенькой кремовой блузке, потом осторожным движением своих молодых и округлых плечей спустила её прямо на пол, сняла такую же светлую юбку, хотела, наверное, снять и ботинки, но вдруг передумала, вздохнула печально и тихо легла на краешке узкой кровати. Их руки касались друг друга. Доктор затаил дыхание. Ему и в голову не пришло обнять её или, не дай бог, наброситься с поцелуями: такой чистотой, простотой и свободой она обладала. Казалось, что он лежит где-то на светлом лугу и ветер, наполненный запахом клевера, играет его волосами.
– Так ты умерла? – спросил он. – Или мне наврали?
– Тебе не наврали, – сказала она и вздохнула легонько. – Да, я умерла. Но ведь это…
– Что это?
– Без этого не обойтись. Ведь я же с тобой.
– Да как же: со мной? Если ты умерла, а я еще жив?
– Один Бог и знает, кто жив, а кто нет. Один Он решает, куда ведет смерть. Нельзя людям верить.
– А я и не верю.
Она засмеялась с большим облегчением.
– Живых людей трудно любить, – сказала она. – Устали они, поглупели, издергались. Такая нелёгкая жизнь. Что поделаешь?
– Зачем ты пришла? – спросил он.
– А как же? Ведь я не могу без тебя.
Прижалась губами к его волосам:
– Ах, эта Швейцария!
– Какая Швейцария?
Она говорила загадками, намекала на что-то, чего он совсем не понимал, но и не нужно было понимать. Она была рядом. А может быть, он сам стал её частью. Их руки касались. Всё было блаженством.
– Какая Швейцария? – спросил он опять.