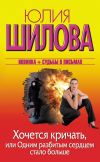Текст книги "Купец и русалка"

Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
До появления Жукова праздники в аду проходили бестолково, шумно и не очень весело. Женщины на эти праздники не приглашались. Такова была воля «самого», который, однако, в насмешку, наверное, объявил главным адским торжеством Международный женский день Восьмое марта. Мол, хоть и без женщин, а праздновать – празднуем. Черти попытались играть в трансвеститов, наряжались дамами, девочками, куклами, однажды один, молодой, явился одетым, как Барби, другой – как Лолита с ракеткой под мышкой, но так как еды не умели готовить, а жрали сырое, перчёное, грязное, то праздники часто кончались скандалами, и все уходили, плюясь, сквернословя.
В этом году стало известно, что ожидается то ли залп Авроры, то ли свержение одного из Людовиков, и решено было приказать Жукову сделать на 8 Марта салат. Черти подвели пьяненького Ваньку, которого они считали наполовину уже своим и изредка рисовали ему на лбу синие рожки, к огромному костру и велели, не мешкая, жарить рябчиков. Ванька, который к старости сделался не в меру сентиментален, умильно сложил губы бантиком и с жалостью посмотрел на клетку, в которой бились пестренькие и ласковые птички.
– Соловэй, соловэй, пта-а-а-ашэчка! – запел он, фальшивя. – Канарэ-э-эчка! Жалобно поёт! Вот поёт и поёт, для чэго-о-о она поёт?
– Ты оперу не разводи, Аполлоныч, – сказали ему. – Давай жратву делай. А то, понимаешь, распелся не к месту…
– Ваше сиятельство, – забормотал Ванька, – за грехи тяжкие мне не то что у чертей – виноват, ваше сиятельство! – на кухне работать, мне за ими сортиры чистить, и то ведь за честь бы почёл. Вот ведь как! Ведь тварь я дрожащая, ваше сиятельство! Люсьенка меня за родного держал, к Полинке, дочурке его, даже сватали, а я его, бедного, я его, бедного…
Тут Ванька расплакался, разнюнился и, сворачивая рябчикам тёплые их шейки, совсем превратился в какую-то бабу.
– Иван, ты того… – сказал самый старший. – У нас тут не плачут.
– Неужли никто? Никогда? – У Ваньки сверкнули глазёнки. – Так рай-то у вас! А не там, где они!
И хотя он сделал весьма неопределенное движение зрачками наверх, черти отлично поняли, о чем идет речь, и завертели хвостами от волнения.
– Твоя, Ваня, правда! У них, наверху, там, где крылышки эти и райские кущи, – у них там такое творится! Они на родню ведь часами глядят! Во сны к ним приходят! Поскольку жалеют! Одна дерготня, никакого покоя: то сын заболел, то невеста тоскует. А этим, крылатым, ведь каждая слёзка оттуда видна! Они и сочувствуют, и изнывают, на что им тогда этот ихний Эдем? А здесь-то, в огне, да в дыму, да в чаду, мы разве кого вспоминаем? Зачем? Плювать нам на всех, совершенно плювать!
Ванька заметил, что слово «плевать» черти произносили так же, как поварята в его ресторане: плювать.
– Так надобно это всё пересмотреть! – И Ванька всплеснул аккуратно ладошками. – Ведь несправедливо же, ваши сиятельства! Тогда пусть и станет известно, что рай находится там, где все ваши сиятельства, а там – ну, куда все стремятся – там ад! Ведь так получается или не так?
– Ты прямо философ, Иван Апполоныч! – сказали ему подобревшие черти. – Куды Сведенборгу! Придурок мужик был, а к нам не попал. А мы за него воевали! Боролись! Потом надоело: хотите – берите! Парик с него сняли, как помер, и видят: весь череп-то меньше горошины! Во как! Мозгов в нем на чайную ложку. Зачем он нам здесь? Всю картину испортит.
Этот открытый и приятный разговор пошел на пользу Ивану Аполлонычу. Отныне приставленный к вечному пламени, он, знай себе, с нежным, замедленным хрустом откручивает головы бедным рябчикам, сюда залетевшим по глупой ошибке, и лакомится скользкой черной икрой. Салат «Оливье» размещают в огромные корыта и развозят по всем «мастерским». Так черти называют пещеры, вернее сказать, углубления в толще земной, кое-где раскалённой коры, где мучают грешников и разбираются с мертвыми душами. Благодаря знаменитому рецепту, украденному в молодости, Жуков стал любимчиком всех, без исключения, «ихних сиятельств». Насмешек и пыток он больше не знает.
Татьяна Поликарповна, жена Хрящева, была до замужества на редкость миловидной и стройной девушкой. Супружеская жизнь совсем не всем идет на пользу. Некоторым, конечно, трудновато обойтись без замужества, потому что иначе нужно беспокоиться самой о себе и, может быть, даже зарабатывать деньги. А как их заработаешь, когда они не зарабатываются? Стоя в праздник Преображения Господня с корзинкой спелых яблок, принесенных ею для благословения, в трепещущем сумраке церкви и осеняя себя размашистыми крестными знаменьями, Татьяна Поликарповна с печалью думала о том ребенке, который должен был вот-вот родиться у неё, и печаль её становилась только сильнее, чем больше она думала. Какой отец получится из Маркела Авраамыча, пьющего, непонятного и вечного погруженного в свои мысли?
Да и разве по любви вышла она, восемнадцатилетняя, за купца Хрящева? Разве это при его появлении начинало биться её молоденькое сердце и так ударяться о ребра, как волны о борт корабля? Познакомили их, как водится, на одном из музыкальных представлений в доме всё тех Рябужинских, которые жили на широкую ногу и старались подражать модным дворянским обычаям: приглашали музыкантов и устраивали вечера, а иногда даже и с танцами, на которых невесты под присмотром недремлющих мамаш своих приезжали разодетые с купеческой пышностью, завитые, в высоких перчатках. На этих, как говорили знаменитые московские свахи, «девичьих смотринах» молодые, а то и не очень молодые, порою даже и вдовые купцы присматривали себе будущую супругу. Плясали кадриль, реже полечку, но у Рябужинских случалась мазурка, а даже в последнее время и вальс, такой томный, страстный, такой весь телесный, что даже во сне очень многие девушки потом ощущали на лбу и щеках мужское, горячее, как у собаки, дыхание. Сердце начинало колотиться у Татьяны Поликарповны Хрящевой, в девичестве Алексеевой, когда в гостиной зале появлялся повеса, младший из сыновей Рябужинских Павел Петрович, от скуластого, с мягкими плотными бакенбардами лица которого было не оторваться: такой он красавец. Да и не в одной красоте только дело. Была в глазах у Павла Петровича обволакивающая душевность, что-то простодушное и одновременно страстное, что выдавало в нём человека, не похожего на остальных. Чувствовалось, что он и прислугу зря не унизит, и лошадь кнутом не ударит, и скупости в нём никакой, одна широта. Татьяна Поликарповна слышала от свахи, что Павел Петрович – совсем «пропащий», живет с иностранкой, с приезжей «мамзелью», какая его обирает до нитки, и он весь в долгах, потому что родитель ему не дает никакого кредиту. Однажды, еще до того, как она стала невестой Хрящева, Павел Петрович, слегка раздраженный и грустный (с мамзелью, наверное, поссорился) пригласил Татьяну Поликарповну на вальс. Обычно она танцевала прекрасно – легка была и грациозна, как козочка, – но тут, оказавшись так близко от него, чувствуя его горячую и всё-таки деликатную ладонь на своей талии, задрожала, вспыхнула, отодвинула было своё лицо от его подбородка и тут же приблизила снова, запуталась, и он, наклонившись, сказал ей так ласково, как батюшка в детстве:
– Да вы не волнуйтесь.
Тогда она вдруг успокоилась, положила на его мускулистое плечо свою левую руку, и так понеслись они, так полетели, как будто бы прочь уносимые ветром. Никогда не было в жизни Татьяны Поликарповны ничего прекраснее этого вальса. И не было и не могло даже быть. Подведя её обратно к плюшевому диванчику, Павел Петрович, откланявшись, исчез и больше уже не появлялся. Но поздно вечером, едучи с мамашей в коляске и слушая монотонные её наставления, Татьяна Поликарповна закрыла глаза, чтобы ничто не мешало ей снова и снова слышать мягкий глубокий голос и чувствовать руку, невольно прижавшую её еще крепче, потому что при той скорости, с которой они летели, Татьяна Поликарповна могла бы легко оторваться, как листик от прочного, сильного дерева.
Слова «влюбиться» не знали в доме купца Алексеева. Не было такого слова. Но что же происходило с Татьяной Поликарповной, что же происходило, если после этого вальса голова её не переставала кружиться от счастья, а сердце стучало, стучало о ребра, как волны о борт корабля? Она даже внешне и то изменилась: осунулась и побледнела. Через неделю, на Масленицу, приехал к ним в гости медлительный Хрящев, тяжелый, массивный, с приятным лицом, но весь ей чужой, до последней кровиночки. Сидел очень долго, молчал, громко кашлял, сморкался в платок, но смотрел на неё с таким интересом, как будто на ярмарке старается выбрать кобылу покрепче. И выбрал. И после поста обвенчались.
Добрая душа была у молодой жены купца Хрящева, поэтому она готовилась как можно сильнее полюбить своего мужа и не стать для него обузой. Когда в самую первую ночь остались они в заново перекрашенной спальне и Татьяна Поликарповна робко застыла у зеркала, отражаясь в нём кружевным локтём, немного плечом и немного затылком, а Хрящев снимал сапоги и кряхтел, она почувствовала такой страх, что вспомнилась ей Либертата, святая, которая так испугалась замужества, что стала просить, чтобы Бог ей помог его избежать любым способом.
Была, да, такая святая. И, ставши христианкой, дала обет безбрачия. Но тут к ней посватались издалека. Какой-то король заслал сватов: лицо её было красивым настолько, что вся земля полнилась слухами. Король приказал сообщить, что корабль готов и он скоро пожалует. Тогда Либертата ушла в виноградник и долго молилась. И Бог ей помог. Наутро лицо Либертаты покрылось густой бородою. Отец (у неё был язычник-отец), немедля смекнул, что наделала дочка своею молитвой, и так обозлился, что предал её самой горестной смерти. Распял, как распяли Христа. Приехал жениться король, а невеста висит на кресте. Вся в крови, бородатая.
Татьяна Поликарповна совсем некстати вспомнила эту историю, глядя, как её муж снимает, кряхтя, сапоги. Хрящев же снял, кроме сапог, всю верхнюю одежду, оставив для приличия одну белую праздничную рубаху, в которой венчался, и, тихо ступая по ковру босыми широкими ногами, подошел к жене.
– Ну, будя бояться, – сказал тихо Хрящев. – Небось не медведь, не обижу. Не съем.
И поднял её, как пушинку. Донес до кровати. Тогда она сразу лишилась сознания. Купец испугался, позвали прислугу, кропили водой, свечи в доме зажгли. С тех пор эти обмороки начали происходить с Татьяной Поликарповной чуть ли не каждую неделю. Почти всегда это было связано с тем, что Хрящев приближался к ней с целью супружеской близости. Иногда Татьяна Поликарповна пересиливала себя, улыбалась ему бледными губами и, закрыв глаза, честно выполняла свой долг. Нельзя сказать, что это было большим праздником для обеих сторон. Хрящеву, не так уж хорошо знавшему женщин и вообще человеку застенчивому, казалось, что он мучает Татьяну Поликарповну, что вот-вот она побелеет, как снег, и вновь чувств лишится, поэтому он старался дотрагиваться до неё как можно мягче, всматривался в неё испуганно, и дело не доходило не только до каких-то там неземных, как говорят знатоки, наслаждений, а даже до самой простой телесной приятности. Но всё же дитя зародилось внутри, и тело Татьяны Поликарповны раздалось, раздобрело, как тесто, какое поставили в печь. Она из тростиночки, из одуванчика, летящего вместе с купцом Рябужинским навстречу огню неустанного вальса, вдруг стала большой, неуклюжей, мучнистой, с затравленным взглядом. Кому же охота такую любить? А кстати, откуда берутся русалки, которые ловят женатых мужчин? Откуда они? Неужели со дна? Но если женатый мужчина сидел и пил чай с женою, как он оказался у самого края реки или озера?
Стоя в мерцающей полутьме церкви и с ласковой грустью прислушиваясь к тому, как дитя ворочается внутри, словно борется с ветром, Татьяна Поликарповна молилась за то, чтобы роды прошли благополучно и ребёнок оказался здоровым, пригодным для жизни.
«А там поглядим, – думала она, сглатывая слезы. – Родится девчоночка. Начнёт подрастать. Заплету ей волосики… Поедем в коляске кататься за город, нарвём там ромашек… А может, Маркел тогда угомонится. Сейчас он тоскует, а как вот девчоночка к нему подойдет, скажет: «Здравствуй, папаша», так он и растает. А как же иначе?»
Служба закончилась. Купчиха Хрящева вместе с другими прихожанами вышла из церкви. Повеяло свежестью осени, ровным дыханием её, и какая-то птица, клюющая крошки, вдруг вскрикнула радостно и улетела.
«Кого она, глупая, так напугалась? – подумала Хрящева. – Чего все боятся всегда? И люди друг дружку, и детки родителей, и жёны мужей? Вот и я ведь боюсь».
Сглотнула опять подступившие слёзы.
Тяжело вылезая из коляски, она почувствовала, как ребёнок, сильно ударив её ножкой в левый бок, вдруг словно застыл и к чему-то прислушался.
– Скорее бы уже народилась ты, доченька, – прошептала Татьяна Поликарповна, твердо почему-то уверенная, что дитя её непременно окажется девочкой. – Терпеть мочи нет, заждалась.
На половине свекрови еще горел свет и двигались тени: должно быть, пришли в гости странницы и ждут угощения. Увидев в маленькой гостиной шляпу своего мужа, ту самую, в которой он непонятно куда отправился утром пару дней назад, Татьяна Поликарповна перекрестилась под шалью и, стараясь ступать как можно бесшумнее, прошла прямо в спальню.
Муж, крепко привязанный к кровати, сидел на полу, свесив растрепанную голову. При виде Татьяны Поликарповны он немного смутился:
– Пришла? Наконец-то. Давно тебя ждал.
– Что ты на полу? – прошептала она.
Хрящев ответил не сразу. Смущение его, однако, почти прошло.
– А, что на полу? – повторил он её слова. – Человеку очень нужно иногда на привязи посидеть. Вернее будет. От греха, понимаешь?
Татьяна Поликарповна догадалась, что Хрящев допился до горячки и нужно, наверное, доктора звать, пускай приведет его в чувство. Она опустилась с трудом на колени.
– Давай развяжу тебя. Слышишь, Маркел?
– Не надо, жена, – сказал Хрящев. – Свобода, она, знаешь… тоже не сахар. Когда ты развязан, легко убежать.
– Куда убежать?
– Как куда? – Он нахмурился. – Чертей, что ли, мало вокруг? Они и подскажут куда. И научат.
– Чертей? Али ты чертей видишь? – спросила она с тихой грустью.
– Не веришь?
И Хрящев дыхнул на неё, как гнедая, вконец обессиленная долгой скачкой.
– Не пахнет, Татьяна? Вот видишь: не пахнет! А я и не пил. Трезвый я, понимаешь? Поймал меня черт, потому что я слабый. Мы, русские, только на драку сильны. Да, может, не только мы, русские… Поглубже копнёшь, и другие народности не так отличаются… Живут, может, чище, а пьют тоже много…
– Маркел Авраамыч! – Она побелела. – Дитя ведь вот-вот народится…
Высвободила из веревки правую затекшую руку Хрящева и осторожно положила его ладонь на свой живот.
– Постой. Вот она, словно рыбка, всплеснула! Почувствовал ты? Прям как рыбка в воде!
Её слова вдруг так сильно испугали Хрящева, что всё его большое лицо начало мелко дрожать.
– Какая тебе еще рыбка, Татьяна? На что нам тут рыбки?
Татьяна Поликарповна совсем потерялась. Муж говорил загадками. Больше всего ей хотелось остаться одной, лечь на кровать, вытянуть свинцовые ноги и задремать.
– Иди уж, Маркел, – попросила она. – Устала я нынче, всё тело болит.
– Пойду прогуляюсь, – сказал он тревожно. – А ты, Таня, ляжь, полежи.
Татьяна Поликарповна послушно легла на краешек пышной кровати, закуталась в шаль и закрыла глаза. Она подумала, что, если бы сейчас спустился с неба какой-нибудь ангел и спросил её: «Пойдешь со мною, Татьяна Поликарповна?», она протянула бы руки: «Бери!» И не было жаль ей ни мужа, ни дома, а доченьку эту, еще не рожденную, она унесла бы с собой вслед за ангелом. Какая здесь жизнь, когда одно горе? И вдруг что-то вспыхнуло в ней, что-то давнее. Павел Петрович Рябужинский, обняв её крепко, летел рядом в вальсе. Рыдания расширили горло. Неправда, что не было жизни! Ведь был этот вечер и этот глубокий, немного насмешливый голос, сказавший «да вы не волнуйтесь». И пламенно-темный закат за окном – да, был, был закат! А может быть, не было? Может быть, этот огонь в ней горел, в её собственном теле!
Татьяна Поликарповна с головою закрылась черной, в красных и розовых розах шалью и беззвучно, безутешно заплакала. Она уже не скрывала от себя того в чем и на исповеди не призналась бы. Ведь как хорошо, когда можно любить. Мужчину любить. Подойти к нему близко – еще, еще ближе – и так обхватить, чтобы он задохнулся: «А ну, поцелуй!» Или даже раздеться совсем перед ним. Но только свечу не гасить: пусть глядит! А можно еще, когда он крепко спит, нагнуться, губами прижаться к губам: «Заспался, родной! Пора делом заняться!» А можно… Тут Татьяна Поликарповна засмеялась громко сквозь слезы, зажала рот обеими руками, боясь, что услышит прислуга. Ах, Господи! Грех-то какой! Она хотела было встать, снять тесные башмаки, но низ живота внезапно налился такой болью, что она неловко упала обратно, на правый бок. Вроде бы отпустило. Полежала с закрытыми глазами, сделала два глубоких вдоха и опять хотела приподняться, но как подкосило её. Боль нарастала, вытягивала жилы, захватывала поясницу и колени, поднималась до самой груди, до самого сердца. Потом стало легче. Татьяна Поликарповна осторожно подползла к краю кровати, её затошнило, и тут боль набросилась снова, разгрызла нутро. Все силы иссякли. Должно, смерть пришла. Да пусть бы и смерть, только бы поскорее! Она не кричала, но беззвучно и широко раскрывала рот, стараясь заглотнуть хоть сколько-нибудь воздуха, и страшно было от того, что воздух не ухватывался, не втягивался, только рот дрожал, и перед глазами разливалась сиреневая, с малиновыми пятнами, пелена. Потом что-то полилось из неё, и всё стало мокрым: рубашка, чулки, простыня, покрывало. Лилось всё сильнее и было горячим, слегка обжигало ей ноги.
– Наверное, дочка моя помирает! – простонала Татьяна Поликарповна и выдавила вместе с этим: – Ната-а-а-ша! На-а-а-а-таша!
Пожилая расторопная горничная, наскоро постучавшись, отворила дверь.
– Ой, Матерь Небесная! Как же… до сроку…
– Беги скорей к доктору… А не добежишь…
Татьяна Поликарповна махала на неё обеими руками, стискивала зубы и, наконец, не выдержала, завыла, как волк, закричала.
Хрящев в эту самую минуту находился на берегу реки и исступленно всматривался в её беззвучно катящуюся воду. Он чувствовал, что навсегда простился с серебристой женщиной-рыбой и надо благодарить Бога за то, что Он удержал от греха, пора возвращаться домой, где ждёт подурневшая от своей беременности, боязливая жена, и браться за дело, отдать долги маменьке – он всё это чувствовал, осознавал, его голова была трезвой и ясной, – но сердце болело так сильно, как будто его кто-то ранил копьём, попал остриём прямо в левую грудь, и кровь вытекает проворно и густо, а с нею и жизнь, и желания, и радость. Он понимал, что эта женщина пришла к нему со дна, что с нею бы он быстро погиб, пропал, и, может быть, осенью выудили его бы из тёмной воды, опознали бы. Но (может, кому-то покажется странным) вся эта картина его не пугала. Ну, выудили, опознали, зарыли бы. Не как православных людей, не по чести, а как зарывают всех самоубийц: подальше от церкви. Зато он с ней, серебристой и гибкой, еще бы порадовался, посмеялся. Ему вспоминалось, как ночью, обнявшись, катались они вот по этому берегу и волосы, мокрые, длинные, тонкие, его обвивали, как травы, они его пеленали всего, а глаза, в которых он видел и звезды, и небо, смотрели ему прямо в самую душу.
– Да что же это было такое? А? Что? – спросил он себя. – Как жить-то теперь без неё?
Пальцы его, бессмысленно шарившие по песку, вдруг нащупали что-то холодное, хрупкое. Хрящев поднёс находку к глазам: это была серебряная сережка, оброненная русалкой. Он еще в первый вечер заметил, что вместо всей одежды на ней были только маленькие, серебряные, словно бы детские серёжки, которыми она слегка царапала его во время объятий. Сережки были простыми, стоили гроши, и, скорее всего, русалка просто-напросто украла их у кого-то, сняла с утопленницы на дне, но сейчас Хрящев словно рассудок потерял: он прижал серёжку к губам и начал изо всех сил целовать её, понимая, что другого ничего не остаётся, что этой дешёвенькой детской серёжкой поставили крест на всей его жизни.
Зажав в руке кошелек с деньгами, шестнадцатилетняя Капитолина вышла на улицу и, быстро оглянувшись, плюнула в сторону покидаемого ею дома. Так густо и смачно, как взрослый мужик. Плевок этот долго не таял, как будто застыл на земле. Капитолина чувствовала, что, как бы ни сложилась её судьба, хуже, чем у благодетелей, не будет. Она была слишком молода и неопытна, чтобы разъяснить самой себе причину такой неистовой ненависти. Кроме вызывающего отвращение жирного и белесого Григория, все остальные дети были не злыми и не скверными, а старшая Маша так и вообще считала Капитолину своим лучшим другом. Анна Петровна, конечно, оскорбила её перед уходом, но Капитолина не знала, что, простившись с нею, Анна Петровна – как была босая, в ночной рубашке – стоит у окна и плачет, потому что с уходом этой рыжей лисы, когда-то подобранной ею во храме, что-то оборвалось и в её жизни, и то, чем она простодушно гордилась, как самым хорошим и добрым поступком, разбилось в осколки: лежит, вон, в грязи. Но слез этих Капитолина не видела, поэтому ненависть в ней всё вскипала. Вспомнилось, как Анна Петровна сказала однажды в плохую минуту:
– Вот рыжая ты, а рыжие – нелюдь, они из лесов к нам пришли: охотники с лисами в старое время как с женами жили. Приплод у них наполовину из лис, а наполовину из девок. Вот ты из таких.
Иногда ей казалось, что она и в самом деле не из людской породы: ничего из того, что любили они, Капитолина не любила совсем. Разговоры со сверстницами вызывали у неё зевоту, заботы по дому – одно раздражение, еда была ей безразлична. Снег и холод нравились больше, чем теплые летние дни, ветреная, глухая ночь с жалобным совиным криком была ей приятнее, чем светлое утро, всё в солнце и трелях. То, что Анна Петровна шестнадцать лет назад не отдала её в приют, Капитолина считала не добрым поступком, а только попыткой загладить грехи перед Богом. А как их загладишь? Грехи ведь как дерево. Чем дольше растет, тем сильнее разветвляется. И листья на нём как засохшая кровь.
– Теперь без меня поживите! – шептала она с дикой яростью. – Григория скоро пришьют, это точно. Напьётся, дурак, в кабаке, и там его ножиком, ножиком… Эх! Вот жалко, что я не увижу!
Капитолина шла напористо и решительно, словно впереди её кто-то ждал и она боялась опоздать. Её обгоняли редкие прохожие, лошади проносились, быстрые, уставшие, с неподвижно устремленными в темноту глазами. Она перешла Яузский мост, бегло взглянула на воду. В Подколокольном переулке какой-то пьяный чуть было не сбил её с ног и, остановившись, поклонился:
– Прощения просим!
Она и не вздрогнула, шаг не замедлила.
На Хитровке начиналась обычная ночная жизнь. В маленьких гостиницах, притонах, наёмных квартирах проспавшие весь день воры, проститутки, весь бедный и жадный, хмельной, озорной, пропахший от нечистоплотности люд потягивался и смотрелся в осколки разбитых зеркал. Ночь, черная ночь, черней ворона, звала их на улицу.
Во глубину этой ночи и нырнула Капитолина. Она ничего не боялась. Смотрела внимательно, не шевелилась. Кто-то остановился неподалеку. Она почувствовала: из-за неё остановился. Не стала закрываться рукавом, не смутилась. Стояла прямо под фонарём, который хотя и был разбит с одного боку, но ярко, дрожащим своим сизоватым огнём её освещал. И тот, кто заметил и остановился, сумел разглядеть и пушистую косу, в которой почти отливали малиновым два-три завитка на конце, и глаза с их злобным и узким прищуром, и длинную шею, немного склонённую набок, как бы от усталости и равнодушия. Она была очень высокой, худой, но и в худобе её не было слабости, она походила на тех балерин, которые так и летают по сцене, и тело у них только для красоты. Полюбовавшись на странную девицу, остановившийся неподалеку господин взмахнул тростью и подошел к ней.
Он тоже был очень высок ростом, гораздо выше Капитолины, и голова его в клетчатом кепи возвышалась над головами других людей. Лицо у господина было нервным, бледным, и его можно было бы назвать привлекательным, если бы не слегка подслеповатые глаза и привычка часто облизывать губы. Странно, кстати, украшала это лицо угольно-черная родинка на левой щеке, подчеркивая бледность кожи и светлую прозрачность аккуратных усов. На господине было прекрасное свободное пальто, которым он заметно выделялся среди остальных, одетых либо совсем нищенски и небрежно, либо с претензией на особый мещанский шик. Приблизившись к рыжей Капитолине, незнакомый господин вежливо приподнял своё кепи и спросил, как ей не страшно, молодой и беззащитной, находиться в таком месте. Капитолина ответила коротко:
– Не страшно.
– Мне кажется, – сказал он задумчиво, – что вы убежали из дому. Или я ошибся?
– А дом дому рознь, – ответила Капитолина.
– Согласен. – Он поднял брови, и Капитолина вдруг заметила, что они ярко подведены черным карандашом. – Позвольте спросить: вы обедали нынче?
Она наклонила высокую шею.
– Ну, что же, – сказал он тогда. – Могу пригласить отобедать. Здесь неподалеку трактир. Неплохой. Там даже артисты весьма часто кушают.
Трактир был и в самом деле совсем неплохим, хотя между собой обитатели Хитровки прозвали его «Каторгой». Народу пока что в нём было немного, шальная ночь только сейчас началась. Капитолина с дерзким и очень при этом надменным лицом вошла, глаз не пряча, а, наоборот, ярко постреливая ими в разные стороны, как мальчишки постреливают из рогаток.
– Познакомимся для начала, – сказал пригласивший её отобедать господин. – Борис Константинович Бельский.
И руку свою протянул. Рука была бледной и лёгкой настолько, как будто в ней не было даже костей. Одна только кожа и воздух внутри. Капитолина неумело, но храбро подала ему свою, маленькую, крепкую, здорового и румяного цвета.
– Красивое имя у вас, но, по мне, вам лучше бы подошло Клеопатра. Ей-богу. Вы сами подумайте.
Она промолчала. Подали щи, заправленные сметаной. Борис Константинович щелкнул длинными пальцами:
– Графинчик еще принесите. Московской.
Принесли и запотевший, из погреба, графинчик.
– Вам пить не советую. – Он усмехнулся. – Для женщины пьянство – последнее дело.
Она лишь плечами пожала.
«А ну, как он в нужник отпросится, а там и сбежит? – подумала Капитолина. – Еды-то на сколько рублев заказал!»
– Вы кушайте, кушайте, – сказал он небрежно, – сейчас пирогов принесут, буженинки. Хороший трактир. Повара здесь приличные.
Капитолина была голодна как собака. Но щи ела сдержанно, аккуратно облизывала ложку. Бельский внимательно наблюдал за нею, приподняв нарисованные брови.
«Какой-то он странный, – решила она. – Болеет, наверное».
– У тебя, наверное, девочка, близких родственников нет? – спросил он негромко. – Искать-то не будут?
Она закивала:
– Нет! Я сирота.
И быстро, давясь отвращением, сказала, что выросла в доме Сосновых, купцов, но им не родня.
– А мне есть нужда в такой девушке, вот что. С таким независимым твердым характером. Такая была у меня. Но скончалась недавно, неделю назад. На всё Божья воля. Замену ищу.
– Чего заменять-то?
Принесли поднос с горячими пирогами, блюдо со стерлядью и серебряную плошку с черной икрой.
– Вы кушайте, кушайте, – опять перешел на «вы» Бельский. – Я вижу, что проголодались, я не тороплюсь.
Капитолина решительно положила ложку.
– Чего заменять, говорю?
Он что-то шепнул, но так тихо, она не расслышала. При этом вдруг сам покраснел очень ярко. Она поняла, что говорить всего Бельский – или как его там? – не хочет, поняла это так же точно и безошибочно, как понимала всё и всегда. Он ей предлагает такое, что вряд ли ей кто-то еще раз предложит.
– Разумеется, вы можете отказаться, – громко сказал он. – Никто никого не неволит. Сейчас времена наступили такие, что каждой кухарке не терпится в Думу, – и вдруг подмигнул. – Ну, так что же? Решайте. Вопрос непростой и весьма, кстати, женский. Такие вопросы у нас нынче в моде.
– Тогда растолкуйте подробно, – сказала она. – Что в жмурки играть?
– Капитолина, – осторожно спросил Бельский, – вопрос у меня самый главный один: кого-нибудь вы хоть однажды любили?
Она вскинула на него светлые глаза в длинных рыжих ресницах.
– Кого я любила?
– Об этом я вас и спросил. Кого вы любили?
– С чего мне кого-то любить?
Бельский пожевал губами.
– Вы женщина, вы молодая. Все любят кого-то в таком юном возрасте.
– Да только не я!
– Что ж так?
Она посмотрела на него лукаво, сытыми и умными глазами:
– А может, я вовсе не женщина?
Он вдруг покраснел:
– Кто тогда?
Она засмеялась:
– Хозяйка сказала, охотники с лисами жили как с женами. И дети у них нарождались. Вот, может, и я из таких.
Бельский закашлялся и прижал к губам шелковый платок.
– Вы очень подходите мне… Просто даже не верится, что я натолкнулся на вас… Согласны сейчас же поехать в гостиницу?
Она помрачнела:
– Зачем? Я думала, что вам прислуга нужна…
– Лиса мне нужна, – сказал он. – Без роду, без племени. И чтобы она никого не любила. Поедете? Я вас и пальцем не трону. Могу хоть поклясться.
– Поедемте, – ответила Капитолина. Встала и вытерла рот салфеткой. – Отужинали и поедемте. Чего там… Идти-то мне некуда.
В возрасте двадцати с небольшим лет актёр одного из петербургских театров Дмитрий Семенович Пестов задумал жениться. Свадьба была хорошая, венчание трогательным, молодые жених с невестой очень подходили друг другу. Одно немного мешало: несолидная профессия жениха. Но у Пестова был талант, и всякий раз, появляясь на сцене, он буквально приковывал к себе зрительское внимание. К тому же родители его были людьми не бедными, и актерство могло вскоре оказаться просто увлечением молодости.
Никто, кроме самого Пестова и его жены, не знал, что именно произошло между ними в первую брачную ночь. А произошло что-то такое, после чего молодая жена наутро съехала к родителям, а сам он взял отпуск и отменил своё участие во всех спектаклях на месяц. В театре один из актеров, считавшийся другом Пестова, но страшно завидовавший его дарованию, начал рассказывать, ссылаясь якобы на самого Пестова, что молодой муж, оказывается, был девственником и, оставшись наедине со своей женой, внезапно почувствовал что-то сродни отвращению к её наготе.
– И не только, так сказать, не смог, – брызгая от возбуждения слюной, рассказывал этот не умеющий хранить чужие секреты, человек. – Но буквально бежал от несчастной. И прямо во всем ей признался. Ну, сразу расстались, конечно. Казнится. А делать-то нечего. И вся медицина бессильна помочь.