Читать книгу "Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи"
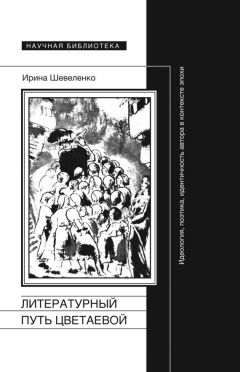
Автор книги: Ирина Шевеленко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
ГЛАВА 2. «Я И МИР»
(1913–1916)
«Причудница пера»
Толковать перерыв в литературной (точнее – печатной) карьере Цветаевой как заранее продуманный ею шаг нет никаких оснований. Однако нельзя считать его и следствием цепочки случайностей, фатально препятствовавших изданию ее новых сборников. В происходившем была своя логика, понимание которой существенно для интерпретации культурной личности Цветаевой.
С одной стороны, круг ее литературных знакомств в 1910‐е годы постоянно расширялся; Цветаева охотно делилась с этим кругом своими новыми стихами; никаких, даже косвенных, свидетельств о том, чтобы она хоть на секунду предполагала бросит писать, нет; интенсивность ее поэтического творчества все эти годы только росла. С другой стороны, возникавшие литературные знакомства Цветаева была более склонна развивать как лично-дружеские, и ее деловые контакты с литературной средой были минимальными; она даже условно не примкнула ни к какой литературной группе; в результате в тот период, когда ее поколение активно завоевывало литературные подмостки, она осталась на обочине этого процесса. Правда, литературное поведение Цветаевой в это десятилетие не было однородным: отдаление от текущей литературной жизни, которым были отмечены первые несколько лет, уже к 1916 году сменилось пробуждением нового интереса к ней. Однако решительные шаги к укреплению своей позиции в литературе Цветаева сделала лишь в первые послереволюционные годы, а реальный эффект от этих шагов из‐за издательского кризиса того времени стал ощутим лишь спустя несколько лет.
В зрелые годы Цветаева не раз пыталась осмыслить свой «уход из литературы» в 1910‐е годы. Также как и особенности своего литературного дебюта, она описывала собственную позицию этих лет через противоположение себя-«нелитератора» другим-«литераторам». В наиболее развернутой записи на эту тему, относящейся к 1931 году, свою «выключенность из литер<атурного> круга» в 1910‐е годы Цветаева называла «самовольной, а отчасти не-вольной», а среди обстоятельств, ей способствовавших, отмечала «раннее замужество с не-литератором», «раннее и страстное материнство», «рожденное отвращение ко всякой кружковщине» и «ненависть к стихам в журналах» (СТ, 436). На первый взгляд, этот перечень кажется случайным или, во всяком случае, лишенным общего знаменателя. Он будет выглядеть иначе, если взглянуть на линию поведения, избранную Цветаевой в начале 1910‐х годов, не только как на специфический тип литературного поведения, но как на тип социального поведения вообще.
Закончив седьмой класс гимназии в 1910 году и отказавшись от продолжения образования в восьмом (педагогическом) классе или на Высших женских курсах, Цветаева до некоторой степени обозначила рамки своего социального самоопределения: перспектива вступления на какое‐либо профессиональное поприще ее не интересовала. Между тем для женщины ее класса7474
Мать Цветаевой была родовой дворянкой. Ее отец происходил из духовенства, однако выслужил дворянство, что, по законам того времени, делало его детей уже наследственными дворянами.
[Закрыть], воспитания и состояния мысль о профессии и карьере, а тем более – о дальнейшем образовании не была в эти годы чем‐то из ряда вон выходящим. Более того, у нее перед глазами был пример старшей сестры Валерии, дочери отца от первого брака: та окончила Высшие женские курсы и работала учительницей в провинции, порвав со стилем жизни своего сословия и увлекшись левыми политическими идеями. Общеевропейские идеи феминизма, в России прочно соединившиеся с лево-народническими и социалистическими7575
См. об этом: Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism. 1860–1930. Princeton: Princeton University Press, 1978; Edmondson L. Feminism in Russia. 1900–1917. Stanford: Stanford University Press, 1984.
[Закрыть], никак не могли пройти мимо сознания Цветаевой, о чем косвенно свидетельствуют и ее позднейшие высказывания. Более того, еще совсем недавно мечтавшая о «революционной борьбе», Цветаева, казалось бы, легко могла пойти по стопам своей сводной сестры.
Был, однако, и другой вариант. Социальный радикализм в общем не являлся необходимым спутником женской эмансипации: получение женщинами высшего образования, профессии, а с ними и нового социального статуса вполне укладывалось в начале ХХ века в рамки общелиберальной программы. Женщины-дворянки, если только они не происходили из обедневших, фактически деклассированных семей, отнюдь не первенствовали в освоении новых социальных ролей; однако и для них посещение Высших женских курсов и профессионализация уже не были большой редкостью в это время.
Таким образом, выбор у Цветаевой был, и распорядилась она им, возможно, и не вполне сознательно, но очень определенно. Унаследовав после ранней смерти матери значительное состояние, Цветаева не нуждалась в профессии материально и в своем спонтанном социальном самоопределении исходила именно из этого. Из возможных типов поведения женщины-дворянки, имеющей достаточные средства к существованию, она избрала самый традиционный – приняла как естественный для себя круг домашней, частной жизни. Внутренняя конфликность такого выбора для Цветаевой выяснялась постепенно, проявляя себя поначалу в отклонениях от поведенческих норм, предписываемых избранной социальной идентичностью7676
К таким отклонениям можно отнести и брак с человеком без определенного социального статуса (Эфрон на момент женитьбы не имел даже гимназического аттестата), и полубогемный стиль существования в первые годы семейной жизни, и несомненное нарушение норм поведения замужней женщины своего класса в годы последующие.
[Закрыть]. Тем не менее относительная психологическая комфортность этой социальной идентичности долгие годы перевешивала внутреннюю конфликтность, заложенную в ней.
Следствием такого социального самоопределения юной Цветаевой было отсутствие в ее сознании связи между поэтическим творчеством, ставшим с детства привычной частью ее жизни, и идеей профессиональной литературной карьеры как формы существования пишущего человека в обществе. Подчеркнуто частная, «домашняя», тематика ее стихов, так поразившая современников, была сопряжена с местом, которое отводилось творчеству в жизни Цветаевой. Оно принадлежало сфере частной жизни и, хотя позволяло делать частное достоянием публичности, не воспринималось автором как средство создания и поддержания публичной репутации, автономной по отношению к частной жизни, – того, что лежит в основе любой профессиональной карьеры. Именно потому замужество и материнство могли представляться Цветаевой естественным объяснением ослабления ее интереса к литературной жизни в начале 1910‐х годов: то огромное место, которое стихи занимали в ее жизни прежде, должно было закономерно уменьшиться с расширением круга иных обязанностей и ролей. Отделяй Цветаева тогда свое профессиональное «я» от частного, новые обстоятельства ее жизни обострили бы именно профессиональное самосознание, которому потребовалась бы «защита». Но этого в начале 1910‐х годов не произошло: Цветаева не собиралась отказываться от творчества, но не видела причины заботиться о чем‐то, на ее взгляд, творчеству постороннем: о поддержании своей литературной репутации – через регулярные публикации, регулярное участие в литературных салонах, ассоциированность с какой‐либо литературной группой. Скорее всего, она вообще не представляла себе механизмов, слагающих и разрушающих репутации, но если и начинала догадываться об их существовании, то относилась к ним с высокомерием человека, не интересовавшегося прагматикой профессионального самоутверждения.
Именно здесь следует искать истоки ее неприязни ко «всякой кружковщине» и «стихам в журналах». Тому, что Цветаева называет «кружковщиной», т. е. групповым объединениям литераторов, принадлежит важная институциональная функция в литературном процессе: они создают горизонтальные связи в литературном сообществе и выдвигают лидеров в профессиональной иерархии, иными словами, обслуживают интересы тех, кто определяет себя как литераторов. В свою очередь, «стихи в журналах» как одна из форм бытования литературы олицетворяют важное свойство литературного процесса – изымать тексты из их первичного, ведомого лишь автору, контекста и помещать их в новый контекст, почти не подконтрольный автору и до известной степени случайный. И то и другое выводит творчество (т. е. его продукты) из сферы частной жизни, и именно этому Цветаева инстинктивно сопротивляется. Фраза 1931 года о «рожденном отвращении ко всякой кружковщине» (курсив наш. – И. Ш.), не только метафорически подчеркивет глубину неприязни Цветаевой к данному институту литературной жизни, но и буквально отсылает к истоку этой неприязни – по рождению доставшемуся социальному статусу, не включающему профессию в число основных жизненных установок.
Действительно, позиция Цветаевой не была бы чем‐то из ряда вон выходящим еще два десятилетия назад: в России XIX века женщине-дворянке, пишущей стихи или прозу, было естественно не рассматривать это занятие как профессию. Однако ситуация начала довольно быстро меняться еще с 1880‐х годов, когда литература (включая журналистику) сделалась в России одной из самых открытых для женщин областей профессионализации7777
См. об этом: Rosenthal Ch. Carving out a Career: Women Prose Writers. 1885–1917. The Biographical Background // Gender and Russian Literature: New Perspectives / Ed. by Rosalind Marsh. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 129–140.
[Закрыть]. Именно в нее и устремилось значительное число женщин, имевших необходимое для литературного труда образование и нуждавшихся в профессии материально. В результате к началу ХХ века в литературной среде сформировалось устойчивое ожидание, что женщина, однажды заявившая о себе в печати, воспринимает этот свой шаг как выбор профессии и будет всеми силами стараться закрепиться в ней. Даже те из женщин, кто материальной необходимости в профессии не имел, довольно быстро осваивались с общим стилем профессионального поведения. Различия между мужским и женским поведением в профессии быстро стирались: в конечном счете, целью тех и других было общественное признание, репутация и часто – заработок.
Таким образом, необычность позиции по отношению к литературе как институту, которую заняла в начале 1910‐х годов Цветаева, состояла лишь в ее архаичности. Это была позиция женщины-дворянки, серьезно относящейся к своим творческим опытам, но не считающей их основой для профессионального самоопределения. Разумеется, Цветаева выбирала свою линию поведения интуитивно и не воспринимала ее ни как вызывающую, ни как архаичную. Однако для характеристики ее культурной личности важно, что комфортной для нее оказалась позиция, по существу противоположная той, что стимулировалась тогдашним социо-культурным контекстом.
Избрав такую позицию, Цветаева вступила в игру, дальние последствия которой были трудно предсказуемы, а ближайшие результаты – разрушительны для ее текущей репутации. Некоторое время критика продолжала по инерции упоминать ее имя в разборах современной поэзии, закрепляя за ней то место, на котором ее давно уже не было. Стихи Цветаевой из первых двух сборников попали в ряд антологий первой половины – середины 1910‐х годов. Однако новые имена, стремительно заполнявшие литературную сцену в этот период, вытесняли имя Цветаевой на периферию.
Между тем ее знакомства в литературной среде умножались. Это и были те «встречи с поэтами <…> не – поэта, а – человека, и еще больше – женщины: женщины, безумно любящей стихи» (СТ, 436), о которых она вспоминала впоследствии. Свое амплуа в этих встречах Цветаева с иронией описывала спустя годы: «Я была НЯНЬКОЙ при поэтах – совсем не поэтом – и не Музой! – молодой (иногда трагической!) нянькой. – Вот. – С поэтами я всегда забывала, что я – поэт. А они, можно сказать – и не подозревали» (СТ, 118). Гиперболизация собственного «не-поэтического» амплуа лишь оттеняла в этом описании меру отрефлектированности былого различия между поведенческими установками тех, кого Цветаева называет здесь «поэтами», – и ее собственными. Иронический сарказм, с которым Цветаева будет рисовать в начале 1920‐х годов обобщенный портрет своих литературных знакомых 1910‐х годов, объясняется тем, что тема собственного несовпадения с «нормой» станет для нее в ретроспективе очень чувствительной:
Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. – И всё. – Каторжного клейма поэта я ни на одном не видела: это жжет за версту! Ярлыков стихотворца видала много – и разных: это, впрочем, легко спадает, при первом дуновении быта. Они жили и писали стихи (врозь) – вне наваждения, вне расточения, копя все в строчки – не только жили: наживались. И достаточно нажившись, разрешали себе стих: маленькую прогулку ins Jenseits7878
в иной (потусторонний) мир (нем.).
[Закрыть]. Они были хуже не-поэтов, ибо зная, чтó им стихи стоют (месяцы и месяцы воздержания, скряжничества, небытия!), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников зáживо. И у меня никогда не было соблазна им отказать: галантно кадила – и отходила. <…>
И – забавно – видя, как они их пишут (стихи), я начинала считать их – гениями, а себя, если не ничтожеством – то: причудником пера, чуть ли не проказником. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плáчу, наряжаюсь – и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр<имер>, вот Чурилин, напр<имер> – поэты». Такое отношение заражало: оттого мне все сходило – и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет7979
В 1912 году Цветаевой исполнилось 20 лет.
[Закрыть]) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. Оттого я есмь и буду без имени (письмо к Б. Пастернаку от 10 февраля 1923 года; МЦБП, 33–34).
Собственная былая идентичность описывается здесь Цветаевой через метафору «причудника пера», для которого творчество – естественная и непосредственная часть жизни, не имеющая особого иерархического статуса в индивидуальном бытии человека. Грани между своим частным существованием и творчеством, выносимым на суд публики, «причудник пера» провести не в состоянии. У «других» («поэтов», «гениев») все иначе: они живут и пишут «врозь» и при этом готовы всячески ограничивать себя в «жизни» ради творческих свершений, отказывать себе в полноте жизненных переживаний ради «строчек». Различие между моделями идентичности литературного дилетанта и литературного профессионала Цветаева описывает здесь достаточно точно, хотя называет эту разницу иначе. Сама же актуальность для Цветаевой темы своего былого отличия от «других» – следствие произошедшего к 1923 году переосмысления оснований своей поведенческой установки более раннего периода. Впоследствии она будет говорить именно об «отсутствии в [ней] литератора (этой общественной функции поэта)» (СС7, 383) как о первопричине своего литературного отшельничества в 1910‐е годы. Изменит поведенческую стратегию Цветаевой только революция, и об этом пойдет речь уже в следующей главе.
«Женская поэзия»
В 1916 году Владислав Ходасевич писал: «В последние годы целый ряд появившихся даровитых поэтесс заставил о себе говорить. <…> Так называемая “поэзия женской души” привлекла общее внимание любителей поэзии. Специфическая “женскость” стихов стала оцениваться много выше, чем до сих пор оценивалась»8080
Ходасевич В. [Рец.] София Парнок. Стихотворения. Петроград, 1916 // Ходасевич В. Собр. соч. Анн Арбор: Ардис, 1990. Т. 2. С. 255.
[Закрыть]. Бурный интерес критики и вообще литературного сообщества к женскому поэтическому творчеству действительно стал одной из ярких примет русской культурной истории 1910‐х годов, – так что дебют Цветаевой еще и в этом отношении пришелся на благоприятный момент. Cущественно при этом не само по себе количество появившихся в эти годы женщин-поэтов8181
О нем дает, например, представление составленная М. Л. Гаспаровым, О. Б. Кушлиной и Т. Л. Никольской антология «Сто одна поэтесса Серебряного века» (СПб.: ДЕАН, 2000).
[Закрыть], но степень внимания критики к ним и их творчеству. Именно благодаря последней можно говорить о качественном, идеологически освященном феномене «женской поэзии», не «беззаконной кометой» ворвавшейся на русскую литературную сцену, но в значительной мере вызванной к жизни внутренней логикой развития литературного модернизма в России.
Разумеется, и распространение политического феминизма, и стремительное увеличение числа женщин, занятых в разных профессиях (в том числе и в литературе), и продолжавшаяся уже несколько десятилетий общественная дискуссия о «положении женщины» вообще – все это было следствием эволюции социально-экономической ситуации в России (как и на Западе), способствовавшей более активному вовлечению женщин в экономическую и все прочие сферы общественной жизни8282
См. об этом: Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia; Edmondson L. Feminism in Russia; Kelly C. A History of Russian Women’s Writing. 1820–1992. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 121–180 (глава «Configurations of Authority: Feminism, Modernism, and Mass Culture. 1881–1917»).
[Закрыть]. Однако разные следствия этой общей причины имели разную динамику развития, которую определяли уже более частные факторы. О таких частных факторах, сформировавших культурный конструкт «женской поэзии» в русском модернизме, и пойдет речь.
Именно в контексте разговора о «женской поэзии» первый сборник Цветаевой был представлен публике в первой рецензии на него, написанной М. Волошиным. В обширной преамбуле, предварявшей разговор о «Вечернем альбоме», критик отметил резкую перемену, произошедшую в самое недавнее время в творчестве женщин-поэтов. Прежде «как бы скрывавшие свою женственность», «предпочитавшие в стихах мужской костюм, и писавшие про себя в мужском роде»8383
Волошин М. Женская поэзия. С. 6.
[Закрыть], поэтессы неожиданно переменили не только грамматический род, но и манеру презентации себя в стихах.
В поисках причин замеченной им метаморфозы франкофил Волошин обращался к аналогии с современной французской словесностью. Он указывал на «загадочный и пышный расцвет женской поэзии во Франции» в последнее десятилетие, т. е. в поколении поэтов, которое «пришло после символистов». Волошин отмечал, что «в некоторых отношениях эта женская лирика интереснее мужской», что «она менее обременена идеями, но более глубока», ибо «женщина глубже и подробнее чувствует самоё себя, чем мужчина, и это сказывается в ее поэзии»8484
Там же.
[Закрыть]. Далее он переходил к текущей литературной ситуации в России:
В русской литературе мы можем наблюдать почти параллельное течение. Последние годы, которые были сравнительно бедны появлением новых поэтов, принесли нам стихи Любовь Столицы, Аделаиды Герцык, Маргариты Сабашниковой, про которые Бальмонт писал, что они – эти стихи – единственное, что есть интересного в русской поэзии. В «Аполлоне» за этот год были напечатаны два цикла стихотворений такой интересной поэтессы, как Черубина‐де-Габриак, и только что вышла книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом»8585
Там же.
[Закрыть].
Параллель между русской и французской литературой вероятно призвана была подчеркнуть объективный характер описываемого явления. Когда же Волошин переходил к анализу причин успеха женского поэтического творчества в современную эпоху, на передний план в его рассуждении выходили культурно-мифологические представления, трактовавшие взаимоотношение пола и творчества и имевшие вполне определенный источник:
Но что же может ожидать этот двойной и параллельный расцвет женской лирики в России и во Франции? И там и у нас он наступил после творческой полосы, посвященной разработке, утончению и освобождению поэтической речи.
Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идет творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нем и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже. Но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии названных мною поэтесс придает то, что каждая из них говорит не только за самое себя, но и за великое множество женщин, каждая является голосом одного из подводных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины. Этой силы подводных глубин не было у поэтесс предшествующего поколения, примкнувших к мужской, аналитической лирике, например, у Зинаиды Гиппиус8686
Там же.
[Закрыть].
Характеристики, которые Волошин клал в основу противоположения поэзии женской и мужской, свидетельствовали о творческой переработке им идей Отто Вейнингера8787
Об идеях Вейнингера и их рецепции в России см. подробнее: Берштейн Е. Трагедия пола: две заметки о русском вейнингерианстве // Новое литературное обозрение. 2004. № 65. С. 208–228.
[Закрыть], книга которого «Пол и характер» стала интеллектуальным бестселлером в России в конце 1900‐х – начале 1910‐х годов8888
За период с 1908 по 1912 год переводы «Пола и характера» достигли рекордного для своего времени суммарного тиража; к тому же, книга подробно реферировался в газетах и журналах. (О тиражах книги см.: Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton: Princeton University Press, 1997. P. 39.) В обсуждении идей Вейнингера приняли участие многие видные представители русского модернизма: Вяч. Иванов, А. Белый, З. Гиппиус, Н. Бердяев, В. Розанов, П. Флоренский.
[Закрыть]. В своем исследовании Вейнингер постулировал закрытость области творчества для женщины, ибо у нее нет личности, нет дифференцированного «я», и ее способности целиком определяются целями родового воспроизводства8989
Вейнингер не отрицал, однако, существования женщин, одаренных творческими талантами. По его теории, все люди совмещают в себе мужское и женское начало, однако в биологических мужчинах доминирует мужское, в биологических женщинах – женское. Те биологические женщины, в которых мужское начало близко к 50 % (каковых очень немного) как раз и оказываются способными к творчеству. Иначе говоря, творчество может быть открыто человеку постольку, поскольку в нем присутствует мужское начало, и принадлежит творческая способность именно и только этому началу.
[Закрыть]. Волошин, опираясь на предложенные Вейнингером категории «личности» (мужское начало) и «рода» (женское начало), предлагал, однако, совершенно иное ви´дение проблемы: женское начало дополняет творческую сферу культуры, ибо вносит в нее то, чего не может ей дать мужское начало. «Значительность» лирики женщин-поэтов он напрямую увязывал с воплощением в ней «родового» начала9090
Этот культурный миф оказался очень живучим; любопытно, что уже в зрелые годы сама Цветаева высказывалась в пользу понимания женского творчества как «родового». См. ее франкоязычную тетрадную запись 1932 года «Anonimat de la création féminine» (СТ, 492).
[Закрыть].
Мифологизируя на свой лад литературную ситуацию, Волошин не связал, однако, ту грань, которая пролегла между старшим и младшим поколением женщин-поэтов в России с обстоятельствами более специфичными, чем завершение периода «разработки стиха и поэтической речи». Между тем самый пафос Волошина, пафос отношения к женскому началу как к источнику особых творческих возможностей и как к проводнику уникальных, без него культуре не ведомых духовных веяний, – весь этот пафос еще совсем недавно был невозможен в устах русского литератора. Возможным и актуальным сделало его предшествующее десятилетие, когда усилиями небольшой группы молодых поэтов-символистов мистико-философское учение Владимира Соловьева о Вечной Женственности было превращено в один из центральных мифов русского модернизма. С одной стороны, понимавшие «женственность» как мистико-философскую категорию, а с другой – искавшие воплощения этой категории в земном облике, символисты-соловьевцы способствовали формированию в 1900‐е годы атмосферы ожидания последних откровений, которые должны были прийти в современную жизнь через женское начало9191
На роль символистской идеологии в формировании особых ожиданий от женского творчества указывает также К. Келли (см.: Kelly C. A History of Russian Women’s Writing. P. 163–165).
[Закрыть]. Даже последующее трагическое «изменение облика» небесной «жены», вдруг представавшей у Блока ресторанной Незнакомкой, уже не убивало, а развивало миф, обогащая арсенал поэтических масок будущих поэтесс.
Символисты-соловьевцы были не одиноки. Со своих позиций, но с не меньшим пафосом, рассуждал о существенности «женского вопроса» для современной жизни ведущий теоретик символизма Вяч. Иванов: «“Женский вопрос”, в его истинном смысле, ставит нас лицом к лицу не только с запросами общественной справедливости, но и с исканиями мировой, вселенской правды»9292
Иванов Вяч. О достоинстве женщины // Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1979. Т. 3. С. 137.
[Закрыть]. Интеллектуальный контекст этих исканий не был исключительно (и даже по преимуществу) мистическим. Зарождение современной психологии и устойчиво развивавшийся на этой волне с конца XIX века интерес к «проблемам пола» создавали серьезное подспорье в том перевороте, который происходил в умах художественно-интеллектуальной элиты. Показательно, что и книга Вейнингера, суммировавшая представления современной медицины и предлагавшая им авторскую философскую интерпретацию, никак не остановила волны интереса к женскому творчеству, а быть может – и усилила этот интерес9393
На наш взгляд, неправа К. Келли, утверждающая, что книга Вейнингера способствовала формированию атмосферы, неблагоприятной для вхождения женщин в литературу, и что этим (неблагоприятной атмосферой) и отличаются 1910‐е годы («пост-символистский» период) от предыдущего десятилетия (Kelly C. A History of Russian Women’s Writing. P. 171–173). Это умозрительное заключение слишком очевидно противоречит фактам (см. ниже в тексте).
[Закрыть]. Женское творчество делалось модной темой критических дискуссий, что создавало почву для формирования особой идентичности женщины-художника, более не копирующей мужскую идентичность (на это и обратил внимание Волошин). К 1910 году перемены литературного ландшафта кристаллизовались, а то что центром дискуссии стала именно женская поэзия, объяснялось центральной ролью поэзии вообще в литературе модернизма в тот период.
Грань между двумя поколениями женщин-поэтов, о которой размышлял Волошин, пролегла именно здесь. Старшие, вступавшие в литературу до того, как символистско-соловьевская утопия и дискурс о «проблемах пола» вполне оформились, пользуясь словами Волошина, «предпочитали в стихах мужской костюм». По отношению к ним никто о «женской поэзии» и не говорил (хотя существование женщин-поэтов, конечно, отмечали и раньше), и лишь постфактум, в 1910‐е годы, они были причислены к этой парадигме. Младшее же поколение женщин-поэтов, то, что начало свой литературный путь во второй половине 1900‐х годов или позднее, стало истинным «литературным героем» эпохи. Термины «старшее» и «младшее» здесь до известной степени условны. Появление новой ниши под названием «женская поэзия» открыло путь в литературу ряду поэтесс, которые прежде не видели в ней для себя места и потому публиковаться не спешили.
Ничто так не способствовало оформлению новой ниши, как бурные дебаты в критике. Термин «женская поэзия», однажды введенный в оборот, быстро формировал и у читающего и у пишущей представление о то ли необходимом, то ли неизбежном единстве, которое должно было отмечать все, подпадавшее под данную рубрику. Соответственно, индивидуальное было обречено читаться как родовое, более того – могло уже и писаться как таковое. Но в этом и виделось достоинство «женской поэзии». Волошин не случайно полагал преимущество «женской поэзии» в том, что это в значительной мере «лирика рода, а не личности». Кризис индивидуализма, ставший частью общего мироощущения рубежа десятилетий, стимулировал именно такую интерпретацию. Ибо если от женского начала ждали открытия новых истин и путей, то ни от чего так не хотелось уйти модернисту начала 1910‐х годов, как от своего обреченно-одинокого предстояния перед лицом Вечности. В пишущей женщине, таким образом, персонифицировалась вера в то, что трагический индивидуализм современного человека преодолим.
Надежды, связывавшиеся с «женской поэзией», были утопически-неопределенными. Прежде всего от нее ждали ощутимой непохожести на поэзию мужскую, а поскольку практически вся русская поэтическая традиция была именно мужской, то сами параметры этой непохожести формулировались критикой лишь дедуктивно, на основании конкретных примеров. Для критики, стремившейся поймать в фокус специфику «женской поэзии», стихи Цветаевой как раз и оказывались одним из таких примеров. Рецензент «Волшебного фонаря» писал, например:
Стихи г-жи Цветаевой очень женские стихи. Не «дамские», к счастью, а именно женские. Лучше всего ей удаются темы интимной жизни, сцены детства, воспоминания о далеких днях <…>.
Ну, конечно, это не мировые темы. Но право же это лучше, чем хлопать мироздание по плечу и амикошонствовать с вечностью, как большинство наших «новых» поэтов9494
[Б. п.] Новости литературы // Голос Москвы. 1912. 24 мар. № 70. С. 5.
[Закрыть].
Усталость от «мировых тем», а точнее от комплекса философских и мистических настроений, нашедших выражение в символистской поэзии 1890–1900‐х годов, оказывалась одной из важных составляющих интереса к возможностям «женской поэзии». Символизм, частью своей идеологии проложивший дорогу женскому творчеству и ожидавший от женского начала вовсе не откровений о частной жизни, дождался увидеть в «женской поэзии» лишь одно из своих неблагодарных, «родства не помнящих» детищ.
Если ведущая роль в привитии модернизму соловьевского мифа о Вечной Женственности принадлежала литераторам-мужчинам, то и «идеологическое обеспечение» существования «женской поэзии» в 1910‐е годы оставалось в основном за ними. При этом авансы, делавшиеся женскому творчеству, были действительно впечатляющими. Критик П. Перцов писал, например:
За последнее время от наших поэтесс ждешь и находишь как‐то больше, чем от поэтов. Наступил какой‐то «суфражизм» в русской поэзии. Или, в самом деле, близится возобновленное после тысячелетий «господство женщин»? Ведь никогда сильный пол так не пасовал перед слабым, как в наш «декадентский» век?9595
П-ов П. [Перцов П.] Интимная поэзия // Новое время (Илл. прил.). 1913. № 13327. С. 9–10.
[Закрыть]
Дело не ограничивалось одними восторгами перед заговорившими «незнакомками». Мужчины-литераторы активно занимались формированием новой идентичности, культурной личности женщины-поэтессы. Самым знаменитым экспериментом в этом роде была мистификация Черубины‐де-Габриак, срежиссированная М. Волошиным. Она показала, насколько силен был в текущей литературной ситуации голод на загадочных «незнакомок», голод, для утоления которого неординарность личности была куда важнее оригинальности создаваемых ею текстов. Своим путем пошел В. Брюсов, решивший выступить в роли поэтессы и обогатить арсенал своих поэтических стилизаций опытом в области «женской поэзии». Его «Стихи Нелли» (1913) стали, прежде всего, индикатором престижа, который женский поэтический голос получил в текущей словесности. Брюсов сделал и нечто еще более важное: дал русской «женской поэзии» ее историю, представление о своих корнях. Он подготовил и издал в 1915 году двухтомник Каролины Павловой, стремительный взлет литературной репутации которой был предопределен назревшей необходимостью заполнить «вакансию» родоначальницы «женской поэзии» в России.
Впрочем, было бы несправедливо утверждать, что апологетический тон составлял обязательную норму при обсуждении «женской поэзии». Сергей Городецкий, например, в статье с говорящим названием «Женское рукоделие» высказывал недоумение по поводу исповедания пишущими «прав женщины-поэта на какую‐то особенную поэзию»9696
Городецкий С. Женское рукоделие // Речь. 1912. 3 апр. № 117. С. 3.
[Закрыть]. Н. Новинский (Ашукин), анализируя сборники А. Ахматовой, М. Цветаевой, Е. Кузминой-Караваевой, Л. Столицы, М. Шагинян и Н. Львовой, находил, что женская поэзия «даже о душе женщины не сказала ничего нового», и делал неутешительный вывод: «В общем современные поэтессы мало внесли в поэзию своего, нового. Они говорят о том же, о чем и другие поэты, может быть, иногда по‐женски лиричнее и мягче, иногда – по‐женски слабо и неумело»9797
Новинский Н. [Ашукин Н. С.] Современные женщины-поэты // Мир женщины. 1913. № 19. С. 6.
[Закрыть]. Однако погоду в текущей литературе делали иные мнения.
Отсутствие определенного канона, связываемого с «женской поэзией», в сочетании с ожиданиями неподчинения женского творчества канонам «мужской» поэзии, давало женщинам-поэтам большую свободу в выборе своего стиля, своей тематики, своего пути – свободу, которой было куда меньше у их собратьев-мужчин, строивших свое творческое самоопределение в напряженном диалоге с традицией. Впоследствии Цветаева могла язвительно иронизировать над делением поэзии на основе «принадлежности к мужескому или женскому полу» (СС4, 38), но в первой половине 1910‐х годов литературная ситуация, поставившая «женскую поэзию» в привилегированное положение, сыграла огромную раскрепощающую роль в ее творческом развитии.
Показательно, в частности, как быстро потеряли актуальность и исчезли из стихов Цветаевой мотивы связанных с полом ограничений и табу9898
См. интересные наблюдения на эту тему: Gove A. The Feminine Stereotype and Beyond: Role Conflict and Resolution in the Poetics of Marina Tsvetaeva // Slavic Review. 1977. Vol. 36 (2). P. 231–255.
[Закрыть]. Автора «Вечернего альбома» эти темы тревожили, о чем свидетельствуют такие стихотворения, как «В Люксембургском саду» или «Rouge et Bleue». Цветаева чувствовала необходимость найти формулу примирения стереотипа «женского счастья» и плохо ему соответствующих ролевых образцов, важных для нее:
Я женщин люблю, что в бою не робели,
Умевших и шпагу держать, и копье, —
Но знаю, что только в плену колыбели
Обычное – женское – счастье мое!
(«В Люксембургском саду»; СС1, 54)
Несправедливо, на наш взгляд, видеть в этом стихотворении, как это делает А. Динега, противоположение себя как творческой личности другим, обыкновенным, женщинам9999
Dinega A. W. A Russian Psyche. P. 12–13.
[Закрыть]. Цветаева здесь никому себя не противопоставляет. Она говорит пока о внутреннем конфликте, живущем в ней: знании о традиционном образе «женского счастья» и ощущении своей склонности к иным, не предусмотренным непосредственной традицией ролям.
В «Волшебном фонаре» этот конфликт уже изживается и переводится, как и другие серьезные темы «Вечернего альбома», в игровую плоскость. В таких стихотворениях, как «Только девочка» и особенно «Барабан», Цветаева ясно дает понять, что психологически сковывавшие ее прежде стереотипы «правильного» женского поведения над ней больше власти не имеют: «Женская доля меня не влечет: / Скуки боюсь, а не ран!» (СС1, 146). В «Юношеских стихах» и в «Верстах I» тема «ролевого конфликта», связанного с предписываемыми полом поведенческими стереотипами, уже не появляется.









































