Читать книгу "Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи"
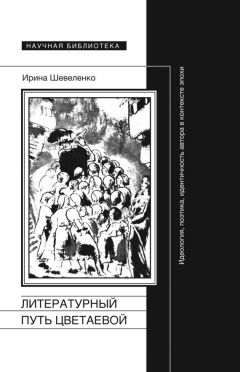
Автор книги: Ирина Шевеленко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Если мода на «женскую поэзию» явилась важным раскрепощающим фактором для творчества большинства женщин-поэтов 1910‐х годов, то в случае Цветаевой к нему добавился еще и другой: отсутствие установки занять определенное положение в текущей литературной жизни, быть профессионалом, связанным с внутрилитературной политикой. В результате эти годы стали для Цветаевой временем такой творческой свободы, которая редко выпадает на долю поэта в любую эпоху. Излишне говорить, что свобода эта была столько же даром, сколько и испытанием.
«История Байрона»
Стихотворение «Дикая воля» из «Волшебного фонаря» лучше прочих предсказывало направление, которое приняло творчество Цветаевой в 1913 году:
Я люблю такие игры,
Где надменны все и злы.
Чтоб врагами были тигры
И орлы!
Чтобы пел надменный голос:
«Гибель здесь, а там тюрьма!»
Чтобы ночь со мной боролась,
Ночь сама!
Я несусь, – за мною пасти,
Я смеюсь, – в руках аркан…
Чтобы рвал меня на части
Ураган!
Чтобы все враги – герои!
Чтоб войной кончался пир!
Чтобы в мире было двое:
Я и мир!
(СП, 47)
Концовка этого стихотворения отозвалась в 1929 году в очерке «Наталья Гончарова»: «История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. Обе ценны, первая как Бог и я, вторая как я и мир» (СС4, 80). «Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди» (СС4, 79), – варьировала Цветаева эту же мысль чуть выше. Хотя 1913–1915 годы, конечно, не являются в точном смысле слова юношеским периодом в жизни Цветаевой, именно «Юношескими стихами» назвала она впоследствии сборник этих лет, так и не вышедший при ее жизни100100
Существует несколько вариантов рукописей сборника, различающихся по составу. О двух рукописях, находящихся в фонде М. Цветаевой в РГАЛИ, см.: Коркина Е. Б. О «Юношеских стихах» Марины Цветаевой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник на 1983 год. Л.: Наука, 1985. С. 124–125, прим. 7. О третьей рукописи, по которой сборник опубликован в первом томе пятитомника Цветаевой «Стихотворения и поэмы» (New York: Russica Publishers, 1980), см. заметку В. Швейцер «Юношеские стихи» в примечаниях к этому тому (С. 291–292).
[Закрыть]. Работая над очерком «Наталья Гончарова» в конце 1920‐х годов, Цветаева, скорее всего, проецировала свои слова не только на «юность» вообще, но и на тот период собственной творческой биографии, который отражен в этом сборнике.
Его название, впрочем, зафиксировало уже ретроспективную оценку этого творческого этапа. Сборник составлялся в первой половине 1920 года, и все пережитое в революционные годы делало период 1913–1915 годов психологически куда более далеким, чем об этом говорила фактическая хронология. Это ощущение огромности дистанции между собой тогда и теперь Цветаева, вероятно, и вложила в название сборника. Возрастной отпечаток, интонационный и тематический, лежавший на многих стихах этого периода, дополнился навсегда на них оттиснутой печатью иной эпохи, ставшей почти в одночасье невозвратно далекой, т. е. «юношеской».
«Юношеские стихи» представляют один из самых драматичных периодов не только человеческой, но именно литературной биографии Цветаевой. Если «Вечерний альбом», по замечанию Волошина, имел особую «документальную важность» как книга, «принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передать наблюдение и чувство»101101
Волошин М. Женская поэзия. С. 6.
[Закрыть], то «Юношеские стихи» – это сборник, в котором на глазах читателя разворачивается процесс поиска автором своего стиля, процесс сознательного отбора своего поэтического инструментария. Спонтанная «вне-литературность» установки Цветаевой (в описанном выше смысле) ослабляет ее рефлексию над такими категориями, как оригинальность, подражательность, тавтологичность. Это легко позволяет ей идти по пути самоповторений и «общих мест» текущей поэтической и интеллектуальной моды – до того момента, пока копившийся потенциал творческого прорыва не «взрывает» ее творческую манеру.
Внутренний сюжет «Юношеских стихов» предопределяется той исходной позицией, которую декларировал автор стихотворения «Дикая воля». Самоутверждение перед лицом мира переходит в стремление включить мир в свою орбиту; неподчинение мира, автономность его законов по отношению к воле отдельного человека образует ядро конфликта; признание власти над собой тех сил, о существовании которых прежде не подозревал, отмечает финал.
Если справедливо назвать время «Юношеских стихов» периодом «зрячей ошибки, иллюзии» в жизни автора, то источник ее – более эпохальный, чем личный. Цветаева вообще обнаруживает в стихах этих лет куда бóльшую, чем прежде, зависимость от интеллектуальных веяний времени. Сама «безудержность эгоцентризма»102102
Коркина Е. Б. О «Юношеских стихах» Марины Цветаевой. С. 120.
[Закрыть], с которой начинает автор «Юношеских стихов», есть уже первая примета этой зависимости. В этом эгоцентризме воплощается один из характерных комплексов эпохи – романтическая тема состязания «сильной личности» с законами и обычаями мира, понятая через ницшеанский код. Связанный с ней мотив непримиримой противоположности смертного человека и вечного мира (из которой рождалась идея Ницше о необходимости «преодоления человека» и о «сверхчеловеке»), вдохновляет Цветаеву на многочисленные поэтические опыты. О духе «аристократического индивидуализма», «нашедшего самого крайнего и самого прекрасного выразителя в лице Фридриха Ницше»103103
Эллис. Русские символисты. М.: Мусагет, 1910. С. 31.
[Закрыть], Цветаева должна была слышать от Эллиса еще раньше. Однако время для ее собственного «ницшеанства» наступило только теперь, в 1913 году.
«Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле» (СС5, 230), – именно этот мотив из предисловия к сборнику «Из двух книг» становится главенствующим в стихах 1913–1914 годов. Вокруг темы конечности жизни постоянно вращается теперь поэтическое воображение Цветаевой. Тема смерти как универсальная поэтическая тема присутствовала, конечно, и в ее первых сборниках. В них смерть воспевалась как благодать и начало новой жизни: «Смерть окончанье – лишь рассказа, / За гробом радость глубока» («Памяти Нины Джаваха»; СС1, 56). Несколько стихотворений «Вечернего альбома» были посвящены и теме самоубийства104104
Следует иметь в виду, что эти стихи писались в эпоху эпидемии самоубийств, охватившей русское общество после поражения революции 1905–1907 годов. Сообщения о самоубийствах и предсмертные записки самоубийц печатались в газетах. Стихотворение «Жертвам школьных сумерок» из «Вечернего альбома» – отклик на одну из таких газетных корреспонденций.
[Закрыть] (в том числе, собственного), которое трактовалось как добровольный уход в лучшую жизнь из несовершенной земной жизни. Такое понимание смерти отвечало духу романтико-символистской мифологии жизни и смерти. Так, например, Бальмонт в своем стихотворении «Смерть» провозглашал:
Не верь тому, кто говорит тебе,
Что смерть есть смерть: она – начало жизни,
Того существованья неземного,
Перед которым наша жизнь темна,
Как миг тоски – пред радостью беспечной,
Как черный грех – пред детской чистотой.
<…>
Живи, молись – делами и словами,
И смерть встречай как лучшей жизни весть105105
Бальмонт К. Собр. стихов. М., 1904. Т. 1. С. 3–4.
[Закрыть].
В «Юношеских стихах» смерть совершенно меняет свой смысл и облик. Она становится синонимом полноты разрушения и невосстановимой утраты всего, что составляло суть человека и смысл его бытия, а фоном этого разрушения оказывается неколебимое постоянство земной жизни:
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё – как будто бы под небом
И не было меня!
(«Уж сколько их упало в эту бездну…»; СС1, 191)
И так же будут таять луны
И таять снег,
Когда промчится этот юный,
Прелестный век.
(«Быть нежной, бешеной и шумной…»; СС1, 193)
Конечно, для того чтобы увлеченно писать одно за другим свои «стихи о юности и смерти» (СС1, 178), нужно было ощутить эту тему как лично важную. Однако подобное ощущение стимулировалось именно контекстом времени, и потому необходимо выделить в этих стихах Цветаевой тот идейный каркас, который отнюдь не личен. Ницшеанским идеям принадлежит в его конструкции решающее место. И сама Цветаева находилась в этот период под несомненным обаянием Ницше (в особенности – его Заратустры)106106
Вопрос о том, какие произведения Ницше, кроме «Так говорил Заратустра», Цветаева к этому времени прочитала, несущественен; ницшеанство было в эти годы частью очень широкого дискурса, и об идеях Ницше можно было знать, не читая его. О рецепции Ницше в России см.: Clowes E. W. The Revolution of Moral Consciousness: Nietzsche in Russian Literature, 1890–1914. DeKalb: Northern Illionois University Press, 1988.
[Закрыть], и в ее кругу идеи Ницше широко обсуждались. Любопытна позднейшая фраза Вяч. Иванова о сестре М. Цветаевой Анастасии: «Она же хотела быть вторым Ницше, кончить Заратустру» (ЗК2, 169). Возможно, у А. Цветаевой действительно были такие планы, но реализованными оказались не они, а две прозаические книги, «Королевские размышления» (1915) и «Дым, дым и дым» (1916), которые по своей поэтике и идеологии были подражанием одновременно и Ницше и Розанову. В этих книгах в более «чистом», чем у М. Цветаевой, виде можно обнаружить идейные клише, которыми питалось цветаевское поэтическое «бунтарство»:
Вообще – безнадежность так проста, так ясна: мир существовал и будет существовать. Для чего и кем – неизвестно. Мы живем из всей вечности 20, 50, 70 лет. И хоть бы кругом пир, великолепие, золото, тигровые шкуры, чаши с вином, книги, вся мудрость земли, христианство, буддизм, теософия, – всё же через 50 лет нас не будет и всё будет зелено на земле107107
Цветаева А. Королевские размышления. М., 1915. С. 25.
[Закрыть].
Именно этой «безнадежности», сознавая ее, сопротивляется «сильная личность». Смерть для нее возмутительна прежде всего потому, что, уравнивая всех, уничтожает самую возможность исключительности: «О возмущенье, что в могиле / Мы все равны!» (СС1, 192). В этом ключе трактуется смерть в целом ряде стихов Цветаевой 1913–1914 годов.
Однако подобный ракурс темы смерти не единственный. Иную рамку для интерпретации значения «мыслей о смерти» в индивидуальном бытии предлагает литературный воспитатель Цветаевой этих лет – М. Волошин. Одна из его ключевых статей «Аполлон и мышь», наверняка прочитанная Цветаевой, так трактует эту тему:
Горькое сознание своей мгновенности, своей преходимости лежит в глубине аполлинического духа, который часто и настойчиво в самые ясные моменты свои возвращается к этой мысли.
Каждая великая радость таит на дне своем грусть. Больше: вся полнота аполлинийской радости достигается лишь тогда, когда ей сопутствует грусть108108
Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 102. Впервые статья опубликована в пятом выпуске альманаха «Северные цветы» (М.: Скорпион, 1911).
[Закрыть].
Сходному пониманию смерти также находится место в цветаевских стихах: «Странно чувствовать так сильно и так просто / Мимолетность жизни и свою» (СП, 57). Наконец, несомненно актуальным в этот период для Цветаевой оказывается ракурс темы смерти, предложенный в предисловии Михаила Кузмина к сборнику А. Ахматовой «Вечер» (1912), который Цветаева впервые прочитала летом 1912 года:
В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть. Каждый день их, каждый час был предсмерным. Хотя предсмертное времяпрепровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Вы сами знаете, что в минуты крайних опасностей, когда смерть близка, в одну короткую секунду мы вспоминаем столько, сколько не представится нашей памяти и в долгий час, когда мы находимся в обычном состоянии духа109109
Цит. по: Ахматова А. Десятые годы. М.: Изд-во МПИ, 1989. С. 50.
[Закрыть].
Дух поэзии Ахматовой Кузмин лишь косвенно связывал с духом «Александрийского общества»: «…мы не хотим сказать, чтобы мысли и настроения ее (Ахматовой. – И. Ш.) всегда обращались к смерти, но интенсивность и острота их такова»110110
Там же. С. 51.
[Закрыть]. Цветаева это предисловие, конечно, помнила и, возможно даже, писала свое предисловие к сборнику «Из двух книг» в начале 1913 года с оглядкой на него. Более того, мотивы «предсмертного обострения восприимчивости» и наслаждения миром «каждую минуту последний раз» кажутся более близкими сознанию автора «Юношеских стихов», чем сознанию автора «Вечера».
В многочисленных поэтических рассуждениях Цветаевой 1913–1914 годов о вечности земных прелестей и неотвратимости индивидуальной смерти уху последующих поколений легче всего уловить неизбывное благополучие эпохи, еще не ведающей эфемерности земных постоянств. Совсем скоро исторические катаклизмы выжгут дотла и то ви´дение жизни, и то ви´дение смерти, которым дышат «Юношеские стихи». В «Герое труда» (1925) Цветаева между прочим упомянет письменный отзыв, которым сопроводил Сергей Бобров в 1920 году возвращенный ей из Лито экземпляр рукописи этого сборника: «До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти» (СС4, 31). В этих словах рецензента будет сознательное оттолкновение от всего духа предреволюционной (точнее даже – предвоенной) эпохи, который питал стихи Цветаевой. Этот «дух эпохи», впрочем, лишь по‐своему высвечивал авторскую индивидуальность.
В стихотворении о смерти Башкирцевой, которым открывался сборник «Юношеские стихи», драма ухода человека из мира передавалась через подчеркивание противоположности его земной сущности атмосфере его кончины:
Он приблизился, крылатый,
И сомкнулись веки над сияньем глаз.
Пламенная – умерла ты
В самый тусклый час.
<…>
Затерялся в море гула
Крик, тебе с душою разорвавший грудь.
Розовая, ты тонула
В утреннюю муть…
(СС1, 175)
«Башкирцевский» зачин был логичен для «Юношеских стихов» не только потому, что пример ее личности вдохновлял Цветаеву на протяжении вот уже нескольких лет, но и потому, что самые темы лирики сборника как нельзя более сходились с темой жизни Башкирцевой: устремленностью к преодолению смерти. Именно в «Юношеских стихах» настоящий «башкирцевский» период творчества Цветаевой и разворачивался.
Воображая собственную смерть, Цветаева моделировала ее по образу и подобию смерти Башкирцевой: «Я, вечно-розовая, буду / Бледнее всех» (СС1, 193). Противоположность своего живого облика (с башкирцевским атрибутом «розовости») и облика той, что будет когда‐то лежать в гробу, – оказывалась поводом провозгласить мертвое тело не своим, отказать физическим останкам в «праве» на связь с когда‐то живым человеком. Подробно развивало эту тему отдельное стихотворение:
Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроит гроб.
Приоткроют мой высокий
Ненавистный лоб.
Измененная без нужды,
С венчиком на лбу, —
Собственному сердцу чуждой
Буду я в гробу.
Не увидят на лице:
«Всё мне слышно! Всё мне видно!
Мне в гробу еще обидно
Быть как все».
В платье белоснежном – с детства
Нелюбимый цвет! —
Лягу – с кем‐то по соседству? —
До скончанья лет.
Слушайте! – Я не приемлю!
Это – западня!
Не меня опустят в землю,
Не меня.
Знаю! – Всё сгорит дотла!
И не приютит могила
Ничего, что я любила,
Чем жила.
(СП, 56)
Ницшевское «Бог мертв»111111
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 8.
[Закрыть] постоянно присутствует затекстовым фоном цветаевских стихов «по поводу собственной смерти». О своем воинствующем атеизме она вскоре будет сообщать Василию Розанову:
…я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни.
Отсюда – безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы – молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная лихорадочная жадность жить (СС6, 120).
Любопытен этот фрагмент тем, что демонстрирует, как из идеологии рождается стиль. Ибо и «безнадежность», и «безумие», и «судорожность» – суть слова, формирующие определенный стилевой регистр, необходимость в котором вытекает из нового мироощущения. Впечатление стилистической манерности, которое производят сегодня многие поэтические, эпистолярные и дневниковые высказывания Цветаевой этого времени, напрямую связано с самой идеологией ницшеанского индивидуализма и атеизма. Уходя от стилистической наивности раннего периода творчества, Цветаева «впускает» в свой язык клише и штампы, призванные быть знаками новой эмоциональности, в свою очередь являющейся атрибутом нового ви´дения мира.
Ницшеанское неверие в бессмертие («Всё сгорит дотла») уравновешивается ницшеанским же «вечным возвращением». В стихотворении «Идешь, на меня похожий…» монолог умершей героини112112
Строки этого стихотворения «Я слишком сама любила / Смеяться, когда нельзя!» – очевидная референция к смеху Заратустры, раскрывающая ницшеанскую сущность героини.
[Закрыть], обращенный к далекому потомку, по‐видимому, следует трактовать и как насмешку над всей кладбищенской мифологией с ее встающими из гроба покойниками («Не думай, что здесь – могила, / Что я появлюсь, грозя» (СС1, 177)), и как вариацию на тему «вечного возвращения». Если Цветаева уже что‐то слышала к этому времени об идеях победы над смертью и воскрешения мертвых Н. Ф. Федорова113113
Первый том его «Философии общего дела» был опубликован в 1906 году, второй – в 1913 году.
[Закрыть] (полемизировавшего с Ницше прежде всего по вопросу о бессмертии), то ее стихотворение можно считать и актом открытого предпочтения Ницше Федорову: воскрешения мертвых не будет, но некто «похожий» на умершего должен когда‐нибудь вновь пройти его земным путем.
Нельзя не заметить, что среди многочисленных поэтических размышлений Цветаевой о смерти в 1913 году не найдется места одной реальной смерти, имеющей личное отношение к ней, – смерти отца в августе этого года. В апреле 1914 года в письме к В. Розанову Цветаева будет подробно говорить об этой смерти, но в стихах совершенно ее минует. Едва ли это объясняется далекими отношениями, которые в последние годы были между отцом и дочерью. Дело, скорее, в том, что тот модус размышлений о смерти, которым в это время пронизана лирика Цветаевой, вообще исключает разговор о конкретной земной смерти. «Смерть» в этих стихах – умозрительная категория, идея, которая связана с умственными исканиями, а не с событиями жизни. Последние сознательно исключаются из репертуара «поэтических поводов».
Выход из замкнутого круга размышлений о конечности жизни Цветаева находит в переносе акцента на тему самореализации «сильной личности». Талант жить, забывая о «мимолетности жизни», – вот еще одна тема «Юношеских стихов». «Судорожная, лихорадочная жадность жить», стремление к полноте самовыражения во всем – таков достойный ответ «сильной личности» миру. Одно из характерных в этом отношении стихотворений – «Генералам двенадцатого года», «очаровательные франты» которого сходят, скорее, со страниц Ницше, чем с «полустертых гравюр» исторического прошлого:
Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.
<…>
Вам все вершины были малы
И мягок – самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!
<…>
О, как – мне кажется – могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать – и гривы
Своих коней.
<…>
Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли.
(СС1, 194)
Людям, отмеченным даром жить, судьба не только покровительствует («Вас златокудрая Фортуна / Вела, как мать»), но и подчиняется («О молодые генералы / Своих судеб!»). Им не дано стать бессмертными, но полнота свершения ими своей судьбы на земле преображает облик их смерти:
Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острие —
И весело переходили
В небытие.
(СС1, 195)
Однако как только Цветаева заговаривает о самой себе, ее словарь меняется. Свою собственную смерть она заклинает словами:
В лице младенца ли, в лице ли рока
Ты явишься – моя мольба тебе:
Дай умереть прожившей одиноко
Под музыку в толпе.
(«В тяжелой мантии торжественных обрядов…»; СС1, 198)
Желание в смерти быть подобной тем, кому дано «весело переходить в небытие», лишь оттеняет противоположность жизненного пути автора: этот путь прежде всего «одинок». Между образами жизнелюбивых «генералов» и собственным психологическим обликом Цветаева ощущает принципиальное несходство, которое ее тревожит и питает ее лирику. В нескольких стихотворениях 1913 года («Вы, идущие мимо меня…», «Мальчиком, бегущим резво…», «Идите же! – Мой голос нем…») именно одиночество, отсутствие желаемого контакта с миром, а значит – возможности действенно жить в нем составляет основу конфликта:
Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,
И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох…
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!
О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале…
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы – если б знали —
Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.
(СС1, 179)
«Героический пыл», который мог бы сближать героиню стихотворения с «генералами двенадцатого года», в действительности лишь оттеняет их несходство: этому пылу нет реального применения, жизнь растрачивается «даром», самовыражение не удовлетворяет, потому что никто ему не сочувствует. Это одиночество от переполненности собой сообщает пока лишь неясные очертания будущим конфликтам, предчувствием которых полны стихи 1913 года. Все, что нам известно о цветаевской биографии этого времени, заставляет считать ее благополучной: она увлечена воспитанием маленькой дочери, счастлива в любви, имеет живой круг общения. По-видимому, это жизненное благополучие и становится одним из самых «раздражающих» факторов для творческого самочувствия Цветаевой: неясные предчувствия обгоняют жизненный опыт, но не находят адекватного словесного выражения, заполняя вакуум неопределенностью «темной и грозной тоски» и попытками угадать свою судьбу.
В ряду таких попыток примечательно стихотворение «Сердце пламени капризней…», по неизвестным причинам не попавшее ни в одну из авторских рукописей «Юношеских стихов»114114
Это стихотворение сохранилось лишь в виде автографа на экземпляре сборника «Вечерний альбом», подаренном Цветаевой К. Ф. Богаевскому.
[Закрыть]:
Сердце, пламени капризней,
В этих диких лепестках,
Я найду в своих стихах
Все, чего не будет в жизни.
Жизнь подобна кораблю:
Чуть испанский замок – мимо!
Все, что неосуществимо,
Я сама осуществлю.
Всем случайностям навстречу!
Путь – не все ли мне равно?
Пусть ответа не дано, —
Я сама себе отвечу!
С детской песней на устах
Я иду – к какой отчизне?
– Все, чего не будет в жизни,
Я найду в своих стихах!
(СС1, 179–180)
Интонационная легкость этой романтической декларации не в ладу с ее смыслом. Формула, повторенная в первой и последней строфах, вполне выражает квинтэссенцию литературного кредо зрелой Цветаевой: вместо осуществления себя «в жизни» (о котором с таким пафосом говорится в других стихах этого времени) – осуществление себя «в слове», вместо «жадности жить» – отрешение от жизни и погружение в творчество. Пройдут долгие годы, прежде чем это станет обдуманной и раз навсегда определенной жизненной программой. Тем интереснее ее предвестия в стихотворении 1913 года, выговаривающем предчувствие своей судьбы с той же бессознательностью, с какой пять лет назад Цветаева признавалась в письме к П. Юркевичу в своей «любви к словам».
Своеобразную пару с приведенным составляет стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…»115115
См. об этом стихотворении: Венцлова Т. О призвании и признании: «Моим стихам, написанным так рано…» // Венцлова Т. Собеседники на пиру: Литературоведческие работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 359–368.
[Закрыть]. В нем Цветаева находит формулу своей литературной судьбы, риторической силе которой, кажется, и сама будет поражаться впоследствии:
Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.
(СС1, 178)
Два десятилетия спустя она скажет Ю. Иваску по поводу этого четверостишия: «Формула – наперед – всей моей писательской (и человеческой) судьбы. Я всё знала – отродясь» (СС7, 383). Тогда, в 1913 году, эти строки свидетельствовали лишь об огромности амбиций, об огромности ожиданий от себя. Не своим же полудетским сборникам стихов предрекала Цветаева жизнь в веках?! Потому, поясняя эти строки Иваску, она настаивала на своем знании судьбы наперед, на знании того, что еще только должно совершиться. Спустя год, в мае 1914 года, Цветаева так описывала свой творческий процесс: «Стихи я пишу очень легко, но не небрежно. <…> Почти всегда начинаю с конца. Пишу с удовольствием, иногда с восторгом. Написав, читаю, к<а>к новое, не свое и поражаюсь» (ЗК1, 57–58). Здесь Цветаева уже близка к той мысли, которую будет развивать в зрелые годы: истоки слова вне-личны, в слове выражается не произвол автора, а заданный не авторской волей смысл. Потому этот смысл абсолютен и с временем произнесения слова не связан: сказанное в 1913 году сопутствует авторской жизни как истина, не имеющая даты рождения.
В сентябрьском письме 1913 года к Михаилу Фельдштейну, по странной прихоти написанном по‐французски, Цветаева вновь обращается к теме собственного дара и его возможностей:
Connaissez-Vous l’histoire d’un autre jeune homme, qui se réveilla un beau matin, le front ceint de lauriers et de rayons? Ce jeune homme était Byron et cette histoire – on m’a dit qu’elle serait la mienne. Je l’ai cru et je n’y crois plus.
– Est-ce cela – la sagesse de l’âge?
Ce que je sais encore – c’est que je ne ferai rien ni pour ma gloire ni pour mon bonheur. Cela doit venir tout seul, comme le soleil116116
Знаете ли Вы историю другого молодого человека, проснувшегося в одно прекрасное утро увенчанным лаврами и лучами? Этим молодым человеком был Байрон, и его история, мне говорили, будет и моей. Я этому верила, и я в это больше не верю.
– Не та ли это мудрость, которая приходит с годами?
Я только знаю, что ничего не сделаю ни для своей славы, ни для своего счастья. Это должно явиться само, как солнце (фр.).
[Закрыть] (СИП, 162–163).
Едва ли скептическое неверие в свою поэтическую звезду, высказанное здесь, свидетельствует о переоценке Цветаевой тех прогнозов, которые она сделала совсем недавно в своих стихах. Скорее, эта изменчивость настроения говорит о чувствительности самой темы поэтического призвания для нее в это время. Два стихотворения, «приуроченных» Цветаевой в том же году к собственному дню рождения (26 сентября) и обращенных к двум великим поэтам прошлого, Байрону и Пушкину, подтверждают это. В стихотворении «Байрону» (24 сентября) развивается уже знакомая тема контраста между огромностью жизненных потенций, дарованных человеку, и бесследностью исчезновения его с лица земли:
Я думаю об утре Вашей славы,
Об утре Ваших дней,
Когда очнулись демоном от сна Вы,
И богом для людей.
<…>
Я думаю о пальцах, очень длинных,
В готических перстнях,
И обо всех – в аллеях и гостиных —
Вас жаждущих глазах.
И о сердцах, которых – слишком юный —
Вы не имели времени прочесть,
В те времена, когда всходили луны,
И гасли в Вашу честь.
<…>
Я думаю еще о горсти пыли,
Оставшейся от Ваших губ и глаз…
О всех глазах, которые в могиле.
О них и нас.
(СП, 60–61)
В этой финальной «горсти пыли» очевидно эхо стихотворения «Литературным прокурорам» («Быть в грядущем лишь горсточкой пыли / Под могильным крестом? Не хочу!»). В нем как раз и говорилось о творчестве как о способе оставить по себе нечто большее, чем прах. Теперь, как и в поэтических размышлениях о собственной смерти, Цветаева сосредотачивается на мысли о неисчерпаемости жизненных потенций человека и о нивелирующей силе смерти. Драматичен и удел потомков, чья память об умершем упирается в невозможность двустороннего контакта и ставит в неизбежное сослагательное наклонение мечты «О всех стихах, какие бы сказали / Вы – мне, я – Вам» (СП, 61).
Второе стихотворение, «Встреча с Пушкиным» (1 октября), пишется как будто для того, чтобы опровергнуть эту невозможность. Инсценируя свою встречу с Пушкиным, Цветаева демонстрирует всемогущество слова: если встреча может быть описана, значит она возможна, значит даже – что она уже состоялась. «Для меня каждый поэт – умерший или живой – действующее лицо в моей жизни» (СС6, 120), – формулирует Цветаева это открытие в письме 1914 года к В. Розанову. Возможность поиска своих истинных собеседников в веках – действительно выход из тех риторических тупиков, в которые снова и снова заводили Цветаеву рассуждения об уничтожающей силе смерти. Ф.А. Степун, вспоминая беседы с молодой Цветаевой, свидетельствует, что приведенное эпистолярное признание не было лишь фигурой речи:
Получалось как‐то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гете, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево117117
Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. М.: Прогресс-Литера; СПб.: Алетейя, 1995. С. 212.
[Закрыть].
В том, что именно Байрон и Пушкин, Гете и Новалис – ее истинные собеседники, Цветаева, похоже, перестает сомневаться уже в 1914 году. Закончив первую в своей литературной биографии поэму «Чародей», посвященную первому своему литературному воспитателю – Эллису, Цветаева делает довольно пространную запись:
Я не знаю женщины, талантливее себя к стихам. – Нужно было бы сказать – человека.
Я смело могу сказать, что могла бы писать и писала бы, к<а>к Пушкин, если бы не какое‐то отсутствие плана, группировки – просто полное неимение драматических способностей. «Евгений Онегин» и «Горе от ума» – вот вещи вполне à ma portée118118
в моих возможностях (фр.).
[Закрыть]. Вещи гениальные, да. Возьми я вместо Эллиса какого-н<и>б<удь> исторического героя, вместо дома в Трехпрудном – какой-н<и>б<удь> терем, или дворец, вместо нас с Асей – какую-н<и>б<удь> Марину Мнишек, или Шарлотту Кордэ – и вышла бы вещь, признанная гениальной и прогремевшая бы на всю Россию. А сейчас о поэме Эллису скажут: одни критики: «скучно, мелко, доморощенно» и т. п., другие: «мило, свежо, интимно». Клянусь, что большего никто не скажет.
Мое отношение к славе?
В детстве – особенно 11ти лет – я была вся честолюбие. Впрочем с тех пор, к<а>к себя помню! Теперь – особенно с прошлого лета – я безразлична к нападкам – их мало и они глупы – и безразлична к похвалам – их мало119119
Возможно описка, и следует читать «много».
[Закрыть], но они мелки.
«Второй Пушкин», или «первый поэт-женщина» – вот чего я заслуживаю и м<ожет> б<ыть> дождусь и при жизни.
Меньшего не надо, меньшее плывет мимо, не задевая ничего.
Внешне я очень скромна и даже стесняюсь похвал.
В своих стихах я уверена непоколебимо, – к<а>к в Але (ЗК1, 57).
Показательно, что Цветаева так и не делает выбора между идентификацией себя как «второго Пушкина» (т. е. человека, имеющего наивысший «талант к стихам») или «первого поэта-женщины». Мода на «женскую поэзию» велика, и она, видимо, просто не может пока решить, какой «титул» важнее. Высота поставленной себе планки и масштаб заявленных амбиций соседствуют в этой записи Цветаевой с целым рядом переживаний, свидетельствующих о ее неуверенности и дискомфорте. Ее беспокоят некоторые свойства собственного дара, которые как будто обрекают ее творчество на вечную маргинальность. Она отмечает у себя «полное неимение драматических способностей», что препятствует, на ее взгляд, созданию масштабных произведений. «Камерные» же темы, доступные ей, не могут, как ей кажется, вызвать у критики серьезного отношения: их и ругают и хвалят не всерьез. В значительной мере эти переживания Цветаевой следует отнести за счет того, что ее литературное воспитание тесно связано с эстетическим сознанием второй половины XIX века: живя в эпоху (как мы теперь знаем) лирической поэзии, Цветаева оценивает себя по иерархической шкале иного времени и тревожится по поводу своей неспособности писать эпические или драматические произведения. Высказанная же ею мечта о создании «вещи, признанной гениальной и прогремевшей бы на всю Россию», уже несомненно принадлежит дискурсу гимназических учебников по русской классической литературе. С другой стороны, Цветаева пока, по‐видимому, просто не находит достаточно точных слов, чтобы определить особенности собственного дара. Неумение выйти за круг личных, камерных тем – вот что видит она в своем творчестве. Недавно ответом Цветаевой на замечание Брюсова по поводу этих свойств ее лирики было: «“Острых чувств” и “нужных мыслей” / Мне от бога не дано» (СС1, 147). Теперь Цветаева с бóльшим беспокойством оценивает такую замкнутость своего творческого космоса, ищет способы разомкнуть его (стихотворение «В огромном липовом саду…», например, похоже на попытку выйти из этой замкнутости средствами стилизации), но по‐настоящему убедительно пока звучит лишь прежний мотив: «Я одна с моей большой любовью / К собственной моей душе» (СП, 57).
Рефлексия по поводу своего призвания постепенно изменяет отношение Цветаевой к примеру Башкирцевой. В письме к В. Розанову от 7 марта 1914 года она подтверждает глубину своего увлечения ею: «Послушайте, Вы сказали о Марии Башкирцевой то, чего не сказал никто. А Марию Башкирцеву я люблю безумно, с безумной болью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама» (СС6, 119). Это страстное признание следует, однако, соотнести с тем, что именно сказал Розанов о Башкирцевой: «Секрет ее страданий в том, что она при изумительном умственном блеске – имела, однако, во всем только полуталанты. Ни – живописица, ни – ученый, ни – певица, хотя и певица, и живописица, и (больше и легче всего) ученый (годы учения, усвоение лингвистики). И она всё меркла, меркла неудержимо…»120120
Розанов В. Уединенное. СПб., 1912. С. 52.
[Закрыть]. Солидаризация или, по крайней мере, сочувствие Цветаевой такой оценке о многом говорит. Розанов отмечает, что у Башкирцевой не было того одного, главного, дара, через который могла бы вполне проявить себя ее незаурядная личность. Цветаева в 1914 году уверена, что у нее такой дар – есть. По-видимому, она так живо откликается на розановскую оценку Башкирцевой именно потому, что эта оценка облегчает ей осмысление пределов самоидентификации с автором «Дневника».









































