Читать книгу "Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи"
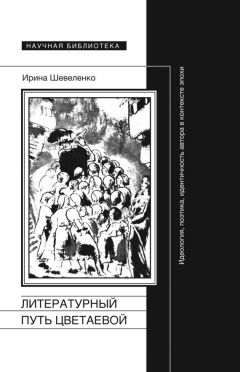
Автор книги: Ирина Шевеленко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти» в 1914 году почти исчезают из лирики Цветаевой. Пережитая в этом году реальная смерть близкого человека – Петра Эфрона, брата мужа, краткое увлечение которым отразилось в цикле «П. Э.», – служит уже поводом говорить об относительности того, что именуется словом «смерть»:
Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду!
– Чтó ленты от Ваших венков! —
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
(«П. Э.», 6; СС1, 212)
Большее место постепенно получает в стихах Цветаевой мотив автономности индивидуального существования, его внеположности интересам текущего дня: «Живу, не видя дня, позабывая / Число и век» (СС1, 214). Отсюда нежелание соотносить свое существование с такими рядами, как история или политика. Социальный статус позволяет ей ими не интересоваться; эгоцентризм натуры отторгает все, что не может претвориться в личное переживание. Отклик на вступление России в Первую мировую войну попадает в цикл любовной лирики («П. Э.»), не нарушая его:
Война, война! – Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.
На, кажется, – надтреснутом – канате
Я – маленький плясун.
Я тень от чьей‐то тени. Я лунатик
Двух темных лун.
(СС1, 210)
«Канатный плясун», хоть и пришел сюда со страниц ницшевского «Заратустры»121121
Можно предположить, что использование ницшевского образа у Ахматовой («канатная плясунья») в ее стихотворении «Меня покинул в новолунье…» из сборника «Вечер» (1912) также не прошло мимо внимания Цветаевой.
[Закрыть], но опасность, ему грозящая, лишь иносказание любовного переживания. Именно оно в этот момент отделяет героиню от мира.
О том, как мало «царские счеты» и «народные ссоры» способны затронуть ее воображение, Цветаева оставит вскоре свидетельство редкой безоглядности – стихотворение «Германии» (1 декабря 1914 года). Впоследствии она назовет именно это стихотворение своим «первым ответом на войну» (СС4, 286). Оно будет также одной из первых ярких поэтических манифестаций жизненной установки, которую Цветаева сформулировала в 1908 году в письме к П. Юркевичу: «Вот теория, к<отор>ой можно держаться, к<отор>ая никогда не обманет: быть на стороне меньшинства, к<отор>ое гонимо большинством» (СС7, 730). Первая строфа стихотворения именно эту идею и транслирует:
Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам?
(СП, 76)
Чтобы найти точку зрения, с которой современность с ее патриотическим аффектом и сопутствующим ему аффектом ненависти к противнику сделалась бы эфемерной ценностью, Цветаевой нужно всего лишь «позабыть число и век», противопоставить настоящему времени – мифологическое:
Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где всё еще по Кёнигсбергу
Проходит узколицый Кант,
Где Фауста нового лелея,
В другом забытом городке, —
Geheimrath Goethe по аллее
Проходит с веточкой в руке.
(СП, 76)
Стихотворение «Германии» впервые было опубликовано лишь в 1936 году – в тексте очерка Цветаевой «Нездешний вечер». Однако Цветаева читала его публично, по крайней мере, раз – в доме Каннегисеров в Петербурге в начале 1916 года. Один из ее тогдашних слушателей Георгий Адамович впоследствии оставил свидетельство об этом чтении. Рецензируя в 1925 году незадолго перед тем опубликованные записи Цветаевой «О Германии», он вспоминал:
Статья («О Германии». – И. Ш.) помечена 1919 годом. Увидев пометку, я вспомнил появление Цветаевой в Петербурге, в первый год войны, кажется. Тогда все были настроены патриотически, ждали близкого суда над Вильгельмом и разделения его империи между союзниками. Цветаева, слегка щуря глаза, сухим, дерзко-срывающимся голосом, читала:
Восприятие современниками этого стихотворения как вызова было более чем естественно. Однако в намерения Цветаевой входило не просто бросить вызов патриотизму своих соотечественников. Эти стихи были ее первым, еще действительно «юношеским» по интонации, вызовом истории – истории, разрушающей стройность и законченность «вневременного» облика мира. Свою тяжбу с историей Цветаева будет вести на протяжении всей жизни, не единожды так или иначе повторив то, что лаконичнее всего скажется в одном из ее писем 1939 года к Анне Тесковой: «…до чего я не выношу истории, и до чего ей предпочитаю <…> “басенки”» (ПТ, 368). Именно «басенной», мифологической Германии Цветаева и клянется «в влюбленности до гроба» в финале стихотворения:
Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей.
(СП, 77)
Пройдет меньше года и поэтическая интонация Цветаевой резко переменится. В одном стихотворении смогут соединиться и социальный опыт человека военного поколения, и опыт внутренний, личный. «Я», прекратив свое противостояние «всем» или «миру», окажется легко переходящим в «мы»:
Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем – поэты, любовники и полководцы?
Уж вечер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу123123
См. некоторые замечания об источниках этого стихотворения в кн.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 291 (статья «“Тайна” Волошина и эзотеризм в поэзии Цветаевой»).
[Закрыть].
(СС1, 245)
После потока стихотворных признаний в любви к жизни, после многочисленных «репетиций» собственной смерти, после упоения эгоцентризмом и декларативного пренебрежения связями с миром интонация этого октябрьского стихотворения 1915 года поражает своей непосредственной эмоциональностью и сама по себе звучит как откровение. Жизнь не воспевается, а смерть не предается анафеме, авторское «я» ни в жизни, ни в смерти не противостоит «всем», оно лишь «знает правду» – ту, что всеобща и не делает исключений. Ломка поэтического голоса и рождение новой стилистики составляет сюжет творческой биографии Цветаевой в 1915 году.
Судьба
В июле 1915 года Аделаида Герцык сообщала М. Волошину, жившему уже около года за границей:
Вчера получила в первый раз за лето большое письмо от Марины и Парнок. <…> Из письма поняла, что Марина, наконец, выходит из своего замкнутого детского круга – большое страдание посетило ее и выковывает из ее души новую форму. В ее новых стихах это еще почти не отражается: как все переходное, бездомное, они стали неловки, утратили свою наивную отчетливость. Но я верю в ее будущее124124
Сестры Герцык: Письма / Сост. и коммент. Т. Н. Жуковской. СПб.: ИНАПРЕСС; М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 161.
[Закрыть].
Трудно сказать, о каких стихах говорит А. Герцык: ряд стихотворений конца 1914 – начала 1915 года действительно «неловок», но уже весной 1915 года голос Цветаевой обретает новую отчетливость, далекую от «наивной отчетливости» ее прежних поэтических опытов и свидетельствующую о быстрой индивидуализации поэтической манеры.
Роман с Софией Парнок125125
Об этом периоде в биографиях обоих поэтов см.: Полякова С. Незакатные оны дни: Цветаева и Парнок // Полякова С. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб.: ИНАПРЕСС, 1997. С. 188–269. (Впервые работа была опубликована в 1983 году.)
[Закрыть], который будет определять настроение и темы лирики Цветаевой на протяжении полутора лет, оставит в ее человеческом опыте след, глубина которого определится временным первенством пережитой тогда душевной драмы в ряду других драм, еще ждущих Цветаеву впереди. «Часом перв<ой> катастрофы»126126
РГАЛИ, ф. 1190 (М. И. Цветаева), оп. 3, ед. хр. 23, л. 94. (Черновик письма к Г. Адамовичу от 9 мая 1933 года.)
[Закрыть] своей жизни назовет Цветаева много лет спустя время разрыва с Парнок. В пору другой катастрофы, пережитой ею осенью 1923 года, Цветаева попытается найти аналитическую формулу, объясняющую смысл для нее опыта любви:
Любовь в нас – как клад, мы о ней ничего не знаем, всё дело в случае. Другой – наша возможность любви. <…> Человек – повод к взрыву. <…>
Я знаю, какая я в дне, но я не знаю, какая я на дне. Дна своего достать без другого я не могу.
Благословен ты, дающий мне меня (СТ, 293).
Способность осмыслить травмирующий опыт узнавания собственного «дна» как заслуживающий благословения в адрес его давшего целиком принадлежит сознанию зрелой Цветаевой. В 1914–1915 годах, когда этот опыт впервые входит в ее жизнь, она меньше всего готова к нему, прежде всего – к его опознанию. В ее стихах октября – декабря 1914 года сохраняется и прежняя интонация, и привычная маска жизнелюбивого своеволия:
Радость всех невинных глаз,
– Всем на диво! —
В этот мир я родилась —
Быть счастливой!
(СС1, 232)
До весны 1915 года и стихи, обращенные к Парнок, и те, что косвенно связаны с переживаемым романом127127
Часть этих стихотворений объединены Цветаевой в цикл «Подруга», другие остались вне цикла. Ниже принадлежность или не принадлежность упоминаемых стихов к циклу не оговаривается. Попутно следует заметить, что название, данное циклу в 1920 году, было «Ошибка», и лишь пересматривая рукопись стихов в 1940 году, Цветаева переправила его на «Подруга». В исследовательской литературе утвердилось мнение о смысловом характере такой замены. Между тем слово «ошибка» в поэтическом языке начала ХХ века является узнаваемым эвфемизмом слова «любовь», эвфемизмом, который вовсе не имеет снижающего оттенка. Ср., например, в стихотворении Бальмонта:
Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно-светлая ошибка.
(Бальмонт К. Собр. стихов. М., 1905. Т. 1. С. 96.)
Стихотворение Цветаевой «Ошибка» (1909) из «Вечернего альбома» своим названием, по‐видимому, играло именно с двойственностью смысла этого слова в тогдашнем поэтическом языке. Представляется правомерным поэтому оспорить мнение исследователей Цветаевой, видящих в названии цикла «Ошибка» оценочный смысл. Замена названия на более нейтральное – «Подруга» – свидетельствует лишь о том, что в 1940 году сама Цветаева должна была почувствовать утрату первоначальным названием прежних смысловых коннотаций, и как следствие, неизбежную неадекватность его прочтения.
[Закрыть], сохраняют налет легкости и создают ощущение власти автора над происходящим в его жизни. Это не умышленное искажение собственных переживаний, а следствие неадекватности интонационного арсенала, по инерции эксплуатируемого Цветаевой. Окружающим ситуация видится куда более драматичной. Е. О. Волошина, мать М. Волошина, уже в конце 1914 года пишет художнице Ю. Л. Оболенской, что ей «относительно Марины страшновато: там дело пошло совсем всерьез»128128
РГАЛИ, ф. 2080 (Ю. Л. Оболенская), оп. 1, ед. хр. 21, л. 6. (Письмо от 30 декабря 1914 года.)
[Закрыть], а в январе 1915 года подтверждает свои опасения в письме к той же корреспондентке: «У Сережи роман благополучно кончился, у Марины усиленно развивается и с такой неудержимой силой, которую ничем остановить уже нельзя. Ей придется перегореть в нем, и Аллах ведает, чем это завершится»129129
Там же, л. 14–14 об. (Письмо от 21/22 января 1915 года.)
[Закрыть].
Цветаева в январских стихах рисует свой портрет в эпатирующих тонах, за которыми лишь с усилием можно прочесть смятение:
Я знаю весь любовный шепот,
– Ах, наизусть! —
Мой двадцатидвухлетний опыт —
Сплошная грусть!
Но облик мой – невинно-розов,
– Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.
(«Безумье – и благоразумье…»; СП, 77)
Признания в том, что в происходящем действуют силы, с которыми она не может совладать, лишь исподволь проникают в стихи Цветаевой, рисующие портрет возлюбленной: «Не женщина и не мальчик, – / Но что‐то сильней меня!» (СП, 72). Даже признавая власть над собой вспыхнувшего чувства —
Сердце сразу сказало: «Милая!»
Всё тебе – наугад – простила я,
Ничего не знав – даже имени!
О люби меня, о люби меня!
(«Ты проходишь своей дорогою…»; СП, 71)
– Цветаева психологически старается оставить за собой не страдательную, а активную, наступательную роль, с которой срослись ее самовосприятие и ее словарь, – роль человека, своей любовью «открывающего» другого человека:
Все усмешки стихом парируя,
Открываю тебе и миру я
Всё, что нам в тебе уготовано,
Незнакомка с челом Бетховена!
(СП, 72)
Предел этой лирической линии кладет стихотворение, написанное 28 апреля 1915 года, в котором переживаемая драма впервые получает новое интонационное выражение:
Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои,
И глаза – кого-кого‐то
Взглядом не дарят! —
Требующие отчета
За случайный взгляд.
Всю тебя с твоей треклятой
Страстью – видит Бог! —
Требующую расплаты
За случайный вздох.
И еще скажу устало,
– Слушать не спеши! —
Что твоя душа мне встала
Поперек души.
И еще тебе скажу я:
– Всё равно – канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего – был юн.
Взгляд – до взгляда – смел и светел,
Сердце – лет пяти…
– Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути!
(СП, 74)
«Канун разлуки» продлится еще долго, но итог пережитому будет уже подведен, как будет подведен и итог прежней поэтической манере. Стихи начала мая 1915 года покажут, сколь стремительно меняется экспрессивный арсенал Цветаевой. На время эти перемены сделают стиль неровным, зато навсегда вымоют из ее стихов прежний инфантильный эгоцентризм. Его заменит эгоцентризм трагический, стилистическая инструментовка которого потребует резких интонационных переходов:
Вспомяните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе… – Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.
Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.
(СС1, 228)
Цитатная концовка130130
Ср. финальную строфу стихотворения Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью…»:
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
[Закрыть] невольно тянет за собой и все финальное четверостишие стихотворения Ахматовой с его «Уйдешь, я умру», и потому не удивительно, что стихотворение, написанное на следующий день, развивает именно тему смерти. Былая уверенность в том, что «в этот мир» она «родилась быть счастливой», и сожаления о «мимолетности жизни» сменяются «счастливым» неверием в ее продолжение:
Бессрочно кораблю не плыть
И соловью не петь.
Я столько раз хотела жить
И столько умереть!
Устав, как в детстве от лото,
Я встану от игры,
Счастливая не верить в то,
Что есть еще миры.
(СС1, 236)
День в день (9 мая) с этим стихотворением Парнок пишет обращенный к Цветаевой сонет. В нем можно различить причины тех переживаний, которые Цветаеву мучают:
В этих строках тот же «канун разлуки», только по‐другому высказанный: Парнок как будто и хочет написать любовное стихотворение, но у нее не находится для этого слов и, видимо, чувств. Слова и чувства находятся другие, очень важные, но любовного признания не заменяющие.
На следующий день, 10 мая С. Эфрон будет писать своей сестре Е. Я. Эфрон, находящейся в Коктебеле, чтобы та позаботилась в течение лета об Але, которая должна была вскоре отправиться в Крым вместе с Цветаевой и Парнок. Сам он продолжит работу на санитарном поезде, обслуживающем фронт. В письме, тщательно скрывающем собственное эмоциональное состояние, Эфрон говорит лишь, что ему «вообще страшно за Коктебель» и добавляет, что нужно быть «с Мариной поосторожней», так как «она совсем больна сейчас» (СИП, 196).
Если новый голос, обретенный Цветаевой в стихе, уже признал поражение и произнес слова разлуки, то время жизненного сюжета протекало в ином темпе, и он продолжался. О том, что складывало столь мучительную атмосферу взаимоотношений Цветаевой и Парнок, судить невозможно, но едва ли дело здесь было в простой несимметричности чувств. В самом начале названные Цветаевой «поединком своеволий» (СП, 67), эти отношения развивались, очевидно, именно по законам такого поединка. Письмо к Е. Я. Эфрон от 30 июля 1915 года, написанное Цветаевой из Малороссии, куда они с Парнок уехали из Крыма, подтверждает слова С. Эфрона о болезненности внутреннего состояния Цветаевой:
Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то – через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце – вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь.
– Соня меня очень любит и я ее люблю – и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Разорванность от дней, к<отор>ые надо делить, сердце всё совмещает.
Веселья – простого – у меня, кажется, не будет никогда и, вообще, это не мое свойство. И радости у меня до глубины – нет. Не могу делать больно и не могу не делать (СИП, 202).
Та «темная и грозная тоска», которая в стихах 1913 года была предчувствием, теперь обретала плоть и кровь. Открытие в жизни конфликтов, которые никаким «ожесточеньем воли» не разрешаются, давало толчок к поиску иной риторики в разговоре о себе и мире, иных образов и иной стилистики:
Быть в аду нам, сестры пылкие,
Пить нам адскую смолу,
Нам, что каждою‐то жилкою
Пели Господу хвалу!
Нам, над люлькой да над прялкою
Не клонившимся в ночи,
Уносимым лодкой валкою
Под полою епанчи.
<…>
То едва прикрытым рубищем,
То в созвездиях коса.
По острогам, да по гульбищам
Прогулявшим небеса.
Прогулявшим в ночи звездные
В райском яблочном саду…
– Быть нам, девицы любезные,
Сестры милые – в аду!
(СП, 81–82)
Как и в стихотворении «Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!..», здесь показательно появление обобщающего «мы», собирательного образа, в котором авторское «я» растворено. Там, где Цветаева раньше сказала бы лишь «я», она все чаще и чаще говорит «мы», становящееся маркером новой риторики, – риторики, включающей читателя в один круг с автором:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
(«Цыганская страсть разлуки!..»; СС1, 247)
Все три стихотворения будут написаны уже осенью 1915 года. Длящийся «канун разлуки» принесет немало испытаний в душевную жизнь Цветаевой, однако ее литературная биография в последний период романа с Парнок обогатится событием исключительной важности. В конце 1915 года судьба приведет обеих в Петербург, где в середине января 1916 года, в «начале последнего года старого мира» (СС4, 291), Цветаева впервые будет читать свои стихи в кругу столичной литературной элиты, будет иметь успех и откроет новое качество своего поэтического «я» – «московскость».
Чтение в петербургском литературном салоне будет одним из последних звеньев в ряду перемен, принесенных в литературную биографию Цветаевой знакомством с Парнок. В отличие от Цветаевой с ее полу-дилетантской установкой, Парнок с 1900‐х годов была тесно и сознательно связана с литературным миром, что не мешало ей держаться независимо и вне групп. Ко времени знакомства с Цветаевой Парнок была одним из ведущих критиков возникшего в 1913 году в Петербурге журнала «Северные записки»; на его страницах она также регулярно выступала как поэт. Очевидно, именно по настоянию Парнок Цветаева изменила в 1915 году свое отношение к «стихам в журналах»132132
В дневниковой записи «Моя судьба – как поэта» (1931) Цветаева объясняет свое сотрудничество в журнале тем, что «очень просили и очень понравились издатели, – в порядке дружбы» (СТ, 436). Однако с издателями «Северных записок» (С. И. Чацкиной и Я. Л. Сакером) Цветаева познакомилась, скорее всего, лишь по приезде в Петербург, т. е. год спустя после начала сотрудничества. Поэтому более вероятно, что первые свои стихи она отдала в журнал именно «в порядке дружбы» с Парнок.
[Закрыть]. Уже в первом номере «Северных записок» за этот год появились два ее стихотворения, а в последующих номерах за 1915–1916 годы было напечатано еще одиннадцать стихотворений периода «Юношеских стихов»133133
Список этих стихотворений таков (названия и первые строчки даются в журнальных редакциях): 1915, № 1 – «Байрону», «Генералам 12 года»; 1915, № 5/6 – «Солнцем жилки налиты, – не кровью…», «Уж сколько их упало в эту бездну…», «Идешь, на меня похожий…»; 1916, № 3 – «Какой‐нибудь предок мой был скрипач…», «Ты будешь невинной, тонкой…», «Аля. Маленькая тень…»; 1916, № 7/8 – «Два солнца стынут, – о Господи, пощади…», «Я знаю правду – все прежние правды, прочь…», «Заповедей не блюла, не ходила к причастью…», «Новолунье и мех медвежий…», «День угасший…».
[Закрыть]. По-видимому, не без влияния Парнок Цветаева взялась и за перевод романа Анны де Ноай «La nouvelle espérance» (цветаевский перевод названия – «Новое упование»), в 1916 году опубликованный на страницах этого же журнала.
Сближение с литературным миром актуализировало для Цветаевой рефлексию над собственным поэтическим призванием. Примечательно, что его отрицание образует вполне цельный лейтмотив в ряде стихотворений 1915 года. Если весной 1915 года ей еще всего лишь «Ненаписанных стихов – не жаль!» (СС1, 225), то в июньском стихотворении «Какой‐нибудь предок мой был – скрипач…»134134
О связи этого стихотворения Цветаевой с почти одновременно написанным стихотворением Парнок «Я не знаю моих предков – кто они?..» см.: Белякова И. Ю. “Стихи о предках” М. Цветаевой и С. Парнок: структура и семантическое наполнение // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция (9–13 октября 2000 года): Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2001. С. 158–166. На наш взгляд, оба эти стихотворения соотнесены со стихотворением М. Кузмина «Мои предки» из сборника «Сети» (1908).
[Закрыть] собственное амплуа как поэта рисуется с остраненной, аннигилирующей иронией. Очевидно толчок к разработке истории о предке-скрипаче дает Цветаевой фрагмент из «Юности» Толстого. Здесь герой, рассказывая о своих приятелях, так описывает род юмора, к которому они были склонны:
Характер их смешного, то есть Володи и Дубкова, состоял в подражании и усилении известного анекдота: «Что, вы были за границей?» – будто бы говорит один. «Нет, я не был, – отвечает другой, – но брат играет на скрипке». Они в этом роде комизма бессмыслия дошли до такого совершенства, что уже самый анекдот рассказывали так, что «брат мой тоже никогда не играл на скрипке»135135
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 100 т. Т. 1. М., 2000. С. 186.
[Закрыть].
Комизм в цветаевском «анекдоте» имеет иную природу: он порожден набором репутационных характеристик предка-скрипача, который приводит автора-потомка к выводу, что тот «не играл на скрипке». А затем сомнительность репутации предка переносится на потомка: «Таким мой предок был скрипачом. / Я стала – таким поэтом» (СС1, 238). Смысл рассказанной притчи вполне проясняется при сопоставлении с несколькими другими стихотворениями этого времени. В декабре 1915 года Цветаева предлагает читателю такой автопортрет:
Лежат они, написанные наспех,
Тяжелые от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.
И слышу я, что где‐то в мире – грозы,
Что амазонок копья блещут вновь.
– А я пера не удержу! – Две розы
Сердечную мне высосали кровь.
(СС1, 249–250)
Стихи «написаны наспех» оттого, что жизнь пишущей заполнена любовным переживанием, не оставляющим ей власти над «пером». Цветаевский «предок-скрипач» не играет на скрипке оттого, что жизнь его переполнена: он «наездник и вор», «Любитель трубки, луны и бус / И всех молодых соседок», разбойник, продавший душу черту и носящий нож за голенищем. От этой пучины жизненных страстей отступаются и музыка и поэзия.
Канун своего дня рождения в 1915 году Цветаева встретит словами: «Лорд Байрон! – Вы меня забыли! / Лорд Байрон! – Вам меня не жаль?» (СС1, 242). Стихотворение останется недописанным, как бы символизируя покинутость автора тем, чей пример два года назад служил ему вдохновением. Зато допишется другое стихотворение, датированное днем рождения (26 сентября) и подводящее итог прошедшему году:
Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
– Видно, пока надо мной не пропоют литию, —
Буду грешить – как грешу – как грешила: со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!
Други! – Сообщники! – Вы, чьи наущения – жгучи!
– Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!
(СС1, 243)
Индивидуальная греховность, с признания которой стихотворение начинается, разрастается к концу его до вселенских масштабов: соучастниками в грехе, наравне с людьми, становятся «деревья, созвездия, тучи» и, наконец, сама Земля. Опыт чувств оказывается формой приобщения космосу, а поэзии в этом слиянии остается незавидная роль «третьего лишнего»:
В гибельном фолианте
Нету соблазна для
Женщины. – Ars amandi
Женщине – вся земля.
(СС1, 244)
В жизненном опыте страстей книги избыточны, и в свидетели этому Цветаева призывает самого автора «Искусства любви»:
Мне синь небес и глаз любимых синь
Слепят глаза. – Поэт, не будь в обиде,
Что времени мне нету на латынь!
Любовницы читают ли, Овидий?!
– Твои тебя читали ль? – не отринь
Наследницу твоих же героинь!
(«Как жгучая, отточенная лесть…»; СС1, 243–244)
«Забытая Байроном», Цветаева идентифицирует себя теперь уже не просто со скрипачом, не играющим на скрипке, но с героинями-любовницами другого поэта, не только не пишущими стихов, но и не читающими книг.
Если вспомнить Цветаеву 1913 года с ее воспеванием собственной единственности и «обидой» когда‐то в гробу «быть как все», то разница между поэтом, начинавшим и оканчивающим «Юношеские стихи», станет особенно разительной. Растущее по мере приближения к концу поэтического 1915 года сознание нерасторжимости своих связей со «всеми», с «Землей», своей подверженности тем же законам, страстям и грехам, что все и вся, – закрепляет трансформацию поэтической персоны Цветаевой. Ей, «открывшей в себе и в мире внутреннее противоречие этических императивов, обуславливающее трагизм человеческого бытия»136136
Коркина Е. Поэтический мир Марины Цветаевой // Коркина Е. Архивный монастырь. С. 161–162.
[Закрыть], судьба видится уже не «златокудрой Фортуной», что когда‐то заботливо опекала ее героев, но спутницей изменчивой и коварной:
Даны мне были и голос любый,
И восхитительный выгиб лба.
Судьба меня целовала в губы,
Учила первенствовать Судьба.
Устам платила я щедрой данью,
Я розы сыпала на гроба…
Но на бегу меня тяжкой дланью
Схватила за волосы Судьба!
(СС1, 250)









































