Текст книги "Литературный путь Цветаевой. Идеология, поэтика, идентичность автора в контексте эпохи"
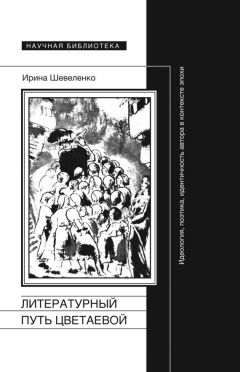
Автор книги: Ирина Шевеленко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В последнем стихотворении содержится свидетельство того, что и второе из наиболее понравившихся Вяч. Иванову в «Камне» стихотворений Мандельштама родило творческий отклик у Цветаевой. Строка «Всей бессонницей я тебя люблю» очевидно эксплицирует сцепку двух основных мотивов (любви и бессонницы) из стихотворения Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». Это, в свою очередь, заставляет предположить, что и вся вереница стихов о «бессоннице» в «Верстах I»163163
Эти стихотворения в «Верстах I» не составляют цикла, но объединенность их мотивом «бессонницы» очевидна и при отсутствии структурно оформленного цикла. Цветаева объединит их в цикл «Бессонница» при составлении сборника «Психея» (1923), добавив к ним одно более позднее стихотворение.
[Закрыть] подсказана именно стихотворением Мандельштама164164
Вообще любопытно, что и имяславская тема (стихотворение «Люди на душу мою льстятся…») и тема бессонницы (стихотворение «Обвела мне глаза кольцом…») начинаются в «Верстах I» одновременно: 6 апреля пишется первое, 8 апреля – второе. При этом само слово «бессонница» произносится Цветаевой уже в стихотворении «Коли милым назову – не соскучишься!..», написанном 6 апреля, в один день с «Люди на ду´шу мою льстятся…». В нем связка «бессонница – любовь» уже эксплицирована: «Коли суженого жду – где бессонница?» (СП, 108).
[Закрыть]. Вслед за С. Ельницкой мы полагаем, что творческий интерес Цветаевой к мотиву «бессонницы» (в старом правописании – «безсонницы») объясняется услышанной ею в этом слове «внутренней формой»: «без Сони»165165
Ельницкая С. Две «Бессонницы» Марины Цветаевой // Ельницкая С. Статьи о Марине Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2004. С. 71. Исследовательница, однако, не связывает появление этого слова в стихах Цветаевой со стихотворением Мандельштама.
[Закрыть]. Любопытно, что восстанавливая в 1941 году на одном из экземпляров «Верст I» раннюю редакцию стихотворения «Коли милым назову – не соскучишься!..», Цветаева исправит правописание в печатном тексте двух слов: «черт» – на «чорт» и «бессонница» – на «безсонница»166166
Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. С. 226.
[Закрыть]. Очевидно, именно такая орфография этого слова ей важна. Учитывая биографическую смежность разрыва с Парнок и романа с Мандельштамом, именно мандельштамовское слово со столь непредвиденно личной для Цветаевой «внутренней формой» возможно и объясняет интенсивность разработки темы «бессонницы» в «Верстах I». И если предположить, что разговоры об имяславии должны были выводить двух поэтов к более общим разговорам о «природе слова», о соотношении знака и значения в слове (в потебнианском духе), то стихотворения «Верст I», циклизующиеся вокруг темы бессонницы, можно считать творческим ответом Цветаевой на концепцию внутренней формы слова.
Цикл «Стихи к Ахматовой»167167
Все одиннадцать стихотворений будущего цикла написаны между 19 июня и 2 июля 1916 года.
[Закрыть] продолжает линию блоковского цикла, но не повторяет ее. Если в «Стихах к Блоку» Цветаева прошла логический путь от запрета на имя – к обожествлению безымянного персонажа-адресата, то в «Стихах к Ахматовой» она изменяет главное «условие игры». Цикл сразу начинается с нарушения запрета на произнесение имени героини168168
Возможно, к этому подталкивает Цветаеву сама Ахматова, уже обыгравшая свое имя в «Отрывке из поэмы», завершавшем сборник «Четки» (1914): «В то время я гостила на земле. / Мне дали имя при крещенье – Анна, / Сладчайшее для губ людских и слуха».
[Закрыть], хотя параллельно разворачивается тот же, что и в «Стихах к Блоку», поиск подобий или замен этому имени:
О муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас как стрелы.
И мы шарахаемся, и глухое: ох! —
Стотысячное – тебе присягает. – Анна
Ахматова! – Это имя – огромный вздох
И в глубь он падает, которая безымянна.
Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.
В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий…
– И я дарю тебе свой колокольный град
– Ахматова – и сердце свое в придачу!
(СП, 117)
Можно было бы объяснить столь легкое нарушение Цветаевой запрета на имя героини цикла тем, что в случае Ахматовой она имеет дело с псевдонимом, литературным именем, которое уже есть способ изъятия из обращения истинного, сакрального имени персонажа-адресата. Но едва ли это так. Ведь имя запрещено произносить лишь всуе, так что в ахматовском цикле Цветаева просто ставит себе иную творческую задачу: она произносит имя, чтобы оно, «срастившись с дыханием» (как говорили имяславцы), эхом звучало внутри ее строк. Совершенно не случайно, что первое же, что говорится об имени героини – это что оно «огромный вздох». Вспомним цитировавшуюся запись Цветаевой (в связи с «имяславским» стихотворением Мандельштама): «Бог я произношу, как утопающий: вздохом» (СС4, 517). «Огромный вздох» имени Ахматовой, падающий в «безымянную глубь», – не профанное нарушение запрета, а стремление через произнесение имени приобщиться сущности носящей его. Это подтверждает и третье стихотворение цикла, рассказывающее о смерти героини: «Так много вздоха было в ней, / Так мало – тела» (СП, 118). «Вздох», бывший характеристикой имени, оказывается и важнейшим атрибутом сущности героини; таким образом, имя и сущность оказываются тождественными.
Ряд стихов, обращенных к Ахматовой, пишется вскоре после того, как роман с Мандельштамом прерывается на неопределенной ноте, а возможно – вообще кажется Цветаевой исчерпанным: после его приезда к ней в Александров и затем быстрого отъезда оттуда в Коктебель169169
О хронологии и обстоятельствах этого визита см.: Лубянникова Е. И. Осип Мандельштам в Александрове // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений. Восьмая цветаевская международная научно-тематическая конференция. С. 353–358.
[Закрыть]. Тем не менее и образ Ахматовой из мандельштамовского стихотворения «Ахматова» в «Камне», и несомненно имевшие место его рассказы о ней играют свою роль в зарождении цикла. Кроме того, Цветаева, по‐видимому, перечитывает Ахматову в Александрове; позже, в «Истории одного посвящения» (1931), она даже будет утверждать, что впервые читает ее там (СС4, 140), однако это не соответствует действительности.
Освободившись от присутствия Мандельштама (вся весна 1916 года прошла все‐таки в интенсивном и регулярном общении с ним), Цветаева вводит в свои стихи другого петербургского поэта, причем, с одной стороны, непосредственно из мандельштамовского круга, а с другой – связанного также и с Блоком170170
Миф о романтических отношениях, якобы существовавших между Ахматовой и Блоком, современники основывали в это время на стихотворном посвящении Ахматовой Блоку «Я пришла к поэту в гости…» из «Четок» и блоковском ответном стихотворении «Анне Ахматовой» («“Красота страшна” – Вам скажут…»).
[Закрыть]. И то и другое имеет значение.
В отличие от Блока, с которым встреча невозможна, Ахматова (подобно или по аналогии с Мандельштамом) следует за автором стихов, как «конвойный» за «острожником», и у них «судьба одна» (СП, 120). Ахматова вдобавок «чернокнижница» (СП, 120), а именно этим словом не так давно в стихотворении «Канун Благовещенья…» Цветаева назвала себя (СП, 94). В «культурном царстве» «Верст I» Ахматова попадает (помещается) в ту же нишу, что и сам автор сборника, что подтверждается финальным стихотворением цикла – «Ты солнце в выси мне застишь…». Это было бы совершенно справедливо, если бы не слово «муза», употребленное в качестве одного из имен героини («муза плача», «Царскосельская муза», «Муза Царского Села»). Слово это – дань петербургско-европейскому и связанному с ним классическому субстрату в конструкции образа героини. Последний, вероятно, прямо навеян и «окаменевшей ложноклассической шалью» и Федрой из упоминавшегося стихотворения Мандельштама. Однако «музой» Ахматова именуется лишь в первой половине цикла (в стихотворениях 1, 2, 3 и 5); далее происходит как бы постепенное «присвоение» героини московским культурным пространством, превращающим ее в «народную» героиню.
Молитвенная стилистика, существенная для блоковского цикла, в ахматовском цикле практически отсутствует. Христианские черты в облике героини сведены к минимуму, а появляясь, связываются прежде всего с «народной верой» («Богородица хлыстовская» (СП, 121)). Если Блок оказывался Христом и Демоном в одном лице, то Ахматова может представать и как Богородица и как ее антипод, «лже-Богородица». О ней говорится, например: «Ты, срывающая покров / С катафалков и колыбелей» (СП, 120) – т. е. совершает она нечто прямо противоположное тому, что делает Богородица, опускающая покров на страждущих (дающая им защиту).
Временнáя смежность в разработке образов Блока и Ахматовой заводит Цветаеву далеко. Именуя Ахматову «хлыстовской Богородицей», она создает, в контексте сборника, неожиданную «пару» обожествленному Блоку (Христу). Богородица и Христос – это ведь имена лидеров хлыстовской общины (корабля); Цветаева впоследствии описывала виденных ею в детстве Христа и Богородицу из тарусского хлыстовского гнезда («Хлыстовки», 1934). «Хлыстовская Богородица» наверняка и появилась в ахматовском цикле только потому, что в блоковском был уже герой, уподобленный Христу. Помимо прочего, двоящийся смысл имен Христа и Богородицы создавал по‐модернистски соблазнительную «омонимию», особенно многообещающую, если интерпретировать ее как пример «неправильного перевода» или искажения смысла имени при переходе от петербургско-европейской к народно-московской культуре. Какими в точности представляла себе Цветаева реальные отношения Блока и Ахматовой, мы не знаем. Но знаменательно, что она и десять лет спустя хотела предполагать наличие каких‐то особых личных отношений между ними. В ироническом пассаже статьи «Поэт о критике» (1926) об «изумительной осведомленности» читателей «в личной жизни поэтов» Цветаева замечала: «Блоковско-Ахматовской идиллии, кстати, не оспариваю, – читателю видней!» (СС5, 290–291). Вероятно, такая «идиллия» представлялась Цветаевой удачным подспорьем к ее собственным стихам.
Особенность и блоковского и ахматовского цикла состояла в том, что, будучи по замыслу «московскими» текстами о «петербургских» поэтах, они стали образцами петербургской поэтики в творчестве Цветаевой, – поэтики, ориентированной на цитатность и интертекстуальную игру и лишь модифицированной, по сравнению с петербургскими образцами, культурной и стилистической архаикой референций. Именно в этих двух циклах Цветаева впервые сознательно и планомерно работала с чужими текстами как со «строительным материалом» собственных стихов, – и в этом трудно не увидеть влияния Мандельштама. Подробный разбор явных и скрытых подтекстов и, в частности, широкого использования Цветаевой тем и образов поэзии Блока и Ахматовой в обоих циклах, мог бы занять еще многие страницы171171
Значительная доля таких подтекстов и цитат выявлена исследователями, писавшими о циклах (см. примеч. 2 на с. 115).
[Закрыть]. Разумеется, стимулировал Цветаеву в работе над стихами интерес к личностям и творчеству обоих поэтов. Но несомненно и то, что ни тот, ни другой цикл не являются актами преклонения и превознесения их героев par excellence. Распутывание смыслов, причудливо переплетающихся в отдельных стихотворениях и в циклах в целом, занятие увлекательное и бесконечное, ибо ускользающая от линейной интерпретации семантика – это принцип, на котором оба цикла построены. Обратившееся потом в легенду, которая поддерживалась и даже укреплялась самой Цветаевой, ее «преклонение» перед Блоком и Ахматовой было именно легендой, мифом, родившимся в процессе переосмысления собственных стихов. В 1916 году создание этих уникальных именных циклов было актом освоения и усвоения Цветаевой новой для нее петербургской поэтики, с ее игрой с чужим текстом и идеологемой, с ее семантической амбивалентностью, с ее иронией и пафосом.
К середине 1916 года уже были созданы все ключевые циклы будущего сборника «Версты I». В конце июля этого года Цветаева сообщала Петру Юркевичу о своих планах «после войны издать сразу две книги» (СС6, 25). Как собиралась Цветаева делить в это время стихи на сборники мы, впрочем, не знаем. Другой источник примерно того же времени, письмо М. Волошина к М. Цетлину, свидетельствует как будто даже о наличии у Цветаевой двух подготовленных к изданию сборников стихов172172
Узнав о планах Цетлина возобновить издательство «Зерна», Волошин писал ему, в частности: «Сейчас же написал Марине Цветаевой в Москву, чтобы она выслала тебе рукописи своих обеих новых книг стихов» (цит. по предисловию В. П. Купченко к публикации писем М. Цветаевой к М. Волошину в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977. С. 155).
[Закрыть]. Почти через год, рецензируя в своей статье «Голоса поэтов» сборники «Стихотворения» С. Парнок и «Камень» О. Мандельштама, Волошин напишет: «У меня звучит в ушах последняя книга стихов Марины Цветаевой, так непохожая на ее первые полудетские книги, но я, к сожалению, не могу ссылаться на нее, так как она еще не вышла»173173
Волошин М. Лики творчества. С. 545. Впервые статья опубликована в газете «Речь» за 4 июня 1917 года.
[Закрыть]. Трудно сказать, какой корпус текстов имеет в виду Волошин, говоря здесь о «последней книге» Цветаевой; неясно также, какими могли быть те два сборника, о которых шла речь летом 1916 года.
Помимо цикла «Стихи о Москве», считанные стихотворения 1916 года появятся в печати до выхода «Верст I» в 1922 году, и даже те, что появятся, особого внимания критики не привлекут. Вплоть до эмиграции известность Цветаевой в литературном кругу будет идти рука об руку с ее репутацией непечатающегося поэта. Инерция этого представления скажется, например, в отзыве о Цветаевой М. Кузмина в его «Парнасских зарослях»: «В Москве же находится достойная всяческого внимания Марина Цветаева, но книг ее, насколько я знаю, не выходило»174174
Кузмин М. Проза и эссеистика: В 3 т. М.: Аграф, 1999–2000. Т. 3. С. 406.
[Закрыть]. Датированное сентябрем 1922 года, а опубликованное лишь в следующем году, это свидетельство по‐своему замечательно: Цветаева к сентябрю 1922 года не только уже почти четыре месяца как покинула Москву, но и успела опубликовать за предшествующий год не одну книгу. В конце 1922 года к ним добавился и сборник «Версты I». Попав в совершенно новый культурный контекст, он почти не удостоился тогда внимания критики175175
См. обзор критики в первом разделе Главы 4.
[Закрыть]. Из этого не следует, что стихи «Верст I» остались современникам неизвестными: напротив, многим они запомнились, и в 1926 году Цветаева жаловалась, что редакторы, не принимающие ее новой стилистики, просят у нее «стихов ПРЕЖНЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ, т. е. 16 года» (ПТ, 69). Лишь в редких случаях знакомые с более ранним творчеством Цветаевой, современники в дальнейшем вели «отсчет» ее творческой эволюции именно от поэтики «Верст I».
ГЛАВА 3. РЕМЕСЛО
(1917–1922)
«Déclassée»
Когда в 1931 году Цветаева напишет в статье «Поэт и время»: «Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос – нет» (СС5, 338), – за этим обобщением, как часто у Цветаевой, будет стоять глубоко личное признание. Именно революция положит предел тому самоопределению, которое она впоследствии будет описывать словами: «Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плачу, наряжаюсь – и пишу стихи» (МЦБП, 34). Именно революция заставит Цветаеву принять ту роль, которой она избегала в предшествующее семилетие, – роль профессионального литератора. Процесс «перемены идентичности» окажется драматичным и болезненным, вызовет изменение авторской концепции самых основ собственной личности и оставит по себе внутренний конфликт, который никогда не разрешится. Но все это вместе и сформирует ту культурную личность, которая известна в истории русской литературы под именем Марины Цветаевой.
«Самое главное: с первой секунды Революции понять: Всё пропало! Тогда – всё легко» (СС4, 457), – лаконично суммирует Цветаева свой революционный опыт в «Моих службах» (1918–1919, 1925). Двадцати пяти лет, оказавшись в революционной Москве одна с двумя детьми на руках, не имея никакого навыка самостоятельного ведения дома, потеряв в результате национализации банков все доставшееся по наследству состояние, – Цветаева не имела, казалось бы, оснований видеть в революции что‐либо, кроме безжалостной всеразрушающей стихии. Тем показательнее не только позднейшие, но и такие синхронные переживаемому революционному опыту записи, как:
Большевики мне дали хороший русский язык (речь, молвь) … Очередь – вот мой Кастальский ток! Мастеровые, бабки, солдаты…
Этим же даром большевикам воздам! (СС4, 565)
Интонация этих строк нова. В ней уже не голос «женщины, безумно любящей стихи», но голос поэта, измеряющего значение исторической катастрофы мерой творческого импульса, принесенного ею в его жизнь. Творческий ответ на переживаемые события будет складываться постепенно, но о драматической перемене своего социального статуса Цветаева заговорит уже в конце августа 1918 года:
Я абсолютно déclassée176176
Буквально: деклассированный элемент (фр.).
[Закрыть]. По внешнему виду – кто я? – 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным ремнем (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.
Из-под плаща – ноги в серых безобразных рыночных чулках и грубых, часто не чищенных (не успела!) – башмаках. На лице – веселье.
Я не дворянка (ни гонора, ни горечи), и не благоразумная хозяйка (слишком веселюсь), и не простонародье <…> и не богема (страдаю от нечищенных башмаков, грубости их радуюсь, – будут носиться!).
Я действительно, АБСОЛЮТНО, до мозга костей – вне сословия, профессии, ранга. – За царем – цари, за нищим – нищие, за мной – пустота (ЗК1, 271).
Утрату прежнего социального статуса и связанных с ним привилегий Цветаева, таким образом, осмысляет в радикальном ключе: как выпадение из всех существующих социальных ниш, т. е. как изгойство, аутсайдерство par excellence. Она «вне сословия, профессии, ранга»; отсюда, как видно из последующей фразы, уже полшага до строк «Роландова рога» (1921), в котором Цветаева «Одна из всех – за всех – противу всех!» – в противоположность тем, кто укоренен в социуме:
За князем – род, за серафимом – сонм,
За каждым – тысячи таких, как он,
<…>
Солдат – полком, бес – легионом горд,
За вором – сброд, а за шутом – всё горб.
(СС2, 10)
В более ранних стихах Цветаева не индивидуализирует свой случай столь радикально, и обобщающее «мы» в рассуждениях об исторической судьбе людей ее круга появляется не раз:
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит – Расу:
Черная кость – белую кость.
(«Кровных коней запрягайте в дровни!..»; СП, 163)
Однако постепенно для ее автомифологии представление об уникальности, единичности того, что произошло с ней, становится функционально наиболее важным. Авторефлексия Цветаевой в 1918–1920 годах будет долго кружить в поисках продуктивной позиции, творческой и человеческой, которая была бы совместима с произошедшим «выпадением» из социума. В «Роландовом роге» эта позиция и будет сформулирована: позиция поэта, принявшего свое бытие вне социума как новое, индивидуальное «условие игры».
Разумеется, нельзя считать одну лишь революцию причиной такого поворота в понимании Цветаевой себя. Революция несомненно совпала с неизбежными возрастными переменами личностного характера. Однако столь важным по своим последствиям это совпадение оказалось именно потому, что в решающий период своего человеческого развития Цветаева оказалась перед необходимостью искать опору именно и только в тех свойствах своего «я», которые помогали выживанию в ситуации социальной катастрофы. Революция, с одной стороны, раскрыла Цветаевой некоторые важные свойства ее личности, причем и быстрее и яснее, чем это могло бы происходить при обычном течении жизни. А с другой стороны, революция лишила Цветаеву многих вариантов самоидентификации, закрыла для нее какие‐то иные свойства ее «я», не востребованные новыми обстоятельствами. Революция кристаллизовала ту личность, которая могла продолжать существовать в изменившихся социальных условиях, сохраняя и охраняя свою человеческую автономность.
Стремительности внутренних перемен сопутствовало резкое раскрепощение авторефлексии Цветаевой. Все «аномальные», неординарные, в том числе и непривлекательные, черты собственной личности теперь настойчиво ею фиксировались, обсуждались, декларировались, как бы служа необходимыми для автора доказательствами собственной особости, своего положения вне всяческих социальных групп. Эта тенденция отчетливо прослеживается по записным книжкам Цветаевой 1918–1920 годов, да и по ряду стихотворений этого времени.
Именно с углубления и усугубления в себе чувства «изгойства» Цветаева начинает поиск ответа на вопрос «кто я?»177177
О. Г. Ревзина справедливо замечает, что данный вопрос вообще частотен в лирике Цветаевой с середины 1910‐х и до начала 1920‐х годов, и связывает это с определенным возрастным этапом в истории самопознания Цветаевой: Ревзина О. Г. Борисоглебская лирика // Ревзина О. Г. Безмерная Цветаева. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2009. С. 29–36. Это безусловно справедливо, но в пореволюционные годы на возрастные обстоятельства накладываются обстоятельства исторические, которые заостряют цветаевский вопрос совершенно по‐новому.
[Закрыть]. Вслед за обнаружением непринадлежности к «сословию, профессии, рангу» она ставит под сомнение свою принадлежность к полу. «Мужчины и женщины мне – не равно близки, равно – чужды. Я так же могу сказать: “вы, женщины”, как: “вы, мужчины”» (ЗК1, 268), – это запись тех же августовских дней 1918 года, что и предыдущая – о своем положении «déclassée». «Область пола – единственная, где я не четка» (ЗК2, 79), – так формулирует Цветаева в марте 1920 года. Рассуждениями о своей необычности в области пола и в характере любовных привязанностей полны ее записные книжки революционных лет. Отделять в этих высказываниях автомифологию от действительных психо-сексуальных особенностей Цветаевой не только невозможно, но и непродуктивно. Интерпретировать ее высказывания можно по‐разному, в зависимости от цели анализа. Для понимания того, что и как будет далее писать Цветаева, важно констатировать: она вписывает сексуальную трансгрессию178178
Д. Бургин в своей книге статей «Марина Цветаева и трансгрессивный эрос» (СПб.: ИНАПРЕСС, 2000) предприняла неудачную попытку понять эту «сексуальную трансгрессивность» в современных терминах «сексуальной ориентации». Между тем совершенно очевидно, что термины эти и по историческим и по сущностным причинам к Цветаевой неприложимы (см. подробнее нашу рецензию на книгу Бургин: Новая русская книга. 2000. № 4/5. С. 77–80).
[Закрыть] в круг тех свойств своего «я», которые обуславливают ее изгойство. И второе: свой идиосинкразический дискурс о сексуальности или дискурс об идиосинкразической сексуальности она воспринимает как творчески значимый, т. е. значимый для ее литературного «я»179179
Выяснение источников цветаевского понимания сексуальности, т. е. тех концепций пола, на которые она так или иначе опиралась в своих размышлениях, составляет отдельную задачу, которую мы не беремся здесь разрешить. Как все современники ее круга, Цветаева была несомненно знакома с идеями В. Соловьева, О. Вейнингера, В. Розанова, Вяч. Иванова, Н. Бердяева, как минимум – по их обсуждениям в публичном дискурсе (документально удостоверятся лишь ее чтение «Людей лунного света» Розанова). Наиболее очевидным представляется влияние на цветаевское понимание пола компилятивных по своей сути, но порой весьма радикальных идей Волошина, вероятнее всего воспринятых из разговоров с ним. На последнее уже обращалось внимание, см.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 293–294.
[Закрыть].
В ноябре 1918 года Цветаева уже сводит все элементы своей новой идентичности воедино:
Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
– Ты не женщина, а птица,
Посему – летай и пой.
(«Поступь легкая моя…»; СС2, 436)
В этом четверостишии в свернутом виде дана квинтэссенция идентификаций зрелой Цветаевой, строящихся на принципе замещения социальной и сексуальной идентичности – идентичностью творческой. Во-первых, она «одна», даже самая возможность социальных связей у нее отсутствует, и устроил так «Бог». Во-вторых, она «не женщина», и ее сексуальная идентичность вытеснена иной идентичностью. В-третьих, эта иная идентичность и есть идентичность поэта: она «птица», и наказал ей Бог «летать и петь».
И социальное изгойство и сексуальная трансгрессивность, которые одновременно обсуждаются в автометадискурсе Цветаевой, закрепляются в нем не как маргинальность, а как уникальность, исключающая принадлежность к группе. Собственный пол Цветаева поначалу описывает как андрогинность180180
Реанимированный и многообразно переформулированный модернистами платоновский миф об андрогинах составляет важную часть дискурса о поле в 1900–1910‐е годы. См. об этом, в частности: Matich O. Androgyny and the Russian Religious Renaissance // Western Philosophical Systems in Russian Literature. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1979. P. 164–175; Eadem. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fine de Siecle. Madison: University of Wisconsin Press, 2005; Bershtein E. The notion of universal bisexuality in Russian religious philosophy // Understanding Russianness / Ed. by Risto Alapuro, Arto Mustojaki, and Pekka Pesonen. London: Routledge, 2012). P. 210–231. Некоторые наблюдения над репрезентацией андрогинности в поэзии Цветаевой содержатся в статье: Kroth A. M. Androgyny as an Exemplary Feature of Marina Tsvetaeva’s Dichotomous Poetic Vision // Slavic Review. 1979. Vol. 38 (4). P. 563–582.
[Закрыть], но чем дальше, тем более – как дефицит женского начала, который, однако, не восполнен началом мужским (как следовало бы по «арифметике» Вейнингера), а «заполнен» вакуумом. Иначе говоря, ее пол – это дефицит пола. Из этого следует принципиальная возможность описывать собственную сексуальность как необходимость, в вейнингеровских терминах, «восполнять» в себе и дефицит женского начала и отсутствие (либо дефицит) мужского. «Женщин я люблю, в мужчин – влюбляюсь» (ЗК2, 197), – замечает она в одном месте. В другом пускается в объяснения:
Дурак тот кто скажет, что к мужчинам меня стремит – чувственность.
1) Не стремит. 2) Не только к мужчинам. 3) У меня слишком простая кровь – как у простонародья – простая, радостная только в работе.
Нет, всё дело в моей душе (ЗК2, 78).
«Душа» здесь появляется вовсе не как клише, необходимое для перевода темы сексуальности в иную плоскость, а как имя для того вакуума пола, который Цветаева в себе обнаруживает. «Птица», с которой идентифицирует себя Цветаева, имеет в ее образном словаре этого времени два подварианта. Во-первых, это мифологическая «Птица-Феникс», несколько раз появляющаяся в ее произведениях 1918–1920 годов. Во-вторых, это Психея («душа, дыхание, бабочка» в переводе с древнегреческого)181181
Весьма вероятно, что Психея попадает в цветаевский словарь и начинает идентифицироваться ею с собственным обликом благодаря книге А. Франса «Сад Эпикура», которую Цветаева впервые читает в дни октябрьского переворота 1917 года (см.: СИП, 256). Франс в разговоре о Психее как раз разводит понятия «пола» и «души»: «Психея – не женщина: Психея – душа. А это не одно и то же. Это даже противоположности» (цит. по: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 41).
[Закрыть], которая Цветаевой воображается, например, в виде ласточки: « – Возлюбленный! – Ужель не узнаешь? / Я ласточка твоя – Психея!»182182
Подробный анализ образа Психеи в процитированном стихотворении см.: Войтехович Р. Марина Цветаева и античность. С. 34–47.
[Закрыть] (СП, 147). Таким образом, «душа», которую вводит Цветаева в разговор о сексуальности, это «душа» из цепочки «душа – птица – пение (творчество)». «Душа» связывается с влечением к мужскому началу, и она же, будучи знаком «дефицита пола» («Ты не женщина, а птица») ведет к творчеству. Сексуальная и творческая идентичность оказываются связанными, и постепенно на дискурсивном уровне сексуальная идентичность начинает описываться Цветаевой как вытекающая из идентичности творческой, индуцируемая ею. «Женственность во мне не от пола, а от творчества, – запишет она свой вывод в начале 1922 года. – Да, женщина – поскольку колдунья. И поскольку – поэт» (СТ, 78). Стремление к мужскому (заложенное в «женственности») производно, таким образом, от творческой способности.
Рождение автомифологии вокруг темы пола и творчества, столь значимой для Цветаевой, происходило на фоне осмысления ею практических последствий своего нового социального положения. Трудно сказать, насколько продуманной была та резкая перемена литературного поведения, которой Цветаева ответила на революцию. Возможно, это было лишь спонтанной реакцией на нее. Единственной сферой, с которой Цветаева ассоциировала себя, была литература, и профессиональная идентификация с этой сферой становилась теперь единственным способом определения своего социального статуса вообще.
Изменение стратегии социального поведения Цветаевой быстрее всего сказалось в новом отношении к «продуктам» своего творчества как к товару, имеющему цену. В «Поэте о критике» (1926) Цветаева будет так вдохновенно писать о роли денег в жизни автора, что нет никаких сомнений: она и в самом деле пережила в свое время это открытие как откровение183183
См., например, такой фрагмент: «Деньги – моя возможность писать дальше. Деньги – мои завтрашние стихи. Деньги – мой откуп от издателей, редакций, квартирных хозяек, лавочников, меценатов – моя свобода и мой письменный стол. <…> Деньги – моя возможность писать не только дальше, но лучше, не брать авансов, не торопить событий, не затыкать стихотворных брешей случайными словами» (СС5, 286–287).
[Закрыть]. Ранние сборники она издавала за свой счет, от гонораров в «Северных записках», по ее словам, отказывалась184184
В «Нездешнем вечере» (1936) Цветаева упоминает о подарках, которые дарили ей редакторы журнала, ибо «гонораров [она] не хотела» (СС4, 288).
[Закрыть]. А вот описывая свою жизнь в послереволюционной Москве, сразу подчеркнула то новое, экономическое, измерение, которое приобрело для нее творчество:
Был 1919 г. – самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется Ходасевич, надоумил меня снести книгу стихов в Лито. «Лито ничего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно». – «Отделом заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он меня не выносит». – «Вас, но не Ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все‐таки – пять дней хлеба» («Герой труда»; СС4, 30).
Два сборника («Юношеские стихи» и «Версты I») в конце концов действительно были сданы в Государственное издательство, и делая в июне 1920 года запись об этом, Цветаева отмечала: «Не для печатания, конечно, – деньги. Около 40.000 р. (10 руб. строчка, 4 года «работы»)» (ЗК2, 205). Закавыченное слово «работа» выражало и изумление Цветаевой перед этим новым именем стихописания, и невольное признание, что именно так оно, видимо, должно было теперь называться, раз за него платили деньги (какой бы малой ни казалась сумма).
На фоне долгого периода безразличия к своей печатной карьере энергичность, с которой Цветаева принялась за налаживание литературных отношений в пореволюционной Москве, свидетельствовала о быстроте перестройки ее самосознания. Несколько сборников стихов, подготовленных в революционные годы185185
До своего отъезда из Москвы в мае 1922 года Цветаева подготовила к печати следующие сборники стихов: «Юношеские стихи», «Версты I», «Версты» (стихи 1917–1920 годов), «Стихи к Блоку», «Психея», «Разлука». Кроме сборников стихов, была издана отдельной книгой поэма «Царь-Девица», а вышедшая в 1922 году книга «Конец Казановы» представляла третий акт пьесы «Феникс».
[Закрыть], участие в коллективных альманахах, даже продажа рукописных книжечек стихов через московскую Книжную лавку писателей186186
О рукописных книжках, продававшихся через Книжную лавку писателей в Москве, см.: Осоргин М. Рукописные книги московской Лавки Писателей: 1919–1921 // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1932. Вып. III. С. 49–60; Богомолов Н. А., Шумихин С. В. Книжная лавка писателей и автографические издания 1919–1921 годов // Ново-Басманная, 19. М.: Худож. литература, 1990. С. 84–130. В настоящее время известны восемь рукописных книжечек Цветаевой этого периода.
[Закрыть] в период издательского кризиса – все это свидетельствовало о том, что самоопределение Цветаевой как профессионального литератора состоялось.
Это высветило парадоксы прежней самоидентификации Цветаевой и сделало насущной для нее задачу концептуализации собственной ранней литературной биографии. Выяснилось также, что сложившееся в предшествующее десятилетие сознание собственной независимости от текущей литературной политики уже успело стать для Цветаевой неотъемлемой частью ее культурной личности, вне такой позиции себя не мыслящей. Поэтому если ее социальная ниша после революции de facto определялась ее литературными занятиями, то психологические навыки прежней социальной идентичности, социального поведения и отношения к литературе как институту также остались с Цветаевой на всю жизнь. Они лишь перешли из разряда социально обусловленных в разряд творчески избранных. Социально-психологический комплекс женщины дворянского сословия, свободной от необходимости и лишенной потребности вступать в устойчивые отношения с профессиональными институтами, – вот что продолжало сильнейшим образом влиять на поведение и осмысление себя Цветаевой и тогда, когда социальный порядок, в котором был укоренен этот тип сознания, навсегда канул в прошлое.
У этой позиции была и другая сторона. Аристократизм частного человека, «déclassée» по выбору, уберег Цветаеву впоследствии от многих искусов, уготованных историей ее поколению, – искусов, перед лицом которых один за другим пасовали, теряя поведенческие и интеллектуальные ориентиры, многие ее современники. Определяя воспитавшую ее домашнюю атмосферу в ответе на анкету 1926 года, Цветаева нашла необходимым подчеркнуть: «Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский» (СС4, 622). В этом странном, на первый взгляд, противопоставлении звучит существенная для понимания Цветаевой тема – тема ее «рожденного» несовпадения ни с одним из социально-психологических типов, которым суждено будет определять интеллектуальную и духовную атмосферу современного общества. Потому так устойчив ее иммунитет к умственным эпидемиям, охватывавшим это общество; потому же так очевидно и ее одиночество в своем поколении, с которым ее не связывают общие ошибки, заблуждения и метания. «Не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней <…>. Люблю дворянство и народ, цветение и недра» (МЦБП, 239), – напишет она Пастернаку в 1926 году, прекрасно сознавая, что любит то, чего нет или уже почти нет, – исчезающие вместе с прежним строем жизни социально-психологические типы.
О своем социальном консерватизме, парадоксально уживавшемся с новаторством ее поэтики и авторепрезентации, о неотделимости собственного психологического и творческого облика от воспитавшей ее и навсегда ушедшей социальной атмосферы Цветаева однажды выскажется очень точно:
Зная только одни августейшие беды, как любовь к нелюбящему, смерть матери, тоску по своему семилетию, – такое, зная только чистые беды: раны (не язвы!) – и всё это в прекрасном декоруме: сначала феодального дома, затем – эвксинского брега – не забыть хлыстовской Тарусы, точно нарочно данной отродясь, чтобы весь век ее во всем искать и нигде не находить – я до самого 1920 г. недоумевала: зачем героя непременно в подвал и героиню непременно с желтым билетом. Меня знобило от Достоевского. Его черноты жизни мне казались предвзятыми, отсутствие природы (сущей и на Сенной: и над Сенной в виде – неба: вездесущего!) не давало дышать. Дворники, углы, номера, яичные скорлупы, плевки – когда есть небо: для всех.
То же – toutes proportions gardées187187
с учетом пропорций (фр.).
[Закрыть] – я ощущала от стихов 18летнего Эренбурга, за которые (присылку которых – присылал все книжки) – его даже не благодарила, ибо в каждом стихотворении – писсуары, весь Париж – сплошной писсуар: Париж набережных, каштанов, Римского Короля, одиночества, – Париж моего шестнадцатилетия.
То же – toutes proportions encore mieux gardées188188
с еще бóльшим учетом пропорций (фр.).
[Закрыть] – ощущаю во всяком Союзе Поэтов, революционном или эмигрантском, где что ни стих – то нарыв, что ни четверостишие – то бочка с нечистотами: между нарывом и нужником. Эстетический подход? – ЭТИЧЕСКИЙ ОТСКОК (СТ, 152–153)189189
Эту запись следует датировать 1932 годом. Ее первоначальный набросок сделан в черновой тетради в конце 1922 года (РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 6, л. 39), однако этот текст представляет собой не до конца разработанный черновик лишь первого абзаца приведенной цитаты.
[Закрыть].
Цветаева так и не уточнит в этой записи, что же переменилось в ее взгляде на мир после 1920 года. И это умолчание кажется не случайным. Ибо ни жизненный опыт, ни прагматика литературного существования ее «рожденного» самоопределения изменить так никогда и не смогли.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































