Читать книгу "Расплата"
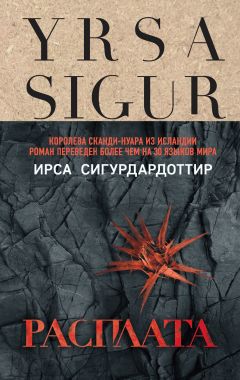
Автор книги: Ирса Сигурдардоттир
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Трёстюр тяжело запыхтел; крылья его носа побагровели и затрепетали.
– Вон! Я ничего вам не скажу.
Хюльдар уже понял, что успокоить его не получится. Придется вызвать повесткой в полицейский участок и продолжить разговор там. Поскольку мишенью гнева была в первую очередь Фрейя, он выпроводил ее из комнаты, прикрывая с тыла. Удара или толчка сзади опасаться не стоило: тощий говнюк вряд ли сбил бы его с ног, – но вот нанести удар ножом в спину в порыве безумия вполне мог. «Если меч слишком короток, сделай шаг вперед». Возможно, этот римский девиз подразумевал что-то похожее. По крайней мере, к угрозам в письме следовало отнестись всерьез.
Только когда Фрейя обулась и вышла на лестничную площадку, Хюльдар позволил себе расслабиться. Он шагнул за ней следом, но, когда Трёстюр попытался захлопнуть дверь, протянул руку, остановил его и спокойно и негромко спросил:
– Ты думал, зачем мы к тебе пришли?
Трёстюр толкнул дверь, но Хюльдар был сильнее, тяжелее и выше.
– Я задал вопрос. Ты думал, мы зачем пришли?
Лицо дохляка-панка потемнело от ярости и напряжения. Стиснув зубы, он прошипел:
– Я-то затупил; думал, теперь, когда он выходит, вы, копы, побеспокоитесь о нас… Не сообразил.
Сбитый с толку неожиданным ответом, Хюльдар опустил руку, и Трёстюр, воспользовавшись моментом, навалился всем телом на дверь и захлопнул ее прямо перед лицом полицейского.
Что он имел в виду? Кто и откуда выходит?
Зазвонил телефон. На экране высветился номер полицейского участка.
– Привет, это Гвюдмюндюр. Хотел предупредить: тут что-то происходит в связи с тем парнем, о котором мы говорили. Меня только что попросили объяснить интерес к нему. Всего лишь через пару часов после того, как ты ушел. На твоем месте я бы не распространялся, что собираюсь поговорить с ним. И будь осторожен. Одному богу известно, почему его так оберегают, но, полагаю, причина не самая приятная.
– Спасибо за предупреждение, но уже немного поздно. Я только что вышел из его квартиры и стою за дверью. Парень выгнал нас, едва мы только сели. Думаю, ты прав – дело очень странное… Позвоню попозже, ладно?
Хюльдар сунул телефон в карман, перевел взгляд на дверь с осыпающейся старой краской, повернулся и поспешил следом за Фрейей.
Что же это, будь оно неладно, происходит?
Глава 9
Детство Фрейи и Бальдура прошло в условиях, далеких от типичных. Первые несколько лет они росли с молодой матерью, совершенно не подходившей для этой роли, но делавшей все возможное, чтобы найти время и силы на два главных своих приоритета – детей и развлечения. Последнее и погубило ее в конце концов, после чего детей отправили к бабушке и дедушке. Но и они со своей задачей не справились. И не только потому, что были по натуре людьми замкнутыми и жесткими, но и потому, что в силу возраста оказались не готовыми взять на себя заботу о маленьких мальчике и девочке. Отцы детей оказались типичными воскресными папашами, которые старались исполнять свои обязательства, но Фрейя и Бальдур быстро поняли, что чувство долга – плохая замена бескорыстной, безоговорочной любви. Так что после смерти матери не нашлось никого, кто предложил бы брату и сестре эту самую любовь. Кроме их самих.
Вот так они и росли, каждый по-своему: Бальдур – бесшабашным, дерзким, не признающим правил и авторитетов; Фрейя – решительной, нацеленной на успех. Наверное, сыграло свою роль и то, что у них были разные отцы, но Фрейя знала – не все так просто. Люди – продукт природы и воспитания, и влияние того или иного фактора предсказать невозможно. Тем не менее брат и сестра были схожи в одном отношении: упорством, твердостью и стойкостью они превосходили большинство сверстников и смело встречали все невзгоды, что подбрасывала им жизнь.
Вот почему Фрейю так потрясла ее собственная реакция на случившееся. Встреча с Трёстюром выбила ее из колеи. Испытав в жизни пару неприятных моментов, она так и не привыкла к насилию – и, когда Трёстюр взорвался, испугалась, что за словесными оскорблениями последуют физические. Сердце не успокаивалось; в крохотном офисе не хватало воздуха, хотя Фрейя и распахнула окно. Она сидела на сквозняке, и прилепленные к монитору листочки трепетали, как желтые флажки.
Хотелось выпить. Чего-нибудь покрепче.
Случившееся стало для нее полной неожиданностью. Она даже заговорить толком не успела, как Трёстюр разбушевался, словно с катушек слетел. До поступления на работу в Дом ребенка ей приходилось присутствовать на встречах с проблемными тинейджерами, заканчивавшимися тем, что подросток терял контроль над собой. Но к тому моменту колокольчики уже звенели вовсю, сигнализируя о приближающейся буре: у подростка учащалось дыхание, кровь приливала к лицу, он повышал голос и начинал ерзать на стуле, и Фрейя успевала приготовиться. Трёстюр вел себя иначе. Он сорвался мгновенно, как будто щелкнул переключатель. Учитывая столь переменчивое настроение, к написанному им письму следовало отнестись со всей серьезностью. Представлялось маловероятным, что Трёстюр станет выслеживать и убивать людей из списка, составленного десять лет назад, – но на что он окажется способен, если представится такая возможность? Брать на себя ответственность Фрейя не хотела. Позаботиться следовало и о человеке, упомянутом Трёстюром. Перед тем как они расстались, Хюльдар сказал, что попытается выяснить, о ком шла речь, и пообещал позвонить ей.
Фрейя несколько раз без всякой на то необходимости проверила телефон и дважды убедилась, что он не переключился на беззвучный режим.
Сосредоточиться на разделе, который она писала для ежегодного доклада Дома ребенка, не получалось; нить терялась на середине предложения, а мысли снова и снова возвращались к молодому человеку и его письму. Сольвейг все еще не дала ей авторизации, а это означало, что Фрейя не может запросить отчет из школы. Самой Сольвейг на месте не было, что подтверждали темные окна ее кабинета. Незнание истории Трёстюра раздражало Фрейю настолько, что ни о чем другом она не могла и думать.
Если продолжать так и дальше, придется засидеться до полуночи. Отчет нужно сдать завтра утром – это тот дедлайн, который лучше не нарушать. Не хватало только, чтобы ее сделали ответственной за задержку с публикацией отчета. Вдобавок ко всему, дома осталась Молли, ожидавшая, когда ее покормят и отведут на прогулку. Стоит опоздать – и собачонка вполне может погрызть второй подлокотник софы. Первый пострадал осенью, когда Фрейе тоже пришлось задержаться на работе.
Вспомнив о Молли, Фрейя вздохнула. Не о такой жизни она мечтала ребенком. В ее подростковых фантазиях не было ни ежегодных отчетов, ни выговоров, ни проблем с концентрацией. Собака, правда, была, но милая, беленькая и пушистая, а не лохматое коричневое чудовище, выведенное, дабы внушать страх.
Зазвонил телефон, и Фрейя, торопясь ответить, едва не уронила его на пол.
– Слушаю, – выдохнула она.
– Тебе говорит что-нибудь такое имя, Йоун Йоунссон? – с ходу перешел к делу Хюльдар.
– Йоун Йоунссон? Ты, наверное, шутишь? А у нас есть более распространенное имя?
– Наверное, нет.
– Я знаю нескольких Йоунов, но совершенно не помню их патронимов, хотя по крайней мере один обязан быть Йоунссоном.
– Я не о том, знаешь ли ты кого-то лично. Для тебя имя Йоун Йоунссон связано как-то с Домом ребенка или другой твоей работой?
– Что? – вопрос застал ее врасплох. – Нет. По-моему, нет. – Не успела Фрейя произнести это, как в памяти что-то зашевелилось, и по спине пробежал холодок. – Так ты хочешь сказать?..
– Да, – перебил ее Хюльдар. – Да. Его освободили меньше недели назад. – Он тяжело выдохнул, и в трубке сухо зашуршало. – Трёстюр – его сын.
– Что? – Ошеломленная новостью, Фрейя даже не придумала, что сказать. Йоун Йоунссон, человек, о котором шла речь, был педофилом. Педофилом наихудшего разлива. На его совести лежало не только изнасилование девочки, но и ее убийство. Расти сыном такого человека… Неудивительно, что Трёстюр сменил патроним.
– Ты знакома с его делом?
– Нет, это случилось еще до меня. Я тогда училась в университете. – Она помолчала. – Его действительно выпустили? Разве он не получил шестнадцать лет?
– Выпустили. Время летит. Отбыл две трети срока – десять с половиной лет. Вышел по условно-досрочному.
– По условно-досрочному… – Фрейя закрыла и потерла глаза, сдерживая полыхнувший гнев. В отличие от этого мерзкого чудовища, ее брату в условно-досрочном отказывали постоянно. А ведь вина Бальдура состояла лишь в растрачивании кредита, что при всем желании не могло сравниться с убийством ребенка.
– Да. Такая вот система. Надо понимать, в заключении он вел себя образцово.
Фрейя фыркнула.
– Изнасиловал и убил девочку… Кого интересует, как он вел себя после того, как попался.
– Поверь, со мной не консультировались, – Хюльдар устало вздохнул. – Трёстюр, должно быть, решил, что мы придем с рекомендациями насчет того, как реагировать семье, если он попытается выйти с ними на связь. Подозреваю, парень потому и взбесился, когда понял, что мы явились по совсем другой причине.
– А они всегда поступают так в подобных случаях? – Фрейя переложила телефон из одной руки в другую. Ей не терпелось освежить память по делу Йоуна Йоунссона, и лучше всего помогло бы чтение старых отчетов. Ждать, пока закончится их разговор, она не могла.
– Нет. Когда человек выходит из мест заключения, ответственность за него принимает на себя тюремная служба. В случае с условно-досрочным освобождением они ведут наблюдение за бывшим заключенным, но, насколько мне известно, не делают ничего для семьи, если та сама не связывается с ними первой.
Фрейя пробормотала что-то невнятное, поскольку уже впечатывала в строку поиска имя «Йоун Йоунссон». Система выдала два миллиона упоминаний, причем верхние не имели никакого отношения к педофилу. С тех пор как его имя замелькало в заголовках новостей, прошло больше десяти лет. Она добавила дату – 2004 – и запустила новый поиск.
– То есть ты – я имею в виду полицию – за ними не следишь? А вы знаете, чем рискуете? Знаете, что возможен рецидив? Педофилия не лечится. Единственный ограниченно успешный метод – научить их не уступать своим противоестественным желаниям. В Исландии такое лечение даже не предлагается.
– Я не эксперт и могу лишь предполагать, что социальные службы подключаются только после освобождения заключенного. Отслеживают, где он живет, и так далее. Я имею в виду последствия их действий… жертв, – торопливо добавил он.
– Мы никаких уведомлений не получаем. Поверь, я бы знала.
На экране появились первые ссылки на интересующего ее человека. Фрейя кликнула по статье в уже не существующем еженедельнике. Она хорошо помнила статью – в высшей степени противоречивую. В то время все сошлись на том, что газете не следовало публиковать интервью с арестованным, и что та сделала это с одной-единственной циничной целью: поднять свой падающий тираж. Несмотря на возмущение общественности, тот выпуск был раскуплен целиком, но требуемого чуда не случилось – просто банкротство произошло несколькими неделями позже.
– И все-таки, что нам делать теперь? – спросила Фрейя. – Попытаемся поговорить с Трёстюром еще раз? Теперь мы хотя бы знаем его бэкграунд, знаем, чем объясняются его проблемы в подростковом возрасте, когда он писал то самое письмо. «ЙЙ», вероятно, относится к его отцу. После убийства прошло меньше двух лет, явно недостаточно для столь трагического события.
– Боюсь, о повторном визите в ближайшее время вопрос не стоит.
На экране развернулось фото Йоуна Йоунссона. Он сидел в комнате для свиданий тюрьмы Литла-Хрёйн, которую Фрейя узнала с первого взгляда, и смотрел в узкое окно с таким видом, будто держал на своих плечах все скорби мира. Однако в интервью, насколько помнила Фрейя, Йоун Йоунссон предстал человеком, вовсе не обремененным раскаянием, и тогда эта поза показалась ей безвкусно напускной. Трудно представить, что чувствовали родители девочки, читая откровения убийцы, особенно ту часть, где Йоун говорил о дате выхода из тюрьмы. Несправедливость такого расклада возмущала и вызывала негодование: он считал дни до освобождения, тогда как маленькая Вака Оррадоттир получила смертный приговор… Фрейя тряхнула головой, отгоняя воспоминания.
– Ты сказал, поговорить с Трёстюром еще раз не получится? Но как же письмо? Будешь продолжать расследование?
– Нет. Мне сказали положить дело на полку. До лучших времен. Сейчас в приоритете более важное расследование. Может быть, вернусь к письму, когда закончим с этим.
Она не стала спрашивать, как сам Хюльдар отнесся к такому решению, но, должно быть, большое дело интереснее и важнее, чем мелочь вроде какого-то письма.
– Понятно. – Фрейя вернулась к профилю Йоуна Йоунссона. Статью сканировали, и фотография была не самого лучшего качества, но выражение лица читалось однозначно. На ум пришло слово гнусное. Отвратительно, омерзительно гнусное. Она оторвала взгляд от экрана и попыталась сосредоточиться на разговоре. – Значит, дальше не пойдет?
– Нет. По крайней мере, пока. Когда все утихнет, я с тобой свяжусь. Если ты, конечно, не против. – Хюльдар помолчал, потом нерешительно продолжил: – Вообще-то, я хотел спросить… Ты не занята в выход… – Он не договорил.
– Позвони, если дело откроют заново. И… пока. – Фрейя дала отбой раньше, чем он успел предпринять еще одну попытку пригласить ее встретиться. Погулять она пойдет, но не с ним.
Нет. Определенно нет, сказала себе Фрейя, как отрезала. И, чтобы не чувствовать себя виноватой перед ним, вернулась к интервью. Полиция посчитала дело с письмом Трёстюра второстепенным, но у нее было другое мнение. Возможно, чтение интервью разбудит уснувший мозг, и она сможет завершить ежегодный отчет…
Вчитываясь в текст, Фрейя все яснее вспоминала те давние события. Вспоминала с гримасой отвращения. Йоун Йоунссон вовсе не чувствовал себя виноватым в случившемся. Снова и снова он повторял, что был алкоголиком, и предупреждал читателей об опасностях пьянства. Фрейя покачала головой. Алкоголь – не самый полезный продукт, но он не делает из людей сексуальных насильников, тем более педофилов. Хотя из сказанного Йоуном вытекало, что именно спиртное сыграло роль решающего фактора: оно толкнуло его на преступление, лишило его самоконтроля. Никогда раньше он не совершал ничего такого и никогда больше не совершит. По его собственному заявлению, он не помнил, как все случилось. Опротестовывать решение суда Йоун Йоунссон не стал, удержавшись от последнего шага. Он, несомненно, попытался бы отрицать свою ответственность, не будь улики против него настолько убедительны и неоспоримы. Сомнений тогда не возникло: биологические образцы и ДНК, взятые из вагины девочки, отпечатки его пальцев на ее горле и лице…
И вот теперь, по его словам, он проходит реабилитацию и уже обрел Бога. Мало того, он готов, после выхода из тюрьмы, поделиться своим опытом и помочь другим. Фрейю едва не стошнило. Ни слова раскаяния, ни намека на сожаление, ни одного упоминания о родителях девочки. И, разумеется, ни звука о жертве, у которой он отнял сначала невинность, а потом и жизнь. Вместо этого – разглагольствования о том, как Бог простил его и вознамерился использовать его энергию в будущем, поскольку теперь он исполняет Божью волю. Если все так, то Богу следовало бы пересмотреть свою политику прощения, приобрести побыстрее детектор лжи и отправить на костер начальника отдела кадров.
Уже закипая от гнева, Фрейя продолжала читать. Она не помнила, говорил ли Йоун Йоунссон о своей семье. Если да, то, возможно, где-то есть информация о Трёстюре. Также интересно было бы узнать, поддерживала ли контакты с ним его жена. К сожалению, либо журналист не расспрашивал его о семье, либо Йоун Йоунссон отказался говорить на эту тему.
После чтения интервью у Фрейи осталось неприятное послевкусие. Она также убедилась в трех вещах. Во-первых, Йоун Йоунссон разыгрывает из себя новообращенного. Его постоянные упоминания о Боге отдают фальшью. Конечно, он был не первым, кто скрывал свою истинную сущность за внезапным обращением в христианство. Все, что нужно, это запомнить несколько избранных высказываний и регулярно их повторять. Также будет нелишним носить с собой Библию и возводить очи го́ре, особенно в тот момент, когда лучи света пронзают облака.
Во-вторых, не вызывали доверия его проповеди в пользу трезвости. В любом случае предаваться пьянству за решеткой невозможно. У него просто не было иного выхода, как завязать. Кроме того, посещение собраний анонимных алкоголиков позволяло хоть как-то отвлечься от унылого в прочих отношениях существования в тюрьме Литла-Хрёйн, так что туда ходили даже те, у кого никогда не было проблем с алкоголем.
В-третьих, Фрейя не верила утверждениям Йоуна Йоунссона, что случай с Вакой Оррадоттир был первым и единственным, когда он уступил преступному вожделению. Сексуальное влечение к детям не возникает ни с того ни с сего в среднем возрасте. Такой человек, как Йоун Йоунссон, постоянно находившийся под воздействием алкоголя, был обязан иметь на своем счету по крайней мере еще одного ребенка. Фрейя, слишком хорошо знакомая со многими другими печальными примерами, могла с высокой долей вероятности определить, кто становился его жертвами. Тот, кто попадал под руку, то есть либо Трёстюр, либо его сестра, Сигрун. Возможно, оба. Не исключено, что именно поэтому социальные службы и вмешались в дело Трёстюра, когда ему было восемь лет. Но и это не объясняло исчезновения файлов и прочих документов. Не объясняло это и странного поведения Сольвейг, занимавшейся мальчиком. Учитывая, кто был отцом Трёстюра, Фрейя не сомневалась, что коллега помнит его. Более правдоподобным выглядело неведение директора школы, ведь мать мальчика скрыла личность его отца. Должно быть, хотела, чтобы дети смогли начать с чистого листа, оставить прошлое позади… Это объясняло бы и их частые переезды.
Ознакомившись с деталями, Фрейя открыла протоколы суда. Годовой отчет может подождать. И Молли тоже.
Глава 10
– Я тут околею. Может, уже пойдем? – Трёстюр попытался плотнее запахнуть куртку. Хотя замок на ней сломался, необходимости раскошеливаться на новую пока не было. Да и можно ли найти что-то столь же клевое на этом дерьмовом острове? От холода стучали зубы, и злой ветер рвался в дыры в «пилёных» джинсах. За «пропилы» пришлось доплачивать отдельно, они не были знаком изношенности. Но сейчас под ними проглядывала только гусиная кожа.
Надо же быть таким идиотом… Не подумать, какой сегодня день, одеться с расчетом покрасоваться, не предусмотрев, что придется ждать… Впрочем, даже если б он и представлял, что его ждет здесь, чем бы это помогло? Какой-то другой подходящей одежды у него просто не было. Единственная пара приличных ботинок – черных, высоких, на шнуровке – красовалась на ногах, но не грела по причине отсутствия носков. Конечно, не настоящие «Мартенсы», но похожи настолько, что издалека могли кого-то обмануть. По крайней мере, на это он и надеялся.
Ругать погоду не имело смысла; надо просто завязывать.
– Такая холодрыга, Сигрун… Давай лучше придем завтра. – Жаль, остыл тот жар, что побежал по венам, когда тот гребаный коп и та сучка-психолог объявили, чего им нужно от него. Вот тогда он мог бы стоять голый в буране и ничего не чувствовать.
Сестра покачала головой.
– Подождем. Завтра будет уже не то.
Сигрун закуталась так, что свободными остались только нос и глаза. Трёстюр посмотрел на ее руки. Она надела старые перчатки с двумя обрезанными пальцами и зашитыми дырками на правой руке. А ведь могла бы просто носить варежки, как делала раньше… Странно и непонятно. В любом случае, он никогда не касался этой темы, хотя вряд ли смог бы объяснить, делала ли она это, чтобы защитить его или себя.
Трёстюр сунул руку в карман – за сигаретами. Он слышал где-то, что при курении кровеносные сосуды сужаются, а значит, теоретически, человеку должно как бы стать теплее. Самое время проверить теорию практикой. Кроме того, ему отчаянно хотелось затянуться – последнюю сигарету он выкурил на автобусной остановке. Одной из причин, почему деньги, получаемые им по пособию, заканчивались так быстро, была как раз эта вредная привычка.
– Не надо. – Сигрун помахала руками в воздухе, словно отмахиваясь от дыма. – Увидят дым – догадаются, что мы здесь. Не стоит привлекать к себе внимание.
Сигарета уже наполовину выпрыгнула из пачки, но Трёстюр задвинул ее назад. Сигрун только разнервничалась бы, если б он ее не послушал и поступил по-своему. К тому же сестра была права; если кто и умел избегать внимания, то это она. В отличие от Трёстюра с его характерным – да пошли бы вы все – отношением, Сигрун всегда старалась оставаться незаметной, почти невидимой. Насколько он помнил, такой она была всегда: держалась в тени, потому что стоило только кому-то приметить ее, как в следующую секунду случалось что-нибудь страшное. Сигрун нигде не чувствовала себя в безопасности: ни в школе, ни дома, ни в клубе, ни в игре. Любое занятие, подразумевавшее участие других детей, означало угрозу. С годами дразнить и запугивать ее почти перестали, но эффект пережитого остался. Не смотрите на меня. Не замечайте меня. Меня здесь нет.
Это стремление оставаться невидимой отражалось и в ее одежде. У посторонних, если те вообще замечали ее, складывалось впечатление, что Сигрун изо всех сил старается выглядеть неряшливой и безвкусной. В серых платьях, слишком длинных и мешковатых, она напоминала члена общины амишей. Выбранному образу соответствовали и волосы – длинные, неухоженные, какого-то мышиного цвета. Сигрун не пользовалась ни тушью, ни губной помадой, и Трёстюр – хотя он никогда в этом не признался бы – проводил у зеркала намного больше времени, чем сестра.
Он знал, в чем дело, и разрешал ей держаться в тени, не приставая и не комментируя. У нее был свой метод; у него – свой, противоположный. Подтверждением чему служили кольца, из-за которых сейчас, на холоде, заныли мочки ушей.
– Мы вообще-то сколько здесь уже ошиваемся?
– Не так уж и долго. Они уже должны выходить. – Сигрун заглянула за угол большой белой церкви и снова прислонилась к стене. Трёстюр ее примеру не последовал – слишком уж холодным был бетон. В левой, целой, руке сестра держала букетик цветов, который они купили в супермаркете перед тем, как сесть на автобус до Фоссвогюр. Цветы уже подувяли и вообще выглядели непрезентабельно, чего и можно было ожидать от дешевого букета. Но это не имело никакого значения; букет у флориста стоил втрое дороже, и было бы глупо тратить такие деньги на мертвеца. Сигрун снова выглянула из-за угла. – Как только она выйдет, так сразу и пойдем.
Трёстюр хотел возразить, но сдержался. Сестра придавала большое значение ежегодному посещению могилы. Он же считал этот ритуал пустой тратой времени. Мертвые мертвы и живее не станут, сколько бы цветов ни клали люди на их могилы. Но об одолжении Сигрун просила нечасто, так что вопрос об отказе даже не стоял. Да и в любом случае заняться ему было нечем. Уже давно. Без работы Трёстюр оставался последние шесть месяцев, и хотя ожидание уже начало немножко утомлять, лучше не делать ничего, чем проводить дни в бессмысленной, унылой рутине. До самого сегодняшнего дня все его работы были однообразными, тупыми и низкооплачиваемыми. Сидеть на пособии оказалось, в конечном счете, не так уж и плохо. Вдобавок ко всему, по утрам не нужно было рано вставать. Хотя в роскоши он не купался: его последняя работа была фактически подработкой, что в результате сказалось потом на размере пособия. Вот только до него это дошло с опозданием. Но легко быть умным задним числом. Пособие позволяло закрыть основные потребности, так что могло быть хуже. И все-таки, что ни говори, хотелось бы, к примеру, позволить себе пару настоящих «Мартенсов». И новую куртку.
– У меня здесь яйца отмерзнут.
Едва сказав это, Трёстюр пожалел, что снова жалуется. Сигрун с тревогой и болью посмотрела на него сквозь спутанную гриву разметавшихся по лицу волос. Она была такая ранимая… Малейший намек на критику, который большинство людей просто не заметили бы, мог принять в ее глазах невероятные пропорции. О чем он только думал…
Трёстюр торопливо дал задний ход.
– Ну да ладно. Они, наверное, уже уходят. Сколько ж можно болтаться в такую погоду…
Сигрун чуточку расслабилась. К несчастью для них, пара подготовилась к ненастью гораздо лучше, чем они сами: женщина была в длинном, сияющем, с металлическим отливом и кожаным воротником, пуховике, мужчина – в куртке, не столь яркой, но теплой. Чтоб им… В таком прикиде можно при желании лечь прямо на надгробье, уснуть и даже не замерзнуть. А вот он, если б такое попробовал, подох бы от холода и превратился бы в собственное надгробье. От этой беспечной, мимолетной мысли его почему-то бросило в озноб. Эффект кладбища? В двадцать четыре года смерть кажется чем-то далеким и нереальным, но сейчас нарисованная воображением картина – могильный камень с его именем – выбила Трёстюра из колеи.
Картина эта показалась еще более гнетущей, когда он осознал, что на его могилу никто, кроме сестры, не придет. У матери времени на посещение не найдется. На работе она выматывалась полностью и, приходя домой, уходила обычно в свою комнату и запиралась. Никаких перемен в этом отношении в ближайшее время не намечалось. Трёстюр давно махнул на нее рукой – в отличие от Сигрун. Сестра любила мать, как и подобает дочери, а вот он так и не смог ее простить. Сигрун доказывала, что прощать нечего. По ее мнению, их мать не могла поступить иначе. Она стала жертвой обстоятельств. У Трёстюра жертвы вроде нее никакого сочувствия не вызывали: сострадания заслуживают жертвы настоящие, такие, как они с сестрой.
Он не испытывал к ней ненависти, но и любви тоже. Многие годы в нем жила только злость, но с течением лет, по мере того как страшное прошлое уходило дальше и дальше, он все чаще замечал, что жалеет ее. Дальше Трёстюр не двинулся, на более теплые чувства его не хватило.
Не жалеть мать, зная, в какое дерьмо превратилась ее жизнь, было невозможно. Не имело значения даже то, что теперешнее несчастное существование выбрала она сама. Предпочла изолировать себя и всецело отдаться работе в безуспешной попытке искупить вину за то, что невозможно исправить. Ей не хватило духа совершить самосожжение, сделать харакири или высечь себя плетью, как делают люди в иных культурах. Она взяла другую епитимью – стала живым придверным ковриком. И потянула с собой сына и дочь. Возможно, думала, что жертвует собой ради них и таким вот способом рассчитывается по долгам… Ошибаться сильнее было невозможно.
Опять захотелось курить. Что ж это за жизнь… Да и не жизнь – существование, жалкое и беспросветное. У всех есть какая-то стабильность, какой-то якорь, что-то, дающее уверенность. У всех, только не у них с Сигрун. После того, как их так называемый родитель отправился куда положено, они пять лет подряд переезжали с одного места на другое. И каждый раз, когда люди узнавали, кто они, приходилось снова собирать пожитки и выкатываться. Как только на работе у матери начинали шептаться за ее спиной, она переходила на другую работу, где платили еще меньше.
Так продолжалось до тех пор, пока ее не взяли на рыбзавод, где на конвейере трудились исключительно иностранцы, не имевшие ни малейшего представления о том, кто она такая. Удостоверившись, что новенькая не навязывается к ним в друзья, они оставили ее в покое.
Поскольку одной зарплаты на семью из трех человек не хватало, мать по вечерам, когда все расходились, убирала в офисах. В пустых, притихших зданиях никто не бросал на нее косые взгляды, не шептался у нее за спиной, и ей даже удавалось немного расслабиться, хотя хроническая усталость проглядывала и в изможденном лице, и в бессильно поникших плечах.
Когда Трёстюр начал работать по окончании школы, у матери появилась возможность ослабить нагрузку, но она не сделала этого, сказав сыну, чтобы откладывал свой заработок на будущее. Вечная страдалица… Он с готовностью согласился с ее предложением, но деньги проматывал едва ли не сразу после получки.
Сигрун училась хорошо, но школу бросила, получив обязательное образование, и поначалу пошла работать на рыбзавод, где у нее ничего не сложилось. Как ни старалась, угнаться за другими она не могла, да это было и невозможно без двух пальцев на правой руке. Отстояв у конвейера целый год, Сигрун в конце концов подала заявление на увольнение.
После рыбзавода она устроилась делопроизводителем в страховую компанию, где работала и поныне, занимая, к полному своему удовольствию, крохотный задний офис. Свои обязанности Сигрун выполняла идеально, благодаря чему считалась незаменимой, хотя на ее зарплате это никак не сказывалось. Впрочем, она и сама ни разу не попросила о прибавке, и вообще никогда не выдвигала никаких требований. Что именно Сигрун делала с деньгами, оставалось загадкой. Скорее всего, откладывала на счет в банке, следуя тому же совету, который мать дала брату. На себя она, похоже, не тратила ничего. Если дело обстояло именно так, то у нее должна была скопиться довольно приличная сумма. Трёстюр всегда говорил, что ей нужно побаловать себя, прекратить это нелепое крохоборство, но сестра только смущенно отводила глаза, когда он спрашивал, для чего она откладывает деньги. Может быть, с детства мечтала о кругосветном путешествии? Это Трёстюр мог бы понять…
Он потоптался на месте, чтобы хоть немного восстановить кровообращение в пальцах ног.
– Тсс! Кажется, идут… Посмотреть? – Сигрун сдвинула с уха капюшон и прислушалась.
Перестав топать, Трёстюр услышал хруст снега и слабое эхо разговора. Должно быть, они. Наконец-то… Если повезет, они сядут в машины и уедут. Вряд ли кто-то останется поговорить.
Когда они с Сигрун пришли сюда, одна машина уже стояла на парковке, а вторая только подъезжала. Водители вышли, холодно – по крайней мере, так показалось со стороны – кивнули друг другу и коротко пожали руки. Букеты у них были большие, не то что жалкий пучок, который держала Сигрун. На нее и Трёстюра, отступивших за угол церкви, мужчина и женщина даже не взглянули.
Трёстюр не считал себя человеком сентиментальным, но даже он невольно задумался о печальной судьбе несчастных родителей. Когда они с Сигрун пришли на кладбище впервые, эти двое приехали в одной машине и, направляясь к кладбищу, заботливо поддерживали друг друга. Он не любил вспоминать о похоронах, во время которых родители как будто даже стали ближе друг другу. Следуя за белым гробиком, они выглядели совершенно потрясенными, и на лицах обоих, когда они заметили Трёстюра, Сигрун и их мать, проступило одинаковое выражение ужаса. Троица устроилась на задней скамье, где, как думала мать, им удастся остаться незамеченными.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































