Текст книги "У истока дней"
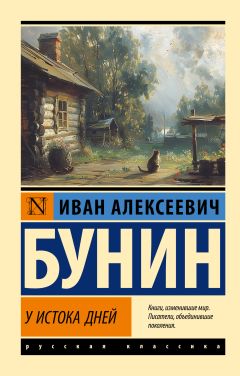
Автор книги: Иван Бунин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
IX
– Виноват, я не договорил, – повторил он. – Я вас перебью на минуту, – продолжал он только для того, чтобы вдуматься в то, что хотел сказать, так как намеревался говорить долго. – Я хотел ответить вам, Софья Марковна… Оставим на минуту труд в стороне, нужно сперва говорить о жизни… И вот я думаю так: жизнь человека должна быть направлена прежде всего к раскрытию и познанию…
– К раскрытию чего?
– К раскрытию того, что нужно и важно для человека, к развитию его добрых чувств, чтобы он мог любовно и радостно исполнять свое назначение на земле и волю пославшего его…
– Пославшего его, – повторил Игнатий. – Кто же этот пославший?
– А это называйте, как хотите – Роману, Вишну, Фта… Дух Жизни, одним словам.
– Дух Жизни! Что такое Дух Жизни?
– А вам что – хочется решить его как уравнение?
– Нисколько, это уравнение, состоящее из всех неизвестных. Следовательно, я и пытаться не буду решать такое уравнение… Да это и не уравнение будет.
Петр Алексеевич насмешливо кивнул на Игнатия.
– Игнатий-то! – сказал он. – Как уравнению-то обрадовался!
– Дай мне, пожалуйста, говорить! – воскликнул Игнатий со злобой. – Так я говорю: это для меня только звук, и я не знаю, что он значит…
– Дело не в звуке…
– Так позвольте: что же такое Дух Жизни?
– Дух Жизни?.. «Свет, и нет в нем никакой тьмы» – вот вам одно определение. Добро, любовь – вот вам другое.
– А почему я должен поклоняться добру? – вмешался Подгаевский, внезапно останавливаясь против Каменского.
– В самом деле, – подхватил Игнатий, – почему?
– Да зачем вы ставите эти вопросы? Вы следуйте веленьям своего сердца, в котором заключены добро и любовь.
– А если у меня не заключено ничего подобного?
– Это неправда. Еще Тертуллиан сказал, что душа христианка.
Игнатий заморгал, развел руками, поднял плечи.
– Да что же это за доказательство! – воскликнул он насмешливо и басом. – Добро. Любовь… А если я не верю Тертуллиану вашему, и моя башка, мои мозги…
Каменский нахмурился и повторил уже назло:
– Да, еще Тертуллиан сказал. А царь Давид вот что: «И рече безумец в сердце своем – несть Бога!»
– Не следует, я думаю, забывать того, что Давид совмещал в себе массу достоинств, но еще более недостатков, – перебила Софья Марковна.
– Господа, позвольте! – закричал Игнатий. – Мы уклонились, так нельзя…
– Вы же не дали мне договорить, – сказал Каменский.
Лицо у него раскраснелось, руки нервно гладили скатерть.
– Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста!
Каменский подумал и опять заговорил размеренно:
– Я говорил: человек должен уяснить себе, для чего он живет…
– Виноват, – снова не выдержал Игнатий, – одно слово… Как это уяснить, для чего я живу? Я могу сказать, для чего я сегодня в город ездил…
– Да, вот именно так, – подтвердил Каменский, – именно, надо уяснить себе цель жизни так же, как цель поездки в город. И вот: есть жизнь телесная и плотская и есть жизнь духовная и душевная. Жизнь телесная…
– Ну, это уже начинается метафизика какая-то! – воскликнула Софья Марковна.
– Позвольте, – начал Игнатий.
– Виноват, – заговорил и агроном, хотевший примирить и успокоить всех.
А Петр Алексеевич выговорил громче всех:
– Мы вот с Илюшей живем плотской жизнью.
– Метафизика – родня поэзии! Я стою за метафизику! – почти закричал Подгаевский. – Вы говорите: труд, но прогре-сс движется не трудом, а тво-рчеством!
– Это, положим, вздор! – добавила Софья Марковна. – Возьмите Липперта…
Каменский почувствовал, что здесь нельзя говорить. Но то, что ему хотелось сказать этим людям, которые кричат только от скуки, волновало его, и он поднялся со стула. Встал и Игнатий.
– Что же вы сотворили? – почти строго спрашивал Каменский. – Что? Я скажу вам, что вы сотворили: рабовладельчество, проституцию…
– А что вы так против проституции? – вмешался Петр Алексеевич уже с явной насмешкой. – Вот Илья иначе думает.
Каменский пристально посмотрел на Петра Алексеевича, но тот сделал мутные глаза и отвернулся.
– При со-вре-менных условиях это не-обхо-димо-е учреждение! – уже кричал Подгаевский.
– Позвольте… Что же, современные условия хороши?
– Нет, вы позвольте!
Лицо Подгаевского исказилось, глаза бегали; то, что у него не было двух верхних зубов, еще более делало его некрасивым.
– Нет, дайте же мне договорить! – пробовал как можно спокойнее возражать Каменский. – Вы сказали именно то, что нужно: вы сказали как человек, который на вопрос: почему он едет так плохо и тихо, ответил, что у него сломана ось. Остановись же, – сказали ему, – почини ее.
– Позвольте-с, – заговорил Бернгардт сумрачно, приближаясь к Каменскому, – современные условия зависят не от одного человека. Это не телега, в которой едет благодушный мечтатель и единственный обладатель ее, это наполненный народом дилижанс. И починка зависит не от единичной воли… Конечно, можно и пренебречь сломанным экипажем, встать, махнуть рукой и отправиться пешечком; только это и нечестно, и навряд ли хорошо для отправившегося пешечком…
– Да, – горячо подхватил Каменский, – если дилижанс плох, нужно его оставить и не тащиться в нем или не сваливать все на других, на «обстоятельства»… И во всяком случае, починка делается не злобой, а единением и любовью!
– А может быть, непротивлением злу? – перебил Бернгардт и резко захохотал.
Вдруг Петр Алексеевич поднялся.
– Мамаша! – воскликнул он. – Это наконец подло с вашей стороны! Вы меня все равно не приучите к духовной жизни, я не обедал сегодня!
– Господа, перейдемте в столовую, – обратилась Наталья Борисовна к окружающим.
Гриша поднялся и скрылся в своей комнате.
Понемногу стали подыматься и остальные. Разговор оборвался, и по рассеянным взглядам было видно, что продолжение его и нежелательно.
Агроном сел за рояль и, одним пальцем аккомпанируя, вполголоса запел пролог из «Паяцев». Около него стояли Бобрицкий, Софья Марковна и Подгаевский; Подгаевский покачивал головою и намеревался подтягивать. Петр Алексеевич в ленивой позе сидел на диване; Бернгардт ходил из угла в угол: он не хотел даже серьезно говорить с Каменским, унижать себя. А Игнатий с Каменским незаметно вышли на балкон. Игнатия мало интересовала закуска, и он думал, что, пожалуй, вышло неловко это всеобщее нападение на Каменского. Спорить больше ему не хотелось, хотя он и был немного обижен, так как любил оставаться в горячих разговорах победителем. Он стоял против Каменского и машинально повторял:
– Да-а-с, батенька!
Лицо Каменского было строго и рассеянно. Облокотившись на перила балкона, он старался собрать мысли, так как твердо решил опять завести разговор.
А Марья Ивановна, полуосвещенная светом, падавшим из гостиной на балкон, глядела в сад и говорила тихо и восторженно:
– Как хорошо!
В саду было очень темно и тепло. Ночные неопределенные облака неподвижно дремали в темноте над садом. Дремотно где-то щелкал соловей, невнятно доносился аромат резеды с цветника у балкона…
X
Гриша сидел за ужином, мрачно покусывая ногти.
Когда собрались в столовую, произошла маленькая неловкость.
– How did you get acquainted with him?[12]12
Как вы познакомились с ним? (англ.)
[Закрыть] – вдруг спросила профессорша Наталью Борисовну, указывая глазами на Каменского.
– Энгельса зашел попросить, – пробормотал Петр Алексеевич.
А Каменский мягко, но серьезно заметил:
– Я знаю английский язык, так что вы говорите лучше на каком-нибудь другом.
И когда Софья Марковна смешалась и покраснела, он добавил снисходительно:
– Да вы не конфузьтесь. Языки надо знать, это ведет людей к сближению. Ведь вся беда людей с древнейших времен и до этого вечера состоит в неуменье и бессознательном нежелании общаться с людьми.
Он вызывал на беседу, и лицо его становилось все сосредоточеннее. Но кругом шел оживленный разговор о знакомых, об опере; занимал всех и ужин – молодые картошки с зеленью, бифштекс, вина… К ужину вышел и военный доктор, похожий на цыгана. Заспанный, добродушный, он все старался казаться трезвым и поэтому расшаркивался, подымал плечи и хриплым голосом говорил любезности дамам.
Тогда Каменский, обращаясь как будто к одному Игнатию, произнес целую речь. Голос его стал торжественным, глаза строгими и выразительными.
Он опять начал с того, что нужно в жизни. Современный человек, говорил он, отличается тем, что умеет становиться на всевозможные точки зрения и ни одной не признавать безусловно справедливой, ни одной не увлекаться сердечно. Жизнь стала слишком сложна, и сложная общественная организация парализует нашу волю и растягивает нас в разные стороны. Мы одурманили себя ненужными делами, мы загипнотизированы книгами и разучились говорить языком сердца. Мы слишком заняты, по словам Лаодзи и Амиеля, слишком много читаем пустого и бесплодного, когда надо стараться упрощать жизнь, стараться быть искренним, вникающим в свою душу, когда нужно отдаться Богу, служить только ему, остальное же все приложится. Мы устали от вероучений, от научных гипотез о мире, устали от распрей за счастье личности, слишком много пролили крови, вырывая это счастье друг у друга, когда жизнь наша должна состоять в подавлении личных желаний и исполнении закона любви. Злоба – смерть, любовь – жизнь, говорил он. Жизнь только в жизни духа, а не в жизни тела. Плод же духа – любовь, радость, мир, милосердие, вера, кротость, воздержание… Это повторяли людям все великие учители человечества, начиная с Будды…
– Ну, знаете, батенька, Будда был довольно-таки ограниченный субъект! – перебил Игнатий.
Каменский, не слушая, продолжал говорить. Он настаивал на том, что мы сами создаем себе миллионы терзаний только потому, что не хотим прислушаться к тому, что говорит нам сердце голосом любви, всепрощения и благоволения ко всему живущему; настаивал на том, что мы гибнем, развивая в себе зверские похоти, тысячи ненужных потребностей и желаний. «Желаете и не имеете; убиваете и завидуете и не можете достигнуть», – напомнил он слова апостола Иакова.
– Это все очень не ново! – послышались голоса. – Это все давно слышанное. К сожалению, не так просто все развязывается. И любить по закону нельзя. Странный рецепт: возьми да полюби!
Гриша терялся – с обеих сторон говорили правду!
Размахивая полами сюртука, Подгаевский ходил по комнате и кричал над ухом Каменского:
– Я скажу вам словами такого же апостола, Павла: «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности!»
– Лучше быть рабом праведности, чем похоти, – пробовал возражать Каменский.
Но Подгаевский был уже пьян. Пьян был и «Вася», который все наклонялся и что-то бормотал на ухо Петру Алексеевичу, воображая, что говорит шепотом. А Петр Алексеевич сидел с раскрасневшимся лицом и мутным взглядом.
Ах, что кому до нас,
Когда праздничек у нас! –
запел он вдруг фальшиво и резко.
Дамы встали и начали прощаться. Поднялся и Каменский.
– Что же вы? – спросил Петр Алексеевич. – Уже уходите? Напрасно! Давайте споем.
Каменский пожал плечами.
– Какой вы веселый! – сказал он, нахмуриваясь.
– Веселый! – повторил Петр Алексеевич и вдруг прибавил с неприятной улыбкой: – Кстати о труде! Шкап-то скоро будет готов?
– В четверг принесу.
– После дождичка?
– А разве в четверг будет дождь?
– Да вот Брюс пишет – будет.
– Я в Брюса, к сожалению, не верю. До свидания!
– Жаль! А закусить разве не хотите? Ведь хочется небось?
Каменский посмотрел на него долгим взглядом, пожал окружающим руки и пошел из дома через балкон.
Петр Алексеевич поднялся.
– Николка! – крикнул он на весь дом.
И когда вбежал лакей, прибавил:
– Лошадей нам! Вася, Илюша – в «Добро пожаловать!». Едем!
– Петр Алексеевич, – сказала Наталья Борисовна, – я тебя прошу, не езди!
– Мамаша! Оставьте! Стыдно при чужих людях…
Ах, что кому до нас, —
запел он снова, обнял доктора и Подгаевского и пошел в кабинет…
Дом опустел. Было слышно, как в столовой убирали посуду. Гриша сидел в своей комнате у открытого окна, стиснув зубы.
– В наше время таких бы не слушали, – со злобой говорил на балконе Бернгардт.
– Вы и теперь не слушаете, – отвечал злобно и Каменский.
– Мы жизнью жертвовали!
– Однако вы живы.
– Не каламбурьте! Вы увлекаете общество от полезной и честной работы в свою келью под елью.
– Это что же вы называете работой? Неужели эта дача похожа на рабочий дом?
– Я не про эту дачу говорю. Вы не ехидничайте. Любовь!.. А ведь у вас злоба кипит, вы сами просите борьбы… Вы, например, меня ненавидите сейчас.
– Поверьте мне, как брату, – горячо возразил Каменский, – у меня никакой нет злобы против вас. Запомните слова Паскаля: «Есть три рода людей: один те, которые, найдя Бога, служат ему, другие, которые заняты исканием его, и третьи, которые, не найдя его, все-таки не ищут его»…
– Опять тексты!
– Да, тексты! – повторил Каменский снова с сердцем…
– Покойной ночи! – послышался немного погодя голос Игнатия.
– Прощайте! – ответил грустно и важно Каменский.
XI
На заре Гришу разбудили удары грома. Он открыл глаза.
День был серый и дождливый. От надвигающихся туч в комнате темнело; в сумраке мелькал красноватый отблеск молнии, после чего начинался где-то вверху смутный рокот. Он приближался тяжкими раскатами, так что дрожали стекла, и вдруг разражался треском и резкими ударами над самой крышей дома… И начинал сыпать дождь, сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли не шелохнувшись, насыщаясь влагою. Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух.
Гриша хотел уже вставать, как в столовой послышались тяжелые шаги Петра Алексеевича. Он что-то невнятно приказывал лакею, который звенел ключами, отворяя шкап.
– Гриша! – раздался вдруг его голос в гостиной.
Гриша не ответил.
Петр Алексеевич подошел к порогу и раздвинул портьеры. Он был в шляпе и крылатке, которая сползла у него с плеч.
– Ты спишь? – спросил он.
– Нет, – ответил Гриша и нахмурился. – А что?
– Да так… Я, знаешь, хотел спросить кое-что…
– Именно?
– Именно… Гм! Ну, да все равно… Я хотел тебе сказать вот что: не замечал ли ты, что свинья одно из самых иронических животных?.. Это, во-первых…
Язык Петра Алексеевича заплетался.
– Во-вторых, я зашел к тебе на минутку… – продолжал он медленно. – Я хотел тебе передать, что встретил сейчас Каменского… В город, брат, уже прет!.. И знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что я – новая интеллигенция, так называемая «честная», но со всеми признаками самого обыкновенного буржуя, то есть настоящей свиньи… И что будто это порождение последних дней… Это недурно! А главное, изречение!
И тоном Каменского Петр Алексеевич прибавил:
– «Ибо ради вас имя Божие хулится у язычников!..» Как тебе это нравится?
Гриша молчал.
– Молчишь? – опять заговорил Петр Алексеевич. – Молчи, брат! Только знаешь что? Ты о себе подумай… подумай и лучше застрелись, если ничего не выдумаешь… Непременно застрелись, если не станешь ничем иным, как иронизирующей свиньей!
Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве и деревьям. Мягкими переливами звучал под дождем голос иволги.
Гриша лежал на кровати и зло, загадочно улыбался…
Святые Горы
I
Путь к Донцу, к древнему монастырю на Святых Горах, пролегает на юго-восток, на Азовские степи.
Ранним утром Великой субботы я был уже под Славянском. Но до Святых Гор оставалось еще верст двадцать, и нужно было идти поспешно. Этот день мне хотелось провести в обители.
Предо мной серело пустынное поле. Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, зорко глядел на равнины. С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено; ветер просушивал колеи грязной дороги и шуршал прошлогодним бурьяном. Но за мной, на западе, картинно рисовалась на горизонте гряда меловых гор. Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое серебро чернью, она тонула в утреннем тумане. Ветер дул мне навстречу, холодил лицо, рукава, степь увлекала, завладевала душой, наполняла ее чувством радости, свежести.
За курганом блеснула круглая ложбина, налитая весенней водой. Я свернул к ней на отдых. Есть что-то чистое и веселое в этих полевых апрельских болотцах; над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки щеголевато и легко перебегают по их бережкам и оставляют на иле свои тонкие, звездообразные следы, а в мелкой, прозрачной воде их отражается ясная лазурь и белые облака весеннего неба. Курган был дикий, еще ни разу не тронутый плугом. Он расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью из мутно-зеленого бархата, был покрыт прошлогодней травой. Седой ковыль тихо покачивался на его склонах – жалкие остатки ковыля. «Время его, – подумал я, – навсегда проходит; в вековом забытьи он только смутно вспоминает теперь далекое былое, прежние степи и прежних людей, души которых были роднее и ближе ему, лучше нас умели понимать его шепот, полный от века задумчивости пустыни, так много говорящей без слов о ничтожестве земного существования».
Отдыхая, я долго лежал на кургане. С полей уже тянуло теплом. Облака светлели, таяли. Жаворонки, невидимые в воздухе, напоенном парами и светом, заливались над степью безотчетно-радостными трелями. Ветер стал ласковый, мягкий. Солнце согревало меня, и я закрывал глаза, чувствуя себя бесконечно счастливым. В южных степях каждый курган кажется молчаливым памятником какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом», – это была моя давнишняя мечта. Донец видел Игоря, – может быть, видел Игоря и Святогорский монастырь. Сколько раз разрушался он до основания и пустели его разбитые стены! Сколько претерпел он, стоя на татарских путях, в диких степных равнинах, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгие осады от полчищ диких орд и воровских людей!
Скрип телеги, на которой сидел старик, свесив с грядки ноги в допотопных сапогах, и сопение волов, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелым ярмом, медленно тащились по дороге, разогнали мои думы. Я зашагал еще поспешнее.
Полоса леса серовато чернела вдали. Я не сводил с нее глаз, думая, что за лесом-то и откроется долина Донца и Горы. Лес оказался очень старым, заглохшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени.
Скоро, однако, в пролете лесной дороги снова проглянула просторная, вольная даль. Сухой степной ветер все усиливался, разгоняя в ярком весеннем небе белые облака, делая даль бесконечной. Монастыря же все не было.
Хохол, к которому я подходил с расспросами о дороге, рослый мужик с маленькой головой, одетый в короткую, словно из осиновой коры сшитую, свитку, не спеша шел за плугом. Плуг тащили четыре вола, а волов вела девочка.
– Тату! – сказала она мужику, обращая его внимание на меня.
Он остановился.
– Эта дорога на Святые Горы? – спросил я.
– А куды вам треба?
– В монастырь.
– Якiй монастырь?
– Да вы разве никогда не были на Святых Горах?
– В якономii?
– Да не в экономии, а в самом монастыре, в церкви.
– У церквi? Ta y нас своя церква на селi.
– А в монастыре?
– Та був, ще хлопцем. Тодi чума на скот була, так казали, що там пробував такий монах, що знав замовляти. От i ходили уci, у кого скотина болiла; звiсно, молебствiэ служили i в село привозили того iнока. Ну, походив вiн по дворах, покропив водою, а про те нiчого не помоглось.
– Так это дорога туда?
– Эге ж…
И хохол, даже не взглянув на меня, снова спокойно пошел за плугом.
Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела. Вдалеке, налево, на самом горизонте, над чащей леса, сверкал золотой звездой купол церкви. Но я едва взглянул туда. Передо мной, в огромной, глубокой долине, открылся Донец.
Долго простоял я неподвижно, глядя на мутную синеву этих привольных лугов. Все они были затоплены водой, – Донец был в разливе. Стальные полосы реки сверкали в чащах коричневых камышей и залитых половодьем прибрежных лесов, а к югу разливались еще шире, совсем уже смутные у подножья далеких меловых гор. И горы эти белели так смутно-смутно… Потом я обгонял идущий на богомолье народ – женщин, подростков, дряхлых калек с выцветшими от времени и степных ветров глазами, и все думал о старине, о той чудной власти, которая дана прошлому… Откуда она и что она значит?
Между тем монастырь все еще не показывался. Небо потускнело, ветер начал пылить по дороге, и в степи стало скучно. Донец скрылся за холмами. Я попросил проезжего хлопца подвезти меня, и он посадил меня в свою тележку на двух колесах. Мы разговорились, и я не заметил, как мы въехали в лес и стали спускаться под гору.
Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось еще глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы – все скученное, картинно сокращенное отдалением, – и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































