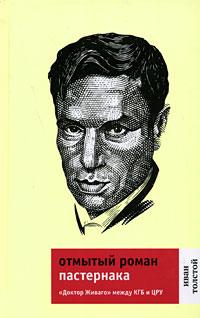
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Иван Толстой
Отмытый роман Пастернака:
«Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
Ольге Поленовой, поверившей и поддержавшей.
Всей этой кутерьмы не случилось бы, если бы у советских редакторов хватило разума опубликовать эту книгу.
Борис Пастернак
ВСТУПЛЕНИЕ
Ни с того ни с сего, самолет приземлился на Мальте. Пропеллеры замерли. Смеркалось. К огням одноэтажного аэровокзала не спеша тянулась стайка жестикулировавших пассажиров. Все планы на вечер летели вверх тормашками.
Но в те осенние сумерки 1956 года в Мальтийском аэропорту было несколько джентльменов, планы которых прямо противоположным образом отличались от пассажирских: им нужно было, чтобы самолет изменил свой курс и сел именно здесь.
Как только путников рассадили в зале ожидания, в брюхе аэроплана был отыскан нужный чемодан, а в нем – толстая папка с рукописью. За два часа в служебной комнате, при свете специально приготовленных ламп, 600-страничный манускрипт был тайно переснят, уложен обратно в чемодан, а пассажиры возвращены на свои места.
Пропеллеры загудели, как ни в чем не бывало. Текст «Доктора Живаго» попал в руки западных разведок.
В наши дни подобные детективы уже не случаются. Международный интерес к романам проявляют не рыцари поднятого воротника, а степенные литературные агенты. Приключенческую судьбу манускрипта приходится выдумывать, так что история выхода закатной книги Пастернака по-русски стала на нашем веку, вероятно, последним подлинным триллером.
Но поведать этот триллер биографы Пастернака почему-то не хотят. Чего только не опубликовано! Свидетельства друзей и доверенных лиц, участвовавших в переправке экземпляров «Живаго» на Запад, взаимные претензии миланского издателя Джанджакомо Фельтринелли и парижской доверенной Жаклин де Пруайяр, к воспоминаниям возлюбленной поэта Ольги Ивинской добавились записки законной жены Зинаиды Николаевны, несколькими изданиями вышла биография, написанная сыном поэта Евгением Борисовичем, появился вдохновенный том Дмитрия Быкова в серии «ЖЗЛ», подборка правительственных документов обнажила зловещий и тупой механизм травли Бориса Леонидовича. Даже борьба за обладание рукописями из государственного архива (ГАРФа) представлена в печати и в интернете высказываниями обеих сторон. И все это увенчано великолепным 11-томным комментированным собранием сочинений и писем.
Биографу Пастернака грех жаловаться. Но вот что странно. Задайте простой вопрос: а кто и как выпустил первое русское издание «Доктора Живаго», столь в свое время долгожданное, важнее которого для автора ничего не было, роковое, лелеемое, отданное в надежные и заботливые руки французского друга?
И ответа вы не найдете.
Как получилось, что обладательница и хранительница единственного правленого автором экземпляра Жаклин де Пруайяр в свободном Париже, не стесненная ни в перемещениях, ни в контактах, имея прямое письменное именное поручение от самого Пастернака (почти что духовное завещание) – издать правильный русский текст, – она, Жаклин, ни слова не сообщив своему поручителю, позволяет осуществиться на Западе безобразному уродцу, никем не вычитанному, с пропущенными строчками, перевранными словами и неправильно прочитанными окончаниями?
Как объяснить, что с этого хулиганского набора в течение тридцати лет печатались (и кем?) безостановочные тиражи, что по этим бракованным страницам не одно поколение исследователей судило о пастернаковском произведении?
Положим, комментаторов долгое время останавливала скудость сведений об этом первом русском издании. Но так могло продолжаться только до начала 90-х. В последние же пятнадцать лет, а особенно с лавинообразным развитием интернета, информационная картина настолько изменилась, что замалчивать детективную историю появления на свет «пиратского» издания – значит не хотеть пролить свет на тайну, окутавшую присуждение самой громкой Нобелевской премии за всю ее историю.
Говоря коротко, проблема проста: слишком многие не хотят признать, что «Доктора Живаго» по-русски выпустило ЦРУ – американская разведка. В этом факте видится покушение, прежде всего, на честь Пастернака. Хочу заверить читателей, что Борис Леонидович остается в белых ризах: ни он ничего не знал о ЦРУ, ни ЦРУ – о нем, и, по всей видимости, им даже не интересовалось.
Речь идет всего лишь о приключениях рукописи, ставшей объектом внимания сразу нескольких разведок – советской, американской, британской и голландской. Не будет ничего удивительного, кстати, если со временем найдутся подтверждения тогдашнего внимания к манускрипту у итальянской и французской тайной полиции.
Детище Пастернака, выскользнув из его рук (вернее, несколько раз вытолкнутое им, как тайная записка, которую узник настойчиво выбрасывает из крепости), пустилось в собственное путешествие, полузабыв о существовании своего родителя. Но родитель ничуть не забыл. Борис Леонидович самым заботливым образом (насколько это вообще позволяли обстоятельства) следил за последовательными издательскими этапами, пытался в своих письмах сводить и мирить малознакомых ему людей, давал советы, рекомендации, поручения, распределял подарки и назначал премии.
Издательская судьба романа стала еще одним пастернаковским произведением, им задуманным и при его твердом желании доведенным до Нобелевской награды. Можно ли теперь утверждать, что книжный детектив, в который все это вылилось, не имеет отношения к биографии автора?
Жизнь писателя есть история создания его книг. Эти слова Владимира Набокова можно было бы взять эпиграфом к нашему повествованию, если бы у всего этого приключения не было такого яростного политического заряда, а у всех участников не возникло с годами страстного желания доказать остальным свою правоту.
Страсти вокруг «Доктора Живаго» не утихли до сих пор. Многие действующие лица той драмы живы и заинтересованно отнеслись к найденным документам и свидетельствам о главенствующей роли ЦРУ. У одних эта заинтересованность выразилась в желании помочь, уточнить и дополнить, у других – в резком неприятии предлагаемых фактов. Меня обвинили в раздувании дешевой сенсации и предрекли, что «скоро мои построения лопнут, как мыльный пузырь».
Страшному пророчеству о мыльном пузыре, подозреваю, не сбыться – просто потому, что рассказанная в этой книге история никакая не сенсация. Американская разведка в течение нескольких десятилетий через различные легальные организации поддерживала эмигрантские издательства, выставки и исследовательские программы, финансировала антисоветские радиостанции, помогала проводить конференции славистов и оплачивала поездки ученых в СССР. Причем российское направление было далеко не первым в деятельности ЦРУ. Из-за весьма плотного железного занавеса подрывная программа была поначалу разработана для Восточной Европы, и только с конца 50-х стало все мощнее развиваться советское направление.
Роман Пастернака стал первой ласточкой, нашедшей брешь в занавесе и долетевшей до Запада: он и положил начало истории тамиздата. Получив в свои руки опальный роман, американская разведка использовала все представившиеся возможности, и политическое поражение Кремля стало полным.
Пастернак тут был уже ни при чем. Он оказался игрушкой, игралищем в руках больших соперников, не подозревая даже, в какие сценарии вписывают его совершенно не известные ему люди.
История, рассказанная в этой книге, предлагает вместо благостной сказки о выходе 600-страничного тома то ли стараниями милых западных друзей, то ли по щучьему велению – другое изложение событий. Оно гораздо ближе к тому, что зовется былью. И хотя многое остается до сих пор неизвестным и ненайденным, основные звенья цепи уже перед нами. Лишенная невинности история «Доктора Живаго» разворачивает нас лицом к реалиям жизни.
Но есть у нашего повествования и другая мораль. На примере пастернаковского романа она (пусть даже единственный раз за последние полвека) предстает в каком-то очищенном виде. В то время как Кремль боролся со своими врагами ядом, пулями и похищениями неугодных, ЦРУ не менее эффективно потрясало основы советской идеологии изданием запрещенных книг. Русская классика против тоталитарного строя – как крестное знамение против коварного черта. Это ли не драма холодной войны!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В поисках формы и Лары
«Доктор Живаго» был не просто «контрреволюционным романом». Он был написан против самого автора и не только перечеркивал его официальную биографию, но даже расправлялся с внешностью Бориса Леонидовича.
Пастернак хотел прожить в книге другую, правильную жизнь, где можно было остаться частным человеком, максимально устранившимся от эпохи, русским по рождению, тайным и непризнанным поэтическим гением. Судьба реального Пастернака отрицалась здесь настолько, что главный герой Юрий Живаго получал по воле автора счастливый – курносый – нос.
И не только другой биографии желал писатель, но – другого естества. Зацикленные на социальности критики романа словно не видели, как художественное творчество дает Пастернаку возможность переиграть свою жизнь, переписать свою судьбу.
Исправляя «неправильную» жизнь, писатель бился за роман и считал его великим, втайне меряя замысел Львом Толстым. Отсюда – идея простоты, ибо величию не пристала вычурность.
Слишком долго – лучшие годы – Пастернак приноравливался и шел на компромиссы. Власть гнула политически, душила темы и взгляды, вытаптывала философию истории и религиозное вдохновение.
До середины тридцатых ему казалось: все это можно снести, смысл остается даже при таком существовании. Приняли революцию с величайшим энтузиазмом многие – режиссеры, поэты, живописцы, композиторы, немногочисленные тогда деятели кино, практически все наличные футуристы. Для столь разных фигур – скажем, для Всеволода Мейерхольда, Александра Блока, Кузьмы Петрова-Водкина, Артура Лурье, Дзиги Вертова, Владимира Маяковского, Романа Якобсона – социальный сдвиг был тектоническим смещением лишь большего масштаба, соответствуя по внутреннему смыслу тому, чем сами они занимались в искусстве. Революция не подвергалась сомнению ни историческому, ни юридическому, ни нравственному.
Полностью противоположным, но столь же осознанным был взгляд других – Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Михаила Лозинского. Для них даже не вставал вопрос о принятии нового порядка: какой высший смысл можно было искать в беззаконии, расстрелах, чрезвычайках, голоде? От тех времен остались проницательные и прозорливые дневники и письма. Не ретроспективные – задним умом многие сильны, – а немедленный приговор происходившему. Не сомневаясь, что большевики долго не продержатся, и живя ожиданием (кто в эмиграции, кто «со своим народом») конца вакханалии, противники режима принимали новых хозяев постепенно и вынужденно, несли свой крест и думали о сохранении культуры.
Начав безусловно с первыми, Пастернак в нашем теперешнем сознании связан явно и прочно со вторыми. Когда и почему он совершил свой политический и нравственный дрейф? За что последние полвека Бориса Пастернака устойчиво видят в этой четверке – вместе с Ахматовой, Мандельштамом и Цветаевой?
Так было не всегда. Николай Вильмонт, например, за строчкой «Нас мало. Нас, может быть, трое» видел, кроме самого Пастернака, Боброва и Аксенова. Сергей же Бобров на аксеновское место подставлял Асеева («И над миром высоко гнездятся / Асеев, Бобров, Пастернак»). Эдуард Багрицкий предлагал свой набор: «А в походной сумке спички и табак, / Тихонов, Сельвинский, Пастернак». А Осип Мандельштам говорил Сергею Рудакову: «В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев» (Герштейн, с. 150). Много лет двумя другими вершинами пастернаковского треугольника считались Цветаева и Маяковский.
К упрочению новой квадриги приложили руку и эмигранты (в огромной степени – Глеб Струве с Борисом Филипповым), и советские шестидесятники. Ныне массовое сознание приняло эту четверку подобно канону, независимо от того, кто из читателей какие места раздает в ней своим любимцам.
Бороться с канонами, а там более массовыми – бессмысленно, но все же Пастернак в этом перечне, признаемся, стоит особняком. Он принял большевиков настолько, что, к своему запоздалому ужасу, стал советским поэтом, членом правления Союза писателей, обладателем специальных талонов на «место у колонн» и на такси. Можно ли представить в этой роли Ахматову, вообразить литфондовскую дачу Мандельштама, личного шофера Цветаевой?
Пастернак понимал: быть привилегированным «некрасиво». Вокруг шли в лагеря, лишались всего, а он ехал на конгресс в Париж, и власть решала дилемму: назначать его первым поэтом страны или все-таки не назначать. О своем неаресте в годы ежовщины он говорил: «Скандальность моего положения». В другой раз: «Люди моего круга уничтожены судьбой, а я на свободе, здоров и ем, что хочу; это страшно меня угнетает, и я чувствую себя виноватым».
Но, терзаясь благополучием, Пастернак в то же время существовать без него не мог. Безбытность русского интеллигента никак не была его чертой. И не стоит принимать сетования Бориса Леонидовича за чистую монету: он активно зарабатывал репутацию неопасного для власти литератора. Покаяние вслух – весьма красивый жест в духе гражданской романтики, которая не всех современников вводила в заблуждение:
«Кто первый из нас написал революционную поэму? – Борис. Кто первый выступал на съезде с преданнейшей речью? – Борис. Кто первый сделал попытку восславить вождя? – Борис. (…) Кто первый из нас был послан вместе с Сурковым (неверно: с Щербаковым – Ив. Т.) представлять советскую поэзию за границей? – Борис!» (Дувакин, с. 259—260).
Это монолог Ахматовой, как будто концентрирующей главные претензии, которые четверка могла бы предъявить своему собрату.
«Конечно, в стратегии Пастернака, – пишет Наталья Иванова, – было опасное политическое лукавство – то лукавство, на которое Ахматова не была способна. Пастернак мог сам себя уговорить, убедить в своей искренности. Ахматова – не могла. Он отступал постепенно, каждый раз оставляя себе особую территорию, которую потом, позже, тоже приходилось оставлять, опять уговаривая себя самого. Самообман – вот что было свойственно Пастернаку» (Иванова, с. 378).
Нет, четвертым он никак не становился. Лояльностью своей он принципиально отличался от тех троих, для которых никогда не стоял вопрос приемлемости – политической, бытовой, стилистической. Такой сложилась в России читательская традиция, что без политического прямовидения поэта не признают. Дар сам по себе считается условием необходимым, но недостаточным, поэтика непременно проецируется публикой на политику, но та, конечно, не должна быть объявляема в лоб, с тупой прямотой. «Страна рабов, страна господ» – подобные горящие слова полагается выкрикнуть в сердцах один раз и больше ими не злоупотреблять. Зато пропуск в пантеон достойных обеспечивается.
Пастернак мучился, что выкрик про «страну рабов» за ним не числился. И потому он был в другом ряду.
Его влекло новаторство, по-разночински тянуло к новым людям, он интересовался марксистами, искренне слушал эпоху, вытесняя из сознания ее мерзости и стремясь «жить заодно с правопорядком». Страстно хотел быть советским, революционным поэтом. Жена Зинаида Николаевна знала что говорила, когда внутренне прощалась с ним у смертного одра: «Прощай, настоящий большой коммунист» (Зинаида Пастернак, с. 396). Таким она приняла его с самого начала, в 1930-м, верящим новой жизни и новой власти.
Можно ли было остаться порядочным человеком и уцелеть в сталинскую эру? Можно! Пастернак доказал это своим примером. Последующая драма его – в постепенной мучительной смене взглядов и художественных задач, в решительном отдалении и, наконец, разрыве с советскостью.
Почему он уцелел?
Вероятно, потому, что не был опасен вождю. Сталин вел с художниками большую игру, определяя значимость той или иной фигуры для режима. Художники со своей стороны либо отказывались от игры с тираном (Ахматова, Клюев, Волошин), либо играли в поддавки (большинство), либо пытались вести свою игру (Булгаков, Тынянов, Горький, Сергей Прокофьев, Пильняк, Сергей Эйзенштейн). Сталин не с кондачка решал, кого пустить в расход, а кого сохранить.
У молодого Пастернака не было проступков перед советской властью. Его природный романтизм и известная инфантильность позволяли ему вытеснять из сознания «окаянные дни». Инфантильность – не ругательство, это неверие в то, что может быть плохо. Жизнь ведь – сказка, а в сказке конец хороший. Трудности? Ну, трудности должны быть. Пастернак был с теми, кто «слушал музыку революции», очень долго слушал, до средины 30-х. Сам Блок этой музыки не вынес и умер. Есть известная фотография 1932 года: на комсомольском съезде рядом в зале сидят два писателя – Пастернак и Чуковский. Смотрят куда-то на сцену. Корней Иванович с глазами серьезными, чуть печальными – человек, давно уже понявший суть режима. И Пастернак – с горящим взором, в ожидании чуда вопреки всему. Хочется подписать: слушают музыку революции.
«Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими», – написал он отцу за границу.
Серьезным нравственным испытанием стала для Пастернака писательская командировка 1932 года на Урал, открывшая ему подлинное положение дел в стране. Он не выдержал своей привилегированной жизни на глазах у жертв коллективизации и, свернув поездку, срочно вернулся из-под Свердловска в Москву.
Кульминацией его отношений с властью стал сталинский телефонный звонок 1934 года после ареста Осипа Мандельштама. Своим звонком Сталин, что называется, попробовал Пастернака штыком: заступится за смертника или нет? Ответ поэта, несмотря на несколько его версий, отмечен, прежде всего, уклончивостью. Конечно, не мудрено растеряться от внезапного звонка душегуба. Но и растеряться можно по-разному. Удивительно, насколько ответы Пастернака характерны для него. Он не открестился прямо от собрата по цеху, а пустился в профессиональные тонкости, будто не понимая, чего от него хотят, упирая на их с Мандельштамом разные поэтические методы. Иезуит Сталин немедленно учуял это виляние, замаскированное отступничество и сразу же упрекнул собеседника: дескать, если бы его друг попал в беду, он бы на стену полез, желая его спасти. То есть подсказал Пастернаку, в этом заданном тесте на лояльность, один из возможных – правильных, романтически-благородных – вариантов ответа.
Закончился ли на этом разговор, неизвестно. Версии расходятся. Но даже если он продолжился и завершился выспренно-красивым пастернаковским предложением встретиться и поговорить «о жизни и смерти», то, как и любая легенда, он обрисовывает некую правдивую суть. Сталин, по всем версиям, быстро закончил разговор, вероятно, все для себя выяснив, оставив Пастернака в полной растерянности.
Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, наиболее близкие к ситуации, выставили Пастернаку крепкую четверку. У таких строгих судей четверка в ту эпоху – оценка очень высокая. Характерна в их устах и экспозиция: Пастернак – ученик, Сталин – учитель. Известна (правда, более поздняя) фраза Сталина: «Оставьте этого небожителя в покое». Нет ли в этом «небожителе» иронии или пренебрежения? Сталин-то распознал подтекст сказанного Пастернаком: не бойтесь меня, Иосиф Виссарионович, я буду заниматься рифмами.
Опасности для вождя он не представлял.
Почему, несмотря на все политические упреки, которые можно Пастернаку предъявить, мы его безусловно прощаем? Почему ризы его бесспорно чисты? Потому что грешат все, а каются избранные. Сквозь все слова и поступки Пастернака просвечивают его совестливость и порядочность, какие-то старые, отживающие представления о морали, долге и чести.
Крепился он до середины 30-х. Тогда и образовалась первая завязь романа. В поисках его начал нельзя не осознать ту роль, которую сыграла пастернаковская поездка 1935 года в Париж на международный антифашистский Конгресс писателей в защиту культуры. Здесь невероятный, абсолютно неожиданный горячий прием дал Пастернаку впервые понять, какое место отводят ему в современной литературе. Его приветствовали чуть ли не как пророка, от него жаждали услышать суждения о завтрашнем дне культуры и судьбах человечества. А слова покрывали овациями, будто главные свои сочинения он уже давно написал. И этот эмоциональный и моральный аванс просвещенных европейцев он пережил как сильнейший укор. Ведь ничего же еще для вечности им сделано не было (как он это понимал), все только откладывалось, принимались тактические соглашательские решения, и в никуда уходила жизнь.
Возвращался в СССР Пастернак в состоянии легкого помешательства, как человек, на которого дохнула возможность славы. Он словно подсмотрел в Париже свой будущий мемориальный вечер, на котором воздавались неслыханные почести. Вся его литературная судьба требовала переосмысления, весь прошлый путь теперь казался загроможденным напрасными препятствиями. И главное, какими! – ничтожными, не стоящими выеденного яйца, провинциальными, а Париж напомнил ему об историческом масштабе. Те самые, почти пресловутые, камни Европы ждали от него поступка, соразмерного его собственному представлению о достоинстве поэта, требовали большого и правдивого слова – разве мог он теперь обмануть ожидания истории?
Он возвращался в Ленинград пароходом и разделял каюту с секретарем Союза писателей Александром Щербаковым.
«Я, – рассказывал Пастернак Исайе Берлину, – говорил без умолку – день и ночь. Он умолял меня перестать и дать ему поспать. Но я говорил, как заведенный. Париж и Лондон разбудили во мне что-то, и я не мог остановиться. Он умолял пощадить его, но я был безжалостен. Наверное, он думал, что я сошел с ума» (Берлин, с. 444—445).
Это был очистительный психоз, катарсис, второе рождение.
На это новое состояние накладывались впечатления от происходящего внутри страны. Пастернак здесь календарно точен:
«Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось), все сломалось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал» (ЕБП. Биография, с. 528).
Пастернаковская драма стала особо зловещей, когда реальность начала куда-то заваливаться и исчезать: как товарищ Сталин в телефонном пространстве. Пастернак выступал против идеологических кампаний – а его не переставали печатать, он отказывался от подписи под людоедскими статьями – а фамилию его все равно ставили, он не отворачивался от гонимых друзей – а черный ворон проезжал мимо. Он упорно предлагал себя в жертву, но судьба жертвы не принимала. Поневоле начнешь считать себя каким-то заколдованным.
«Доктор Живаго» стал романом-исповедью, романом-покаянием тех «мальчиков и девочек» (раннее название книги), что не сразу разобрались в революции. «Доктором Живаго» он попытался искупить свой грех неуязвимости, сквитаться по очкам, по судьбе с лучшими из современников. Двадцать лет обманывал он себя и жил по чужим правилам, десять ушло на внутреннюю подготовку к главной книге, еще десять – на ее написание, последние пять – на защиту ее от гонений.
Написал и отомстил за все «Доктором Живаго», стал тайным знаком для посвященных, иконой времени, взбудоражил весь мир, разрекламировал Нобелевскую премию, реанимировал западную славистику, дал повод к созданию нескольких эмигрантских журналов, породил самиздат.
И все это выросло из мук совести одного писателя, из его недовольства собою.
Первую попытку – под названием «Из романа о 1905 годе» – Пастернак предпринял в середине 30-х, когда напечатал в «Литературной газете» несколько прозаических отрывков. Но они только разбередили мечту о будущем свободном произведении с заветными взглядами «на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое».
Пора пришла в 1945 году, когда чувство обновления и уверенности в себе охватило всю страну: ждали неизбежных перемен, новой политики, живой экономики, человечной идеологии. Старым литературным представлениям вдруг так легко стало противопоставлять свежие литературные замыслы.
И Пастернак больше не мог вытеснять из себя понимание революции как ошибки и катастрофы. И, сбросив с себя бремя фальши, занялся романом – и помолодел.
Упования сорок пятого года тоже, разумеется, возникли не на пустом месте:
«Приближается победа, – чувствовал Пастернак в 44-м. – Наступает момент оживления жизни. Историческая эпоха, какой свет не видал! Срок приспел! Писателю теперь как никогда необходима своя крепкая внутренняя эстетика» (ЕБП. Биография, с. 602).
В Эпилоге «Доктора Живаго» повествователь говорит:
«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание».
Еще в самый разгар войны, в октябре 1943 года, Пастернак неожиданно получил лестную весточку с Запада – письмо из отдела печати английского посольства с комплиментами и в подарок – шекспировский словарь.
Запад помнил, ценил, кивал. Лондонский профессор Кристофер Ренн давал оценку Пастернаку-переводчику такими словами, которых в Советском Союзе он о себе давно уже не слышал: «Пастернак достигает такой степени совершенства, какой только можно желать. Он сохраняет поэтичность чувств и все величие Шекспира в монологе Гамлета, в любовных сценах „Ромео и Джульетты“, в прекрасных заключительных словах Клеопатры».
В годы войны, помимо Шекспира, он переводил Самеда Вургуна, Валериана Гаприндашвили, Аветика Исакяна, Максима Рыльского, Симона Чиковани, Тараса Шевченко. Но все это были чужие миры, которые приходилось передавать своими словами. Печатать же собственные стихи, говорить своим голосом становилось, по обстоятельствам советского времени, с каждым годом все труднее. Как мало кто другой Пастернак мог бы подписаться под гениальными строчками Арсения Тарковского:
Для чего же лучшие годы Отдал я за чужие слова? Ах, восточные переводы! Как болит от вас голова.
Да он и сам говорил то же: «Переводы отняли у меня лучшие годы моей деятельности, сейчас надо наверстывать это упущенье». Его тревожило мрачно-шутливое предсказание Осипа Мандельштама: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома Ваших собственных стихотворений» (Флейшман, с. 182). Пастернак не хотел оставаться «только» переводчиком, хотя на этом поприще он снискал признание многих: его «Гамлет» хоть и своеволен, но легок и сценичен, его Шелли шельмоват переводческой отсебятиной, но шелковист и верток, а «Фауст» выдерживает соперничество с вершинами русской лирики. После отварных и охлажденных строк Николая Холодковского:
Вы вновь со мной, туманные виденья,
Мне в юности мелькнувшие давно… —
Пастернак взрывал Гете с нервным вдохновением:
Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Недаром из переведенных им строк так явственно вычитывался сам переводчик:
Из Гете, как из гетто, говорят
Обугленные губы Пастернака, —
писала ленинградская поэтесса Татьяна Галушко. Обугленные губы давно уже жаждали сказать свое.
И вот – как раз в сорок пятом – пришло известие, что профессор Оксфордского университета сэр Морис Баура и группа британских «персоналистов», которую возглавлял поэт и драматург Герберт Рид, объявили Пастернака своим гуру. А в сорок шестом сэр Баура, пользуясь своим правом оксфордского профессора, выдвинул его на Нобелевскую премию. Эта череда выдвижений продлится до 50-го года.
Эти и другие разрозненные сведения, время от времени приходившие в советское новостное захолустье, были самым воодушевляющим образом соединены в долгом разговоре с человеком из другого мира – с молодым тогда литературоведом Исайей Берлином, сотрудником Британского посольства в Вашингтоне, получившим командировку в победную Москву. Исайя Берлин был отроком увезен из Риги на Запад, вырос в Англии, интересовался русской литературой и историей русских идей, и в сорок пятом впервые повстречался с Россией и живыми русскими классиками. С Анной Ахматовой в Ленинграде он проговорил всю ночь в Фонтанном Доме, был назван ею впоследствии «гостем из будущего» и поселил в ней непоколебимую уверенность, что все последующие беды – от него: и ждановские гонения, и даже холодная война в целом.
Пастернак вызывал у Берлина большой интерес, —
«человек, которого я хотел увидеть больше всех. (…) Я не мог заставить себя искать знакомства с ним без предлога, хотя бы самого прозрачного. К счастью, я был знаком с его сестрами, которые жили (…) в Оксфорде, и одна из них попросила меня взять с собой пару башмаков для ее брата-поэта».
Все, что я тогда написал, – говорил Пастернак Берлину, —
«написано через силу, одержимо, изломано, искусственно, негодно; но сейчас я пишу совершенно по-другому: нечто новое, совсем новое, светлое, изящное, гармоничное, стройное, классически чистое и простое – как хотел Винкельман, да-да, и Гете; и это будет мое последнее слово, мое самое важное слово миру. Это – то, да, это именно то, что я хочу, чтобы запомнилось, осталось после меня; я посвящу этому весь остаток моей жизни» (Берлин, с. 432—433, 445).
Для пастернаковского преображения в сорок пятом были и другие причины – печального родственного порядка: в апреле скончался его пасынок Адриан Нейгауз, а 31 мая в Оксфорде умер его 83-летний отец художник Леонид Осипович Пастернак, живший в эмиграции с дочерьми. Тяжесть утраты, как это часто бывает, сменилась новым, неведомым прежде осознанием старшинства в роду, смелости в оценке прошлого, цельности и значимости собственного опыта. Пастернаку открылось пространство романа.
«Смерти не будет», – победоносно и многозначительно вывел он первоначальное заглавие книги. В декабре 45-го появились первые страницы, хотя настоящий отсчет начался для Пастернака с лета 46-го.
«…Я начал писать роман в прозе (…), – сообщал он своей кузине Ольге Фрейденберг 5 октября 46-го, – и с большим увлеченьем написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года – первые шаги на этом пути, – и они необычны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, – а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе».
Как пишет Дмитрий Быков, Пастернак








































