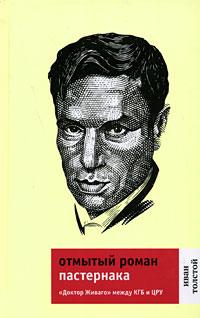
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«чувствовал, что теперь, когда получены новые и явные доказательства его европейской славы, когда молодежь с волнением ждет его слова, он обязан быть равен себе, как в семнадцатом году, освободиться от всех гипнозов и сказать самое смелое, самое честное слово, свое, как говорил он сам, „последнее слово миру“» (Быков, с. 655).
Пока же наступил август 1946-го и с ним первые после войны тяжелые испытания. 14 числа в газетах появилось «Постановление о журналах „Звезда“ и „Ленинград“» – первый после войны удар по надеждам в советской литературе. Главными мишенями были объявлены Анна Ахматова и Михаил Зощенко, но всем стало понятно, что пора относительного либерализма резко закончилась, железный занавес упал с грохотом и лязгом.
Впрямую Пастернак, казалось бы, не пострадал: его не арестовали, обыскам не подвергли, книг из библиотек не изъяли. Но публичная порка состоялась. 4 сентября в своем выступлении на президиуме правления Союза писателей Александр Фадеев предупредил коллег, что нельзя по отношению к Пастернаку проявлять «угодничества», поскольку тот не признает «нашей идеологии». В «уходе Пастернака в переводы от актуальной поэзии в дни войны» Фадеев усмотрел «определенную позицию».
Не казнили, но отлучили. Издание сборника шекспировских переводов с предисловием переводчика было запрещено, но в январе 1947, в короткое затишье, Пастернак все же подписал договор с «Новым миром» на публикацию романа под тогдашним названием «Иннокентий Дудоров (Мальчики и девочки)». Рукопись объемом в 10 авторских листов (220 страниц на машинке) следовало подать в августе.
Весной на него снова обрушились: «Литературная газета» с грубым фельетоном и «Культура и жизнь» с установочной статьей Алексея Суркова, который еще сыграет зловещую роль в истории «Доктора Живаго». Сурковские выражения («реакционное отсталое мировоззрение», «разлад с новой действительностью», «прямая клевета», «скудные духовные ресурсы», «советская поэзия не может мириться с его поэзией») были из числа тех, какие, по советскому опыту, заканчиваются арестом.
Обошлось и на этот раз. Судьба Пастернака хранила.
Оригинал Лары
«Лара – персонаж, лишенный характерности», – написал в одном из первых «перестроечных» разборов романа Дмитрий Лихачев (С разных точек зрения, с. 177). А Борис Парамонов недавно отметил, что у нее неизвестно какие глаза (Парамонов, 2007). И хотя это неверно (глаза у Лары серые), но подобное читательское впечатление объяснимо той эклектикой, что положена в основу образа. Лара – персонаж условный, искусственный, составной. Такие редко удаются. Целостную Лару Пастернак в своей жизни никогда не встречал, хотя и писал Ренате Швейцер об одном из прототипов:
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной – Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать. (…) Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни (уже до этого) перенесла. Она и пишет стихи, и переводит стихи наших национальных литератур по подстрочникам, как это делают некоторые у нас, кто не знает европейских языков. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела» (7 мая 1958).
А в интервью Энтони Брауну:
«В моей молодости не было одной, единственной Лары… Лара моей молодости – это общий опыт. Но Лара моей старости вписана в мое сердце ее кровью и ее тюрьмой» (январь 1959).
Ради новых впечатлений Пастернак после войны бесстрастно вытеснил свои прежние чувства. Верить художнику на слово – наивность. Но то, что Лара, точнее «Лара», сойдя со страниц романа, сыграла одну из ключевых ролей в приключениях живаговской рукописи – бесспорно. И меркантильность Ивинской нисколько не поколебала образ героини: к Ларе ничто пристать не могло.
Женщины в судьбе и в житейской философии Пастернака занимали важнейшее место.
Пережив несколько влюбленностей, он в 1922 году женился на милой интеллигентной художнице Евгении Лурье, женился без особой любви, из желания иметь дом. На следующий год у них родился сын Евгений, но брак оказался неудачным. Евгения Владимировна была образованной женщиной с духовными, как говорится, запросами, и современники отмечали ее интеллектуальность. Говорили, что она равновелика Пастернаку, интересуется его творчеством.
«Борис, – считала Ахматова, – никогда в женщинах ничего не понимал. Быть может, ему не везло на них. Первая, Евгения Владимировна, мила и интеллигентна, но, но, но… она воображала себя великой художницей, и на этом основании варить суп для всей семьи должен был Борис» (Чуковскаая, том 2, с. 429).
Брак рухнул, когда Пастернак повстречал Зинаиду Николаевну Нейгауз (урожденную Еремееву), жену известного пианиста Генриха Нейгауза, и влюбился в нее без памяти. Несмотря на дружбу с самим Нейгаузом, Зинаиды Николаевны он домогался настойчиво и разрушил обе семьи – и свою, и друга, сохранив брак с Еремеевой до конца своих дней.
В молодости необычайно красивая, на четверть итальянка, Зинаида Николаевна славилась своей привлекательностью:
«Высокая, стройная, яркая брюнетка, – описывала ее Елизавета Черняк. – Прелестный удлиненный овал лица, матовая кожа, огромные сияющие темно-карие глаза. Такой я ее помню в ранней юности, еще невестой Нейгауза в Киеве. В эту пору, т. е. в 1931 году, она была полнее, овал лица немного расплывчатее, но еще очень хороша» (Зинаида Пастернак, с. 7).
Не только ее красоту, но и пластику движений отметил профессиональным взглядом художника Роберт Фальк:
«Я хорошо помню, как на одном из концертов Нейгауза, когда Борис Леонидович уже ухаживал за Зинаидой Николаевной, я увидел их в комнате перед артистической в Консерватории. Зинаида Николаевна сидела, подняв лицо к Пастернаку, а он, наклонившись к ней, что-то говорил. Я никогда не забуду этого поворота головы, ее профиля. Так она была прекрасна» (Зинаида Пастернак, с. 7).
Пастернака в Зинаиде Нейгауз восхитила еще и внутренняя устойчивость. Образцовый дом, где были идеальные условия для творчества мужа, и ухоженные дети – ее творение.
«Роль красавицы была чужда Зинаиде Николаевне, – совершенно по-пастернаковски пишет Маэль Фейнберг и выделяет главную ее черту. – (…) Она видела свое назначение в том, чтобы сначала Нейгаузу, а потом Пастернаку создать такой дом, в котором они могли бы работать, и оберегать эту работу. И все сделать для этого. Пастернак необычайно ценил это ее умение наладить и поддерживать обыкновенную повседневную жизнь. Ее „грубая и жаркая работа“ была ему близка» (Зинаида Пастернак, с. 7—8).
Глубокую привязанность и уважение к Зинаиде Николаевне Пастернак сохранил до конца дней, но ее «недостаточность» стала ему очевидна довольно быстро. Жена служила ему верой и правдой, но его творчеством интересовалась мало. Вообще, «простота» Зинаиды Николаевны большинство знакомых сбивала с толку. Знакомых, но не самого Пастернака, который знал что говорил в письме к жене (1941): «Творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом».
Огород тут упомянут не случайно. Пожалуй, из всего своего окружения садовник Борис Леонидович единственный понимал, за какой конец берут лопату. Через много лет после его смерти, когда стали организовывать пастернаковский музей в Переделкино и наняли трактор для вспашки дачного участка, кто-то из соседей, подойдя к забору, осуждающе напомнил: «Какой трактор! Борис Леонидович сам своей огород за три дня вскапывал».
Трудолюбивый, он ив жене ценил здравый смысл, находчивость, выдающиеся организаторские способности, независимость, смелость – и восхищался всем этим как своего рода нравственным достоинством:
«Страстное трудолюбие моей жены, ее горячая ловкость во всем, в стирке, варке, уборке, воспитании детей создали домашний уют, сад, образ жизни и распорядок дня, необходимые для работы тишину и покой» (письмо Ренате Швейцер, 7 мая 1958).
Те же черты и в героинях «Живаго» – Тоне и Ларе:
«Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени».
Как это часто бывает, Пастернак наслаждался в других тем, к чему и сам имел склонность. Эту поэтизацию быта отмечала в нем Зинаида Николаевна:
«Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией. Он рассказал, что обожает топить печки. На Волхонке у него нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому что любит дрова и огонь и находит это красивым.
Тогда я думала, что он мне подыгрывает, но в последующей жизни я убедилась, что это черта его натуры. Он любил, например, запах чистого белья и иногда снимал его с веревки сам. Такие занятия прекрасно сочетались у него с вдохновением и творчеством. Ежедневный быт – реальность, и поэзия тоже реальность, – говорил он, – и я не представляю, чтобы поэзия была надуманной» (Зинаида Пастернак, с. 264).
Их связывала еще и любовь к музыке. В 17 лет она настолько увлеклась исполнительством и проявила такие незаурядные способности, что собиралась посвятить себя этой профессии полностью. И ради поступления в киевскую Консерваторию, недолго думая, продала свои драгоценности, чтобы выбраться из Елизаветграда. В промерзшем Киеве времен Гражданской войны 19-летняя Зинаида бралась чинить консерваторскую печку, от которой отступились печники-профессионалы, чтобы Генрих Нейгауз мог через два дня выступить перед публикой за роялем без шубы и митенок.
Но художественные амбиции ей оказались чужды, она никогда не жалела, что не стала профессиональной пианисткой, хотя в молодости играла дома в четыре руки с самим Владимиром Горовицем. Ее истинным гением был организаторский дар. Что в семье, что в эвакуации: в Чистополе она ставила на ноги детский дом и огород, находила занятие разновозрастным детям. Потрясенная смертью сына Адика, она в Москве кинулась работать в послевоенном комитете по сиротам и выходила незнакомого уличного мальчишку. Не случайно после войны ей вручили медаль «За трудовую доблесть»: ее героическое поведение можно поставить в пример любым рассуждениям о самоотверженности.
Пастернак зависел от определенного типа женщин: именно страх разрушить какую-то фундаментальную опору жизни толкнул его от Евгении Лурье и к Зинаиде Нейгауз, и к признанию порядков в стране. Жена-опора была для него опорой-властью, налаженный быт становился моделью государства.
На Зинаиде Николаевне интеллигенция впоследствии ставила клеймо за фразу «Мои мальчики больше всего любят товарища Сталина, а потом свою маму». О ней в ахматовском кругу говорили, глумясь. В ответ она платила тем же: «Боря человек современный, насквозь советский», а Ахматова «нафталином пропахла».
Но сам Пастернак был с женою схож в своем отношении к Сталину: его принадлежность в 30-е годы к советскому писательскому истеблишменту не находилась в большом противоречии с тем, что сказала о вожде Зинаида Николаевна. «Горячо любящий и преданный» – подписывал он свое письмо вождю. Умение жены жить наперекор обстоятельствам, создавать спасительную капсулу существования – вопреки советской власти и сталинизму – Пастернак учуял и сделал свой выбор.
Как самка, отшвырнула она от своего дома всех, кто грозил опасностью, «люто, – по словам Ахматовой, – ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее „лояльного мужа“». И если в Пастернаке что-то и протестовало против строя, он из-за Зинаиды Николаевны (или благодаря ей) подавлял это в себе. В начале 30-х он не хотел быть другим.
Отношение Пастернака к жене было двойственным. Она в его жизни возникла совершенно не случайно, хотя он от нее на словах неоднократно и открещивался, говорил, что их союз был ошибкой. «Бурей в парикмахерской» назвал он ее характер в разговоре с Ахматовой. Это было не просто полуправдой, этими словами он продал Зинаиду Николаевну, потрафив Ахматовой. Какой-то части его натуры жена действительно не отвечала, но другой части была необходима абсолютно.
Маэль Фейнберг так характеризовала ее:
«Она была очень сдержанным человеком, раскрывавшимся только с самыми близкими ей людьми и потому на многих производила впечатление человека сурового и неприветливого» (Зинаида Пастернак, с. 6).
Зинаиду Николаевну Пастернак оценил как женщину очага, с ее первобытными женскими инстинктами.
Что значил для него быт, хорошо понимала и Ольга Ивинская:
«Главным источником его творческого вдохновения (…) была повседневность. О чем бы ни писал Пастернак – о любви, о природе, о социальных потрясениях – везде у него высокое искусство рождается в столкновении поэтической отвлеченности с домашним бытом и уличной повседневностью».
«Б. Л., – говорит Ивинская, – относился к удобствам быта совсем не так, как Цветаева. Не сибарит он был и не барин, но некий минимум бытовых удобств, какой-то порядок и покой, письменный стол и кабинет ему были „необходимы“. Не для себя, не для тела, не для жира – для поэзии; его поэзии нужен был свой распорядок жизни. Можно было бы (как делают некоторые) считать это эгоцентризмом. Думаю, что скорее здесь – инстинктивное стремление уберечь от гибели свою музу, иметь возможность работать. И вот если „так“ понимать отношение Б. Л. к быту – многое проясняется и в его отношениях к близким ему женщинам. (По крайней мере, в последнее двадцатилетие его жизни.)» (Ивинская, с. 184—185).
В отношении Зинаиды Николаевны ярко проявилась очень характерная для русской литературной среды ХХ века традиция презрения к негуманитарным людям. Мало кто в русских писательско-филологических кругах вызывает такую острую брезгливость, как люди, встающие в шесть утра, и вообще – работающие спиной и ногами. Однако топтание Зинаиды Николаевны как определенная интеллигентская установка – это полдела. Важна и вторая половина: гогоча над ее «трудолюбием» и «бытовой ловкостью», интеллигенция расписывалась в полном непонимании самого Пастернака, который как раз обожал физический труд. И Зинаида Николаевна – хозяйка дома и хранительница очага – ему нужна была в той же степени, в какой Ивинская – нужна как любовница. Пастернак не мог без обеих, и никакого противоречия здесь не было.
Еще одна характерная интеллигентская установка проявилась в этой истории – узость представления о творчестве.
«Зина – дракон на восьми лапах, – говорила Ахматова, – грубая, плоская, воплощенное антиискусство; сойдясь с ней, Борис перестал писать стихи, но она, по крайней мере, сыновей вырастила и вообще женщина порядочная».
Возможно, что и антиискусство, но не антитворчество: активность, бесстрашие и сила характера – творческие качества. Зинаида Николаевна – человек больших поступков. Редкий в России тип.
Прожить до конца свою жизнь со «скупой» (слово Ахматовой) Пастернаку помогала его суть человека с привычками, с расписанием. Мандельштаму он говорил: вы человек счастливый, вам нужна свобода, а мне – несвобода. В домашней тюрьме Пастернак был счастлив. В интимной надписи он сказал об этом тихо и веско: «12 янв. 1948 г. Зине, моей единственной. Когда я умру, не верь никому: Только ты была моей полною, до конца дожитой, до конца доведенною жизнью».
Почти никто не был способен это понять. Характерно недоумение Анны Ахматовой, переданное в записи Лидии Чуковской (сентябрь 1956-го):
«…Анна Андреевна рассказала нам о блестящем светском собрании на даче: до обеда Рихтер, после обеда – Юдина, потом читал стихи хозяин.
– Недурно, – сказала я.
– А я там очень устала, – ответила Анна Андреевна. – Мне там было неприятно, тяжко. Устала от непонятности его отношений с женою: «мамочка, мамочка». Если бы эти нежности с Зиной означали разрыв с той, воровкой… так ведь нет же! и ничего не понять…»
Ничего не понять потому, что ни в одной из женщин Пастернак не нашел всего, что ему было нужно. Полноту принесли лишь обе. Так же, как в самом себе Борис Леонидович не находил достаточной полноты для образа главного героя: Живаго давал возможность не только покаяния, но и переписывания, исправления собственной истории.
Никто уже не оспаривает сейчас, что Лара несет в себе одновременно черты разных женщин. Внешне напоминая Ивинскую, она во многом копирует черты Еремеевой: и домовитость, способность шить, драить, крахмалить и той же водой мыть полы – это все несомненная Зинаида Николаевна. Даже совращение в юности двоюродным братом переходит к Ларе от пастернаковской жены. И фамилия у Лары – Гишар: не потому ли, что жена была на четверть итальянкой? Интересно, неужели Пастернак не подозревал, что почти каждая в мире женщина способна рассказать о себе такую историю, от которой разорвется мужское сердце?
Вот и в Ольге Всеволодовне обнаруживаются и польская кровь, и немецкая – и опять образ двоится.
Но постепенно, с появлением в его жизни Ивинской, часть Лариных черт плавно переходит к Тоне, высвобождая новую Лару для других свойств. Тоня последовательно задвигается, – возможно, по фонетическим законам: Тоня – имя тяжелое, Лара – романтическое.
Так что, оставаясь одной из героинь пастернаковской жизненной драмы, Зинаиды Николаевны на сцене видна не было. Она сама отвела себе место – за кулисами. И в воспоминаниях откровенно писала, что упустила Пастернака:
«У меня было чувство вины, и до сих пор я считаю, что я во всем виновата. Моя общественная деятельность в Чистополе и Москве затянула меня с головой, я забросила Борю, он почти всегда был один, и еще одно интимное обстоятельство, которое я не могу обойти, сыграло свою роль. Дело в том, что после потрясшей меня смерти Адика мне казались близкие отношения кощунственными, и я не всегда могла выполнять обязанности жены. Я стала быстро стариться и, если можно так выразиться, сдавала свои позиции жены и хозяйки» (Зинаида Пастернак, с. 340).
К этому необходимо добавить и ее драматическое непонимание пастернаковской эволюции – прочь от былых литературных связей, прочь от советской власти. И Зинаиду Николаевну, уже не слышавшую Пастернака, не испытывавшую к нему духовного интереса, стала успешно заменять молодая женщина, внимавшая ему и ловившая каждое его душевное движение. Борис Леонидович почувствовал самое, вероятно, ценное в Ольге Ивинской – ее способность к сотворчеству.
Действующие лица: Ольга Ивинская
Ивинская – не только подруга Пастернака, это его тема.
Борис Парамонов
Вымечтав и выстроив свою книгу, Пастернак и сердце свое распахнул для нового и сильного чувства. У женщины есть любовь, – говорит Виктор Шкловский, – поэтому у нее есть любовник. У Пастернака был вдохновенный замысел, идея Лары, для которой Зинаиды Николаевны уже не хватало. Он искал женщину под готовый вымысел.
И она появилась – как раз в то время, когда брачные отношения с Зинаидой Николаевной были в давнем и безнадежном тупике.
«Итак, в октябрьский переменчивый день (1946 года – Ив. Т.) в темнокрасной комнате, на ковровой дорожке появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально», —
вспоминала историю знакомства с Борисом Леонидовичем редактор «Нового мира», заведующая отделом начинающих авторов (как она сама себя характеризовала) Ольга Всеволодовна Ивинская (Ивинская, с. 17). Правда, ни такого отдела, ни, соответственно, заведующей у журнала не было: Ивинская была литсотрудником на самотеке, то есть читала рукописи, приносимые с улицы. 34-летняя красивая блондинка немедленно покорила сердце 56-летнего Пастернака.
Ко времени знакомства с Пастернаком она то ли дважды, то ли трижды была замужем. В конце 30-х годов у нее родилась дочь Ирина, отцом которой, по Ирининым словам, «считается» Иван Васильевич Емельянов —
«высокий человек с тяжелым, мрачным, но красивым лицом, с атлетической фигурой участника первых физкультурных парадов (…) Он был вторым (или третьим?) маминым мужем (…) Глядя на его лицо, трудно поверить, что он простой крестьянин из-под Ачинска, что его мать, старуха в черном платке, – неграмотная деревенская баба. В этой семье чувствуется порода и красота. По комсомольскому призыву Ваня Емельянов из далекой Сибири приезжает в Москву, здесь он кончает рабфак, потом – университет, становится директором школы рабочей молодежи» (Емельянова, с. 15).
Ивинская проучилась один год на биофаке, перешла на Высшие литературные курсы, ставшие позднее Редакционно-издательским институтом, влившимся в Московский университет, который она и закончила.
Перед самой войной они с Емельяновым поселились в жилом доме Министерства обороны.
«Как опустел он за эти годы, – пишет Ирина Емельянова, – и только „воронье“ (чекисты) копалось на пепелищах разгромленных квартир. А одновременно – сорвавшиеся с цепи советские администраторы устраивают валтасаровы попойки, „моральные устои“ трещат по швам, в месткомах смакуются дела по „разложению“. Емельянов был явно человеком другого склада – верным семьянином, тяжелым и требовательным мужем. Конечно, – делает Ирина странный, но характерный вывод, – матери было трудно жить с ним. Вспыхивали и гасли мимолетные романы» (там же, с. 16).
Когда Ивинская объявила Емельянову, что уходит от него, он повесился. Дочь пишет:
«На похоронах товарищи по партии проклинали мать: „Ваня, Ваня, из-за бабы, из-за…“»
Утрату Ивинская пережила легко, как стакан воды выпила. Ирина пишет:
«Как ни горевала бедная мама, считая себя виновницей гибели несчастного Вани, ей не пришлось долго носить траур. Справлялись поминки, где проклинали ее его друзья, а у подъезда дома ее уже ждал человек в кожаном пальто, вполне и со вкусом вписавшийся в новый советский быт. Это Александр Виноградов, отец моего брата Мити» (там же).
Новый муж умиротворения в семью не принес. По его доносу мать Ивинской арестовали за то, что та дома обругала фильм «Ленин в Октябре». Адвокат матери (крайне непривычная для политических дел сталинского времени фигура) по секрету сообщил Ивинской (между ними тоже вспыхивает молниеносный роман), что видел в деле виноградовский донос на тещу. Адвоката в последний момент отстраняют от дела, но «суд не откладывается, – рассказывает Емельянова, – Виноградов берется быть общественным защитником и защищает бабушку блестяще. Ей дают всего лишь шесть лет лагерей!» Виноградов же вскоре умирает от воспаления легких.
Редакция «Нового мира», осень 1946 года. Ивинская вспоминает:
«И вот он возле моего столика у окна – тот самый щедрый человек на свете, которому было дано право говорить от имени облаков, звезд и ветра, нашедший такие вечные слова о мужской страсти и женской слабости. Что за счастье участвовать в удивительных взлетах и падениях, от звездных садов до пищевода, по которому текут эти звезды, проглоченные соловьями всех любовных ночей!
Такое о нем уже говорили: приглашает звезды к столу, мир – на коврик возле кровати.
Мне нужды нет, что тогда говорили! Я это заново для себя говорю, рассказывая самой себе. Какое же счастье, ужас и сумятицу принес мне этот человек… » (Ивинская, с. 18).
Это был пылкий и вдохновенный роман двоих, уверовавших в молодость своих чувств и в свою незаменимость для другого. Пастернак смущенно говорил: «Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы». Ивинская: «Я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога».
Он дарил ей свои старые сборники и новые стихи, брал ее с собою на чтение только что написанных глав, без конца звонил по телефону – а поскольку у Ивинской телефонного аппарата не было (забытые обстоятельства советского времени!), то приходилось набирать нижнюю соседку, та стучала ножом по трубе отопления, и «я сломя голову опять мчалась вниз к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед».
Они были совершенно счастливы.
У Ивинской был несомненный литературный талант, и поэзию она любила совершенно искренне, так что книга ее воспоминаний о последних четырнадцати годах пастернаковской жизни «В плену времени» получилась (при многочисленных ошибках памяти) одной из самых жарких и приключенческих в русской мемуаристике.
Но репутация…
Ирина Емельянова поставила себе задачей отстоять честь матери от «клеветы» мемуаристов и в двух книгах – «Легенды Потаповского переулка» (1997) и «Пастернак и Ивинская»
(2006) , а теперь и в третьей, «Годы с Пастернаком и без него»
(2007) – выступила в ее защиту. С задачей Емельянова не справилась, и если бы «клевете» она противопоставила только рассказ о любви матери и «классюши» (как они семейно называли Бориса Леонидовича), это оставалось бы милой слабостью «Легенд Потаповского переулка» – книги во многом обаятельной, хоть и не полной.
Беда в том, что вовсе не в любви сомневались «клеветники». По большей части повторив свою же первую книгу, Емельянова во второй добавила несколько страниц и отдельных мест, посвященных борьбе за материнскую честь. Но борьба получилась конспективной и поспешной, изложенной как-то вполоборота, скороговоркой.
Нам не было бы решительно никакого дела до репутации Ольги Всеволодовны, если бы всё, связанное с нею, не волновало самого Пастернака, если бы разговоры о ней не определяли многих поступков – в том числе, семейной драмы Бориса Леонидовича. Если бы, мучаясь от всего этого, он сам не старался придать общественному лицу Ивинской совершенно определенное, оправдательное выражение, и если бы, наконец, раздвоенность чувств, художественно преодоленная автором, не стала содержанием «Доктора Живаго».
В первые месяцы романа с Ивинской окружающие воспринимали пастернаковскую спутницу вполне благосклонно, что для злых языков литературного сообщества было хорошим знаком. Лидия Чуковская, например, дарила ей свою фотографию с надписью: «Оленьке, самой счастливой женщине на свете», Анна Ахматова надписывала ранние сборники своих стихов.
Но, рассказывает Ирина Емельянова,
«слухи, сплетни, волны неприязни и зависти росли вокруг мамы как снежный ком. (…) Л. К. Чуковская (…) начинает ее ненавидеть, рассказывая о ней Ахматовой всякие небылицы. Кланы писательских жен объявляют ее авантюристкой, соблазнившей престарелого поэта» (Пастернак и Ивинская, с. 65).
С чего бы это вдруг? Ни одна в мире сплетня, ни одно прозвище, ни один шлейф не увиваются за человеком на пустом месте. Расскажи Емельянова сама, как было дело, и клеветники были бы посрамлены. Вот некоторые из «небылиц» Лидии Чуковской, изложенные в ее «Записках об Анне Ахматовой»:
«Меня потрясла степень человеческой низости и собственная своя, не по возрасту, доверчивость. К тому времени, как я доверила Ивинской деньги, вещи, книги и тем самым – в некоторой степени и чужую судьбу, я уже имела полную возможность изучить суть и основные черты этой женщины. (Мы работали вместе в отделе поэзии в редакции симоновского „Нового мира“.) Началось с дружбы. Кончилось – еще до ее ареста – полным отдалением с моей стороны. Ивинская, как я убедилась, не лишена доброты, но распущенность, совершенная безответственность, непривычка ни к какому труду и алчность, рождавшая ложь, – постепенно отвратили меня от нее» (Чуковская, т. 2, с. 658).
Такие обвинения, безусловно, требуют доказательства. И Чуковская их приводит.
«Там, в лагере (Ивинскую арестовали в 1949. – Ив. Т.), она познакомилась и подружилась с моим большим другом, писательницей Надеждой Августиновной Надеждиной (1905—1992). Воротившись, Ивинская ежемесячно, в течение двух с половиной лет брала у меня деньги на посылки Надежде Августиновне (иногда и продукты, и белье, и книги, собираемые общими друзьями). Рассказала я Анне Андреевне (Ахматовой. – Ив. Т.) и о том, как сделалось мне ясно, что Н. А. Надеждина не получила от меня за два с половиной года ни единой посылки: все присваивала из месяца в месяц Ольга Ивинская. В ответ на мои расспросы о посылках, она каждый раз подробно докладывала, какой и где раздобыла ящичек для вещей и продуктов, какую послала колбасу, какие чулки; длинная ли была очередь в почтовом отделении и т. д. Мои расспросы были конкретны. Ее ответы – тоже. Через некоторое время я заподозрила неладное: лагерникам переписка с родными – и даже не только с родными – тогда уже была дозволена, посылки издавна разрешены, а в письмах к матери и тетушке Надежда Августиновна ни разу не упомянула ни о чулках, ни о колбасе, ни о теплом белье. Между тем, когда одна наша общая приятельница послала ей в лагерь ящичек с яблоками, она не замедлила написать матери: "Поблагодари того неизвестного друга, который… "
Я сказала Ивинской, что буду отправлять посылки сама. Она это заявление отвергла, жалея мое больное сердце, и настаивала на собственных заботах. Тогда я спросила, хранит ли она почтовые квитанции. «Конечно! – ответила она, – в специальной вазочке», – но от того, чтобы, вынув их из вазочки, вместе со мною пойти на почту или в прокуратуру и предъявить их, изо дня в день под разными предлогами уклонялась. (Вазочка существовала, квитанции нет, потому что и отправлений не было.)
Н. А. Адольф-Надеждина вернулась в Москву в апреле 1956 года. (…) Мои подозрения подтвердились: ни единой из наших посылок она не получила. Надежда Августиновна сообщила мне: в лагере Ивинская снискала среди заключенных особые симпатии, показывая товаркам фотографии своих детей (сына и дочери, которые были уже довольно большие к началу знакомства ее с Борисом Леонидовичем) и уверяя, будто это «дети Пастернака». Правда, симпатии к ней разделяли далеко не все: так, Н. И. Гаген-Торн (1900—1986) и Е. А. Боронина (1908– 1955), вернувшиеся из той же Потьмы, отзывались об Ивинской, в разговорах со мной, с недоумением. По их словам, начальство явно благоволило к ней и оказывало ей всякие поблажки.
Свой первый арест и пребывание в лагере Ивинская объясняла тем, что она – жена гонимого поэта. Для меня эта версия звучала в новинку: накануне ареста 1949 года она рассказывала мне, что ее чуть не ежедневно тягают на допросы в милицию по делу заместителя главного редактора журнала «Огонек», некоего Осипова, с которым она была близка многие годы. Осипов, объясняла мне тогда Ольга, присвоил казенные деньги, попал под суд, и во время следствия выяснилось, что в махинациях с фальшивыми доверенностями принимала участие и она. (За истинность ее объяснения я, разумеется, не отвечаю, но рассказывала она – так.)» (там же, с. 658—659). Прервем рассказ Лидии Чуковской для еще одного свидетельства, до сих пор в печати не появлявшегося. Как расска зывала москвичка Лидия Николаевна Радлова (дочь известного художника), Ольга Ивинская в конце 40-х годов разыскивала в литературных кругах людей, которые соглашались оформлять на свое имя написание статей и внутренних рецензий для «Огонька». Рецензии эти, на самом деле, писали осиповские друзья, а деньги выписывались на подставных лиц, которые отдавали Осипову часть гонорара, а часть оставляли себе. Поиском подходящих «рецензентов» и занималась Ольга Всеволодовна. Ей не удалось склонить к сотрудничеству Л. Н. Радлову и ее мужа, но некоторые литераторы (один из них – впоследствии видный историк-эмигрант, другой – популярный советский пушкинист) получили лагерные сроки.
Лидия Чуковская продолжает:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































