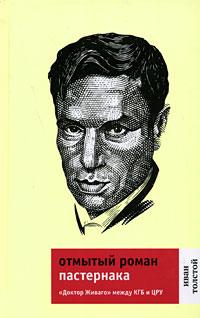
Автор книги: Иван Толстой
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
ГЛАВА ВТОРАЯ
Первые читатели
Понять поведение Пастернака в нобелевской истории помогает его упорство в отстаивании своей художественной правоты. Борис Леонидович от многих слышал, что «Доктор Живаго» – роман какой-то неправильный, но под эту неправильность он подводил специальную философию, зревшую в нем еще задолго до «Живаго». В письме к шекспироведу Михаилу Морозову (1942), посылая свой перевод «Гамлета», Пастернак, в ответ на морозовские замечания, писал:
«Каждый раз забываешь, что вовсе не должны Вы быть правы или не правы, чтобы все же заслуживать благодарности, как не в правильности или неправильности сила живого, из самого существа дела вырывающегося выраженья. Раз Вы возражаете и рассуждаете, значит, торжество протоплазмы неполное, обладанье обрывается слишком быстро, сирены поют неважно. А какая может быть правильность на высотах, куда мы с Вами взбираемся?» (ЕБП. Биография, с. 621—622).
Несоответствие книги читательским ожиданиям было понятно самому автору, и он всякий раз упреждал возможное разочарование. «Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он – удачен» (письмо Вяч. Вс. Иванову), «Тебе тяжело будет читать (с целью более рельефного и разительного выделения сущности христианства) до шаржа доведенные упрощенные формулировки античности» (Ольге Фрейденберг) – такими высказываниями полны пастернаковские письма.
Но уверенность в том, что книга его имеет право на отход от всех привычных требований, на свои особенные литературные законы, давала ему силы сносить любую критику друзей и недругов. «Мое поприще», – говорил он о себе безо всякой улыбки, осознавая свою работу в высоких, торжественных понятиях. В письме Ольге Александровой прямо признавал за собой открытие истины:
«Если Вам покажется, что рукопись выставляет какие-то догматы, что-то ограничивает и к чему-то склоняет, – значит, вещь написана очень дурно. Все истинное должно отпускать на волю, освобождать».
Книги, переведенные Пастернаком в эти годы исключительно для заработка («Макбет» Шекспира, цикл стихов Бараташвили, лирика Петефи, «Фауст» Гёте), приносили не только материальный достаток (гонорары – так называемые «постановочные» – от регулярно шедших шекспировских пьес позволили семье продержаться несколько лет, особенно те месяцы, когда имя Пастернака после «Живаго» оказалось под полным запретом), но и в психологическом плане поддерживали самим свои величием и грандиозной судьбой. Трудно было удержаться и не сопоставить работу классиков, их верность своим замыслам и его собственный полутайный труд – «Живаго», – в издательский успех которого Пастернак верил все меньше. «Опыт русского Фауста» – один из вариантов заглавия романа – прекрасно передает уровень авторских притязаний. Он находил величественные и вместе с тем простые слова, говоря о преданности своему труду, задолго до окончания книги подыскивая для нее определение, ища ей место в своем творчестве и в истории литературы:
«Я, так же, как Маяковский и Есенин, начал свое поприще в период распада формы, – распада, продолжающегося с блоковских времен. (…) Я совершенно не знаю, что мой роман представит собой объективно, но для меня в рамках моей собственной жизни это сильный рывок вперед – в плане мысли. В стилистическом же плане это желание создать роман, который не был бы всего лишь описательным, который давал бы чувства, диалоги и людей в драматическом воплощении. Это проза моего времени, нашего времени и очень моя» (Стенографическая запись на вечере чтения у Петра Кузько, апрель 1947. Е. Пастернак. Биография, с.).
Большинство читателей и слушателей соглашались только с последним пастернаковским определением – «очень моя». Многие писали и говорили автору о своих отрицательных впечатлениях. Всеволод Иванов отмечал «неотделанность манеры и разностильность», Ахматова несколько раз слушала главы романа в авторском чтении. Книга ей не нравилась. Евгений Пастернак, сын поэта, объясняет это тем, что якобы «круг московской интеллигенции начала века был совершенно далек и незнаком ей», как будто для понимания чего бы то ни было Ахматовой нужна была только близкая петербургская среда.
Весной 1948 она слушала новые страницы. Пастернак сам сказал Александру Гладкову: «Я так ее уморил, что у нее чуть не начался приступ грудной жабы» (Гладков, с. 437). Инфаркт – не от восторга, а от отвращения – был бы редким в истории литературы случаем.
В 1957 году Ахматова прочитала роман целиком и говорила Лидии Чуковской:
«Встречаются страницы совершенно непрофессиональные. Полагаю, их писала Ольга. Не смейтесь. Я говорю серьезно. У меня, как вы знаете, Лидия Корнеевна, никогда не было никаких редакторских поползновений, но тут мне хотелось схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест-накрест. И в этом же романе есть пейзажи… я ответственно утверждаю, равных им в русской литературе нет. Ни у Тургенева, ни у Толстого, ни у кого. Они гениальны, как „рос орешник“» (Чуковская, т. 2, с. 271).
Пастернак готов был читать свое произведение чуть ли не на любом его этапе. Звал, например, своего соседа по даче Константина Федина (сыгравшего потом злую и отвратительную роль):
«Костя, я сейчас Зине и Асмусам буду читать 1-ю главу. Она еще скомканная и с недоделанным картонным концом, так что мне стыдно уговаривать тебя ее слушать» (ЕБП. Биография, с. 610).
Стыдно, но – звал.
Давал читать отдельные главы и подборки глав, рассылал невычитанные, непросмотренные и «неотлежавшиеся» страницы, оповещал о своей работе всех, кого только можно. «За осень 1949 года, – сообщает Евгений Пастернак, – было сделано три перепечатки, каждая по три-четыре экземпляра через копирку». Один экземпляр был отослан сестрам в Англию с просьбой дать прочесть профессору Баура и критику Стефену Шиманскому.
Читательские претензии к «Живаго» поневоле обобщил в книге своих воспоминаний драматург Александр Гладков, автор пьесы «Давным-давно», знавший Пастернака на протяжении многих лет – и до войны, и во время, и после, – с перерывами на разлуку, в том числе на свой шестилетний лагерный срок. Гладковские воспоминания – теплые, мудрые и настолько взвешенные, насколько это вообще возможно. Характерно, что с ними практически не спорят ни противники, ни заступники «Живаго».
«Говоря кратко, – писал он, – роман меня разочаровал. Не поверив себе, я, перевернув последнюю страницу, стал снова читать его с самого начала (…) Знакомство с романом было для меня драматичным – и потому, что я очень любил Б. Л. как человека и художника, и еще потому, что мне не хотелось увеличивать ряды тех, кто бранил роман, не задумавшись над ним глубоко (а часто и вовсе не прочитав его).
(…) В «Докторе Живаго» есть удивительные страницы, но насколько их было бы больше, если бы автор не тужился сочинить именно роман, а написал бы широко и свободно о себе, своем времени и своей жизни. Все, что в книге от романа, слабо: люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев-интеллигентов – или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированных под диалог, или неискусная подделка. Все «народные» сцены по языку почти фальшивы: этого Б. Л. не слышит (эпизоды в вагоне, у партизан и др.). Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, натянуты, отдают сочиненностью или подражанием. Заметно влияние Достоевского, но у Достоевского его диалоги-споры – это серьезные идейные диспуты с диалектическим равенством спорящих сторон (как это превосходно показал в своей книге Бахтин), а в «Докторе Живаго» все действующие лица – это маленькие Пастернаки, только одни более густо, другие пожиже замешенные. Широкой и многосторонней картины времени нет, хотя она просится в произведения эпического рода. Это моралистическая (даже не философская) притча с иллюстрациями романтического и описательного характера. Все, что говорится о природе, прекрасно. И об искусстве. И о процессе сочинения стихов (без этих страниц в будущем не обойдется ни один исследователь поэзии Пастернака). И многие попутные мысли и рассуждения (…) И отдельные психологические этюды, разбросанные там и тут по ходу действия. И, конечно, стихи. И еще кое-что. Но великого романа нет. (…) Автор не раз говорит от себя и в речах героев о прелести «повседневности» и «быта», но как раз этого-то почти нет в романе: бытовые подробности приблизительны, вторичны, а часто не точны (и прежде всего условны), как в слабой пьесе, лишенной воздуха и деталей. Есть непонятное внутреннее противоречие. Вначале автор голосом одного из героев говорит, что человек «живет не столько в природе, сколько в истории». Мысль верная, но вся концепция романа насквозь антиисторична даже в пастернаковском понимании истории как «разгадки смерти и ее преодоления». Странная конспективность, а местами неоправданная беглость рассказа выдает неопытность руки немастера или, вернее, мастера иной формы» (Гладков, с. 450—451).
Размышления Гладкова о романе настолько проницательны, что хочется выписывать их целиком. Вот еще, последняя цитата:
«Все национально-русское в романе как-то искусственно сгущено и почти стилизовано. Иногда мне казалось, что я читаю переводную книгу (особенно в романических местах) – такая уж это литературно-традиционная Россия. Так пишут и говорят о России, кто знает ее не саму по себе, а по Достоевскому или позднему Бунину. Так и мы, наверное, часто пишем и говорим о загранице. Это почти условная и очень экзотическая Россия самоваров, религиозных праздников, рождественских елок, ночных бесконечных бесед: стилизованная эссенция России. Не потому ли так велик был успех этой книги за границей? (…) Ни одна из сторон русской жизни описанного времени не показана в ней верно и полно. Это в целом очень неуклюжее и антипластичное соединение иногда проницательных, часто тонких, субъективных наблюдений автора с грубо построенным макетом эпигонского романа в манере Достоевского» (там же, с. 452—453).
Многое из того, о чем пишет Александр Гладков, говорили Борису Леонидовичу первые слушатели и читатели книги. Но Пастернак замечал одни только хвалебные отклики.
Среди тех, кто приветствовал роман, – Эмма Герштейн, Сергей Дурылин, Николай Замошкин, Николай Любимов, Сергей Спасский, Ольга Фрейденберг, Варлам Шаламов, Мария Юдина.
Среди критиковавших книгу – Анна Ахматова, Всеволод Иванов, Борис Ливанов, Ариадна Эфрон.
Сам же Пастернак говорил, что пишет этот роман «о людях, которые могли быть представителями моей школы – если бы у меня такая была». То есть для идеальной аудитории – когда автор, бесконечно размножаясь, заполняет собою любые залы, согласно кивающие ему в ответ.
Но, в конце концов, критики его книги ничуть не противоречили автору, который настаивал на несовершенстве формы как особой новизне.
«Для поэзии, – вспоминал Андрей Синявский их встречу в конце 1957 года, – он не видел теперь больших перспектив. Но этот переход от стихов к прозе был для него не просто стилистической или собственно литературной закономерностью. В каком-то смысле это был для него выход за рамки литературы вообще и, главное, выход за сложившиеся стереотипы мышления. Как бы откидывая и свою, и всяческую поэзию в прошлое, он сказал, что сейчас вообще наступило время, может быть, „писать не руками, а ногами“. Он так в точности и выразился: „не руками, а ногами“. Пытаясь уточнить, я переспросил: – Жизнью? Писать жизнью? – Он неохотно согласился: – Да, жизнью. Ногами! Настало время писать не руками, а ногами!» (Синявский, с. 134—135).
Пастернак все больше уверялся в том, что его роман велик и гениален.
«У него испепеленный вид – после целодневной и многодневной работы. Он закончил вчерне роман – и видно, что роман довел его до изнеможения. Как долго сохранял Пастернак юношеский, студенческий вид, а теперь это седой старичок – как бы присыпанный пеплом. (…) Усталый, но творческое, духовное кипение во всем его облике», —
записывает 10 мая 1955 года в своем дневнике Корней Чуковский. И передает слова Пастернака: «Роман выходит банальный, плохой – да, да, – но надо же кончить».
Он всегда упреждал читательские отзывы и сам первым выпаливал недовольство своей книгой, оставляя собеседнику незавидную роль – настаивать на похвалах. Довольно тираническое кокетство.
Оттепель была в разгаре, новые надежды молодили кровь, Борис Леонидович признавался, что снова стало интересно ходить в гости, роман писался под горку.
Переделкинский сосед Корней Чуковский записывал в дневнике (20 октября 1953):
«Боря Пастернак кричал мне из-за забора (…): „Начинается новая эра, хотят издавать меня!“
В 1954 году в апрельской книжке «Знамени» появились десять стихотворений из «Доктора Живаго» – первые пастернаковские стихи в печати после 1945 года. Публикация сопровождалась авторским уведомлением:
«Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. Герой – Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа».
Осенью, по сообщению западных радиостанций, Пастернак опять стоял в списке кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. 4 ноября 1954 года Ольга Фрейденберг из Ленинграда писала ему:
«Дорогой Боря!
У нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию. Правда ли это? Иначе – откуда именно такой слух? Мой вопрос, возможно, очень глуп. Но как же его не задать?» (Фрейденберг, с. 324).
Пастернак ответил:
«Такие же слухи ходят и здесь. Я – последний, кого они достигают (…).
Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, – но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклою, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала».
Пастернак был здесь совершенно искренен, он не желал быть отмеченным за прошлые заслуги. Если уже Нобелевская – то только за роман, за новое, главное, за дело жизни. А пока – рано.
«Видимо, – продолжал он письмо к сестре, – предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали, так рассказывают.
Потом люди слышали по ВВС будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили ходатайства представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому премию, вероятно, и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не кончен. Но ведь это все болтовня, хотя и получившая большое распространение. Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем. Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течения часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни.
Есть Ангел-хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему».
В одном Пастернак ошибался: Нобелевский комитет ни о чем не запрашивал советских представителей, которые, в свою очередь, действительно навязывали шолоховскую кандидатуру.
Тем не менее, кузина переживает слух как знак возможного признания:
«Я рада за тебя. До сих пор я знала о заочном обученье, теперь узнала, что есть и заочное коронованье. Это лучший для тебя исход» (Фрейденберг, 17 ноября 1954).
Через год «Доктор Живаго» был закончен. Перечитав свежую машинопись, Пастернак остался книгой доволен – «нелитературным спокойствием слога, отсутствием блеска в самых важных, сильных и страшных местах».
«Вы не можете себе представить, – писал он Нине Табидзе 10 декабря 1955 года, – что при этом достигнуто! Найдены и даны имена всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумения и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз освеженно, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти».
В феврале 1956 Пастернак начал готовить книгу избранных стихотворений, предложенную ему Гослитиздатом. Составителем был назначен редактор Николай Банников, а техническим помощником стала Ивинская, отыскивавшая в старых журналах разбросанные пастернаковские публикации. Вместо вступления Пастернак специально для сборника написал автобиографический очерк «Люди и положения». Ни стихи, ни очерк в Советском Союзе при жизни Пастернака напечатаны не будут, этому помешает история с романом, но весной 1956 года предсказать это было еще трудно, и Борис Леонидович заканчивал автобиографию таким пояснением:
«…совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь и за который смело отвечаю – роман в прозе со стихотворными добавлениями „Доктор Живаго“. Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовительными ступенями к роману. Как на подготовку к нему я и смотрю на их переиздание».
Иностранцы в Переделкине
После ХХ съезда, закончившегося хрущевским разоблачительным докладом, в СССР потянулись заграничные делегации. Само присутствие иностранцев в еще недавно закрытой жизни поворачивало реальность под головокружительным углом. Пастернак оказался из первых, кто, ни с кем не советуясь, протянул европейцам руку и рукопись.
«Живаго» лежал уже и в «Новом мире», и в «Знамени», так что ни о каком подпольном деянии речи идти не могло, когда пресс-аташе польского посольства переводчик Земовит Федецкий, посетивший Пастернака весной в Переделкине, получил от него машинопись для публикации романа по-польски. Тогда же чешское издательство «Свет Советов» предложило выпустить двухтомник пастернаковских сочинений, но автор хотел даже по-чешски видеть не стихи, но только новый роман.
Всем остальным литературным наследием Пастернак начинает настойчиво пренебрегать, на всем прошлом ставит крест. Пока не решится судьба романа, он пробудиться не в силах. Усталостью и мизантропией дышит его эпиграмматический отклик на самоубийство соседа по Переделкину и некогда приятеля Александра Фадеева:
Культ личности забрызган грязью, Но на сороковом году Культ зла и культ однообразья Еще по-прежнему в ходу.
И каждый день приносит тупо, Так что и вправду невтерпеж, Фотографические группы Одних свиноподобных рож.
И культ злоречья и мещанства Еще по-прежнему в чести, Так что стреляются от пьянства, Не в силах этого снести.
Но вот наступает решающий день, поворотный в судьбе «Доктора Живаго» – 20 мая 1956 года, день, многократно описанный главным его героем, итальянским журналистом Серджо Д'Анджело. В сентябре 2007 года последняя редакция его воспоминаний вышла по-русски в Москве. Предоставим ему слово, давая в скобках авторские версии и уточнения из публикаций разных лет.
«Я жил уже два месяца в Советском Союзе, куда направила меня Коммунистическая партия Италии (я был активным членом КПИ), и работал в итальянской редакции Московского радио. В свободное время я уделял внимание авторам и книгам (был литературным агентом и „разведчиком талантов“), которые могли быть интересны молодому богатому издателю – миланцу Фельтринелли, коммунисту с амбициозными планами. Он поручил мне держать его в курсе всех интересных новинок советской литературы. (И вот как раз на прошлой неделе, мне довелось переводить выпуск новостей культуры, подготовленный в центральной редакции радио для всех редакций. Одно из сообщений звучало буквально так (привожу слово в слово, ибо переписал его тогда для Фельтринелли): „Скоро выйдет в свет „Доктор Живаго“ Бориса Пастернака. Речь идет о романе в форме дневника, который охватывает три четверти столетия и завершается Великой Отечественной войной“.) Сообщение о „Докторе Живаго“ не оставило, разумеется, меня равнодушным. Если бы мне удалось достать рукопись романа до его публикации в СССР, то Фельтринелли получал бы преимущество перед возможными конкурентами на Западе. (Я передал это главному редактору фельтринеллиевского издательства, тоже убежденному и правоверному коммунисту.) Недолго думая, я поехал (на электричке) в Переделкино. (В моей поездке не было ничего тайного. Напротив, я взял с собой в высшей степени уважаемого человека, который впоследствии сделал хорошую политическую карьеру в советской системе.)» (Д'Анджело, 1, 2).
Сопровождающим этим был Владлен Владимиров, коллега Д'Анджело по работе на радио.
«Был прекрасный майский день. (Далеко простирающиеся владения писательского поселка Переделкино утопают в нежной весенней зелени. Мы идем по сельской дороге вдоль редко стоящих дач и, миновав березовую рощицу, подходом к калитке. Пастернак, в куртке и штанах из грубого полотна, что-то делает в саду, кажется, подрезает растение. Заметив нас, он подходит с широкой улыбкой, распахивает калитку и протягивает руку для приветствия. Ладонь его крепко сжимает мою.) Мы сидели на открытом воздухе и долго беседовали. (Мы с Владленом были готовы без устали и дальше слушать его, если бы он в какой-то момент не замолк и, извинившись, не поинтересовался, какова цель моего визита.)» (там же).
Д'Анджело заговорил о предстоящем издании романа в Советском Союзе.
«(Писатель прерывает меня жестом руки. „В СССР, – говорит он мне, – роман не выйдет. Он не вписывается в рамки официальной культуры“).
Когда я подошел к цели моего визита, он крайне удивился. Такое впечатление, что ему никогда не приходило в голову иметь дело с иностранным издательством. В ходе дальнейшего разговора он был нерешительным и задумчивым. Я спросил его, отклоняло ли какое-то издательство его книгу или выносило неблагоприятный отзыв? Ничего подобного, как выяснилось, не было. Я дал понять, что публикация (в Италии) будет открыто объявлена заранее, что политический климат уже не тот и что для недоверия нет никаких оснований» (там же).
«(Мое упорство излишне. „Оставим в покое вопрос, выйдет или нет советское издание, – говорит мне Пастернак, – Я готов отдать Вам роман при условии, что Фельтринелли пообещает мне передать его, скажем, через несколько месяцев, крупным издателям других стран, прежде всего Англии и Франции. Что Вы об этом думаете? Можете связаться с Миланом?“)» (Дело Пастернака, с. 12—13).
Эти последние слова в ранних версиях мемуаров Д'Анджело не появлялись. Как-то неубедительно звучит рассказ о решимости писателя – при первой же встрече – обсуждать далеко идущие планы.
Д'Анджело продолжает:
«Пастернак минуту-другую слушает мои доводы, затем поднимается, просит позволения отойти на минутку, уходит в дом и возвращается с объемистым пакетом. Он протягивает его мне: „Это „Доктор Живаго“. Пусть он увидит мир“.
(…) Напоследок у калитки, когда уже были сказаны слова прощания, хозяин бросает нам с Владленом полный дружелюбной иронии взгляд и говорит: «Теперь Вы приглашены на мою казнь»» (там же).
Ивинская отмечала, что Пастернак ей этой последней фразы не пересказал. Выдумана ли она Д'Анджело? Осмелимся предположить, что выдумки нет, и Пастернак слова эти произнес: он прочел их совсем недавно, когда на несколько вечеров получал через знакомых запрещенное чтение – довоенный эмигрантский журнал «Современные Записки», где печаталось набоковское «Приглашение на казнь». То, что журнал у Пастернака был, подтверждается некоторыми устными воспоминаниями, но, впрочем, причастности Д'Анджело к додумыванию старого разговора через несколько лет или естественной аберрации памяти тоже отрицать нельзя.
Вот как вспоминала этот день Ольга Ивинская:
«Вернувшись из поездки по редакциям в Переделкино, я была огорошена: Боря вдруг объявил, что отдал роман. Я так и ахнула. Торопилась из Москвы и еще издали, увидев спешащего по шоссе мне навстречу Борю, обдумывала – какими словами его обрадую, что снова подтвердили намерение печатать роман главами, и вдруг: "А ко мне, Лелюша, сегодня приходили на дачу, как раз когда я работал, двое молодых людей. Один из них такой очень приятный юноша, стройный, молодой, милый… ты бы в восхищении от него была! И знаешь, у него такая фамилия экстравагантная – Серджо Данджело (написание Ивинской. – Ив. Т.). Понимаешь, этот самый Данджело пришел ко мне с человеком, который как будто представитель нашего советского посольства в Италии; фамилия его, кажется, Владимиров. Они сказали, что слышали сообщение Московского радио о моем романе, и Фельтринелли, один из крупнейших издателей Италии, заинтересовался им. А Данджело этот по совместительству работает эмиссарио (так у Ивинской. – Ив. Т.) у Фельтринелли. Конечно, это его частная нагрузка, – прибавил Боря, улыбаясь.
– Вообще-то он член компартии и официальный работник итальянского радиовещания у нас в Москве".
Б. Л. явно чувствовал, что совершил что-то не то, и побаивался, как буду реагировать я. По его даже несколько заискивающему тону я поняла: он и доволен, и не по себе ему, и очень хочется, чтобы я одобрила этот странный поступок. Но увидел он недоброжелательную для себя реакцию.
– Ну что ты наделал? – упрекнула его я, на заискивания не поддавшись. – Ты подумай, ведь сейчас на тебя начнут всех собак вешать. Ты вспомни – я уже сидела, и уже тогда, на Лубянке, меня без конца допрашивали о содержании романа! Кривицкий не случайно говорил, что журнал только главами подымет роман. Это потому, что они всё принять, конечно, не могут; просто они хотят избежать острых углов и напечатать то, что можно напечатать без боязни. Знаешь, какие они перестраховщики, я просто удивляюсь, как ты мог это сделать! И потом ты подумай – Банников первый будет возмущен, что ты, ни с кем не советуясь, отдал роман итальянцам – ведь это может сорвать работу над однотомником!
– Да что ты, Лелюша, раздуваешь, все это чепуха, – слабо оправдывался Б. Л. – Ну, почитают; я сказал, что я не против, если он им понравится – пожалуйста – пусть используют его как хотят!
– Ну, Боря, ведь это же разрешение печатать, как ты этого не понимаешь? Ведь они обязательно ухватятся за твое разрешение! Обязательно будет скандал, вот посмотришь!
Я совсем не хочу сказать, что была такая уж умная, но за моими плечами был печальный опыт лагеря, и знала я, из какой ерунды составилось мое первое дело: «близость к лицам, подозреваемым в шпионаже». Спасибо! – а этим лицом (в единственном числе) был Борис Леонидович, который ходил по Москве и которого они, очевидно, боялись трогать. Но как, я помню, интересовало следователя (а значит – не следователя, а выше – того человека, который ночью меня вызывал в свой кабинет на допрос), как его интересовало содержание еще не написанного романа: не будет ли он литературной оппозицией? Нашим разговором Боря был расстроен и обескуражен:
– Ну, Лелюша, делай как знаешь, конечно, ты можешь даже позвонить этому итальянцу и сказать, чтобы он вернул роман, раз тебя так волнует это. Но давай тогда хоть дурака сваляем, скажем – вот знаете, какой Пастернак, мол, вот отдал роман – как вы к этому относитесь? Даже будет интересно, если ты заранее прощупаешь почву, какой этому известию будет резонанс?
И все же – он уже начал свыкаться в эти дни с мыслью, что роман должен быть опубликован, пусть даже на Западе, если нельзя у нас.
Где-то в эти дни (конец мая – начало июня 1956 г. – Ив. Т.) Костя Богатырев рассказал мне о разговоре, свидетелем которого он явился. На «Большой даче», беседуя с итальянским славистом Э. Ло Гатто (автором монографий «История русской литературы» и "История русского театра»), Б. Л. уже говорил, что пойдет на любые неприятности, лишь бы его роман был опубликован. И лишь раздраженно отмахнулся, когда Зинаида Николаевна сказала: «Хватит с меня этих неприятностей»» (Ивинская, с. 215—217).
Через несколько дней Д'Анджело встретился с Фельтринелли в берлинском отеле и передал ему рукопись, которую, обратим внимание, Борис Леонидович не успел вычитать, настолько неожиданным было появление итальянского гостя. Сын Фельтринелли и его биограф Карло уверен, что отец
«… с самого начала отдает себе отчет в том, что дело может оказаться щекотливым. Поэтому он предпочитает лично принимать во всем участие, и когда Д'Анджело приезжает в Берлин, чтобы продлить визу, встречается с ним там. Это самый конец мая или начало июня. Они ужинают вдвоем в небольшом ресторанчике. Знакомятся с двумя блондинками из фирмы „Сименс“, танцуют с ними. Ни на секунду не спускают глаз с оставленного на столе пакета, обернутого в плащ. Внутри – рукопись на кириллице» (Карло, с. 105).
13 июня Фельтринелли отправил Пастернаку первое письмо. Карло отмечает, что написано оно было по-французски, на котором они в дальнейшем и переписывались. В фельтринеллиевском архиве сохранилось пожелание Пастернака, записанное на сигаретной пачке: «Если Вы когда-нибудь получите письмо, написанное на каком-либо другом языке, не французском, никак не реагируйте на изложенные в нем требования, действительны только те письма, которые написаны по-французски».
«Милан, 13 июня 1956
Дорогой господин Пастернак,
Мы благодарим Вас за предоставление нам Вашего романа «Доктор Живаго».
Первый простой просмотр показал с очевидностью высокие литературные достоинства Вашего произведения, рисующего живую картину советской действительности. Мы хотим еще раз выразить Вам признательность за то, что Вы доверили нашему издательству первую в Европе публикацию истории Доктора Живаго и заботу о его издании в других странах с уступкой авторских прав другим издателям (еще не заключив договора, не выяснив позиции автора, Фельтринелли уже навязывал Пастернаку его основные параметры, хотя Д'Анджело ни словом не обмолвился о мировых правах. – Ив. Т.). Мы предлагаем Вам свои условия, чтобы уладить вопросы авторского права, как для итальянского издания, так и для изданий на других языках» (Карло, с. 106).
Можно себе представить, как вскружилась голова Бориса Леонидовича от таких слов: итальянское издание! Другие языки! Уладить вопросы напрямую с издателем, минуя советскую волокиту! Вот он, цивилизованный мир, вот она, европейская культура, готовая принять его, напечатать, оценить! Воистину – поверх барьеров!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































