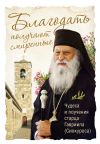Автор книги: Иван Захарьин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Если мы припомним, что «Час» был очень влиятельным органом в Польше, и что во главе его стояли всесильные люди, решавшие в то время судьбу восстания, то будет понятно, что сделала эта статья в смысле совершенной парализации благих намерений всепрощения, выраженных в манифесте русского правительства…
Наконец, в конце апреля были действительно представлены России первые ноты трех держав. Г-н Козьмян так характеризует эти ноты: «Французская нота, адресованная к князю[81]81
Луи Наполеон Огюст Ланн (1801–1874), посол Франции в России в 1858–1864 гг. носил титул герцога, а не князя. Титул герцога Монтебелло он унаследовал от своего отца – наполеоновского маршала Ж. Ланна.
[Закрыть] Монтебелло, французскому посланнику в Петербурге, подписанная Друэн-де-Люисом, отличалась умеренностью и серьезностью. Английская, написанная графом Росселем к английскому послу лорду Напиру, самая горячая из всех трех, основывавшаяся на венском трактате, сильно восставала против претензии России, считавшей польский вопрос чисто внутренним делом. Самой бледной из этих нот и в то же время самой важной была австрийская. Она написана была графом Рехбергом и адресована к графу Ревертеру, chargé d’affaires[82]82
Поверенный в делах (франц.). – Примеч. ред.
[Закрыть] в Петербурге. Нота исходила из того, что восстание принимает уже меньшие размеры после того, как уже разбиты все наиболее значительные отряды, и указывала на опасность для Галиции в случае продолжения восстания. Каждая из этих трех нот в отдельности налегала на то, чтобы русское правительство придумало средство, которое бы могло дать Польше условия незыблемого мира. Лицам, получившим эти ноты, было поручено прочитать их князю Горчакову, государственному канцлеру».
На эти предварительные ноты или, вернее, пробные шары[83]83
Мы находим небезынтересным упомянуть здесь со слов г-на Козьмяна еще об одной курьезной «ноте» – святейшего отца из Рима; папа, как оказывается, дважды вступался за поляков: в первый раз он обратился к императору Францу-Иосифу, прося его заступничества за поляков, а затем присоединился к манифестации Европы и самым горячим образом поддерживал первые ноты трех держав в особом своем письме к императору Александру II.
[Закрыть], князь Горчаков отвечал от себя г-ну Балабину, послу в Вене, барону Будбергу в Париже и барону Бруннову в Лондоне особыми письмами, в которых с большою осторожностью, не исключающей необходимости в дальнейших переговорах, обращал внимание кабинетов, при которых были аккредитованы эти господа, на то обстоятельство, что они сами – Англия, Франция и Австрия – могут способствовать успокоению Царства Польского, «так как надежда и вера в постороннюю помощь суть главные мотивы восстания».
В ответ на эти нерешительные депеши князя Горчакова, посланные 26 апреля, были отправлены в Петербург французская и английская ноты, а затем и австрийская. Они заключали в себе шесть пунктов, составленных Австрией и несколько измененных двумя другими кабинетами. Вот эти знаменитые пункты:
1) Полная и всеобщая амнистия.
2) Национальное представительство, принимающее участие в областном законодательстве.
3) Доступ поляков к публичным правительственным должностям, дающий возможность развиться особой народной администрации.
4) Совершенная и полная свобода совести и устранение ограничений в исполнении католических обрядов.
5) Употребление исключительно польского языка, как официального, в администрации, судопроизводстве и школах, и
6) Правильная и законная рекрутская система.
Кроме того, в этих нотах был намек на созвание международной конференции держав, подписавшихся на трактате 1815 года, а граф Россель прибавил пожелание, чтобы обе воюющие стороны сложили оружие…
Вот до какой неслыханной дерзости дошли непрошенные заступники Польши!.. «Князь Горчаков, как известно, дал на эти ноты один из самых надменных, смелых и дерзких ответов, какие только мы знаем, – говорит г-н Козьмян, – в истории международных отношений. Он приобрел своим ответом необыкновенную популярность среди своего народа, усилил ненависть его к польскому народу, лишил польский вопрос общеевропейского характера и превратил его перед глазами изумленного света в чисто русский вопрос, нанеся в то же время удар внешнему блеску Наполеона, а также и поколебав общее убеждение в непогрешимости его политики».
Вот как неудачно было вмешательство иноземной политики в наш «домашний, давний спор», окончившееся полнейшим фиаско!.. К сожалению, это бестактное дипломатическое вмешательство держав, по словам г-на Козьмяна, имело очень тяжкие последствия именно для тех, кому оно мнило помочь, то есть для самих поляков: «оно не только затянуло восстание со всеми сопряженными с ним действиями, но и вовлекло в него целые толпы благоразумных людей (пребывавших до того в выжидательном положении) и побудило “Краковское общество” поддерживать восстание в течение долгого времени. В то же время это вмешательство воспрепятствовало соглашению поляков с русским правительством и, задевая и оскорбляя самолюбие России, породило и развило глубокую ненависть (?) русского общества к польскому…»
Так говорит почтенный автор «Rzecz’и о roku 1863», забывающий, по-видимому, отличительную черту характера русского народа, его незлопамятность, исключающую всякую «ненависть» русского общества к польскому.
Не по вине добродушного и незлобивого русского народа польский вопрос стал роковым: как мы видим из книги того же г-на Козьмяна, немало находится виновников этой междоусобной вражды двух родственных славянских наций. Самое возбуждение в 1863 году вопроса об автономии Польши в силу провозглашенного перед тем Наполеоном III принципа национальностей, являлось чистейшим политическим абсурдом, так как в силу именно этого самого принципа Польша, как государство славянское, должна бы была слиться воедино с более крупным славянским же государством – Россией, а не отделяться от него.
Заметим еще, что злой рок помешал полякам в том же 1863 году познать и еще одну политическую истину, ясную, как божий день: к числу своих друзей и в то же время врагов ненавистной им России они сопричисляли и Австрию, которая всего лишь за 15 лет перед тем самым беспощадным образом подавила в Галиции вспыхнувшее в то время (в 1848) польское движение, ту самую Австрию, которая не раз уже изумляла мир дуализмом своей иностранной политики и которая, владея обширною польскою провинцией, едва ли могла настойчиво и искренно желать автономии польского государства, хотя бы и с австрийским принцем на ее престоле, как о том фантазировали поляки немецкого происхождения.
Наконец, какие устои были под этим с виду величественным зданием, выстроенным на песке? Как могло удаться восстание этой несчастной и легковерной, хотя в то же время в высшей степени симпатичной и благородной нации, при том хаосе и усобице, которые не прекратились даже и с наступлением кровавого 1863 года? Какая революция из всех, бывших когда-либо в мире, представляет такой чудовищный и маловероятный факт, как тот, что произошел в Варшаве в самом начале восстания, когда двенадцать отчаяннейших молодых людей, образовав из себя самозваный «комитет» и заказав подходящую для того печать, объявили себя распорядителями судеб восстания и терроризировали весь край, послушно исполнявший все приказы – до убийств включительно – этих таинственных незнакомцев, наименовавших себя «ржондом народо́вым?»…[84]84
Этот «ржонд» издавал иногда такие бестактные распоряжения, которые лишь дискредитировали все дело, наживая врагов в лице Австрии и Пруссии. Таково, например, было обращение «ржонда» «Do Narodu» от 31 июля, где обещалось восстановление Польши в границах 1772 года.
[Закрыть] Это, впрочем, нисколько не мешало образованию многочисленных других распорядителей и руководителей восстания, друг другу противодействующих и противоречащих. Ведь стоит только припомнить, что «белые» противодействовали «красным», отель «Ламбер» шел вразрез с распоряжениями галицкого и львовского комитетов, действия Лангевича не согласовались с распоряжениями Мерославского и пр. Во всем этом несчастном восстании было такое многоначалие, такой хаос и путаница, такие неурядицы и междоусобия, что следует поистине удивляться, как могло оно просуществовать и продолжаться в течение нескольких месяцев!..
«Неумолимый рок, – говорит г-н Козьмян, – родившийся вследствие незаконной связи заблуждения безумных с ошибкою разумных, создал это ужасное дело и толкал людей все далее и далее, все к новым событиям и бедствиям…»
Дай Бог, конечно, чтобы эти «заблуждения» не повторялись, и чтобы уроки истории, за которые полякам пришлось поплатиться своею кровью, послужили им на пользу!
Эпизоды из времени восстания 1863 года
(из записок и воспоминаний)
Сообщаемые мною рассказы из времени последнего польского мятежа – не выдуманные: излагаемые в них, хотя и в повествовательной форме, события происходили в действительности, в 1863 году, в Ковенской и Минской губерниях.
Мне не довелось быть прямым свидетелем мятежа: я прибыл в край в мае 1864 года, то есть год спустя, и вскоре занял должность мирового посредника в Могилевской губернии. Но я застал еще последний акт этой ужасной трагедии, слышал живые, свежие рассказы о происходивших событиях, а многое довелось увидеть своими глазами. Так, например, при сцене расстреляния в местечке Логойске Борисовского уезда Минской губернии в июле 1864 года мне довелось присутствовать лично, – и я до сих пор, несмотря на то, что с того времени прошло уже 38 лет, не могу без ужаса и глубокого содрогания и отвращения вспомнить об этой сцене…
Некоторые места действий и лица не называются в моих рассказах вследствие некоторого неудобства называть их по имени.
I. Любовь и долгНа одном из глухих фольварков Р[оссиен]cкого уезда Ковенской губернии в апреле 1863 года в небольшой, но уютной гостиной панского дома сидело двое молодых людей: панна Розалия С-ская, дочь обладателя этого фольварка, небогатого польского помещика, и подпоручик N-ского пехотного полка Марлин, совсем еще юный на вид офицерик, всего два года назад выпущенный из кадетского корпуса. Между молодыми людьми происходило, по-видимому, очень решительное и серьезное объяснение: оба были страшно бледны и взволнованы, у обоих ярко блистали молодые глаза… Разговор их приходил уже к концу.
– Одно из двух, – произнесла наконец панна Розалия сдержанным, но очень решительным шепотом, – или пан поручик будет наш, и я буду принадлежать ему, или…
– Или что? – испуганно переспросил молодой человек.
– Или… мы должны будем расстаться навсегда.
– И вы, панна Розалия?..
– Я буду принадлежать пану Казимиру, который меня, я знаю, безумно любит.
– Клянусь честью, этому никогда не бывать! – и Марлин крепко стукнул кулаком по столу.
Молодые люди давно уже любили друг друга; по крайней мере, целый год красивый подпоручик Марлин вздыхал и ухаживал за миловидною и бойкою паненкой, жал ей и целовал потихоньку ручки, а она, в свою очередь, отвечала ему взаимными пожатиями, нежными взглядами и томными вздохами. Ее отец и мать – пан Станислав и пани Станиславова С-ские – смотрели на это ухаживанье не совсем-то благосклонно: во-первых, такое уже тогда, в начале 1863 года, было время, что русских офицеров или совсем перестали принимать в польских домах, или же принимали их скрепя сердце и крайне неохотно; а, во-вторых, родители панны Розалии были убеждены в том, что если только их цурка (дочка) выйдет – бронь Боже! – за пана поручника, то он первым долгом завезет ее в Москву и обратит в свою схизматичну веру. Они более ласково смотрели в этом случае на своего соседа по имению, довольно богатого пана Казимира З-ского, ухаживавшего за Розалией уже давно и с очевидным, конечно, намерением вступить с нею в законный брак. Но беда была в том, что этот пан Казимир был очень некрасив собою, совсем необразован и вдобавок довольно груб и неловок в обращении; даже мазурку – этот национальный изящный польский танец – он танцевал плохо и неохотно. Любимою и чуть ли не единственной его страстью была охота с гончими и борзыми: тут у него являлась и удаль, и ловкость, и увлечение. Панне Розалии он положительно не нравился, и она всячески избегала его грубоватых любезностей и признаний в любви. Она в душе своей делала иногда сравнение между рыжим и неуклюжим шляхтичем и благовоспитанным, изящным и красивым Марлиным, – и сердце ее невольно склонялось в пользу «москаля», но она искренно жалела лишь о том, что Марлин – «схизматик», и что по смерти его душа непременно попадет в «пекло», то есть в ад… Об этом говорил не раз в костеле ксендз – то есть о душах москалей вообще, – говорила и мама; следовательно, в этом не может быть и сомнения… В последнее время пан Казимир оставил ее в покое, – с тех пор, как она однажды, после неловких намеков его на свою любовь прямо сказала ему с смелостью и развязностью истой польки:
– Я бы пошла за пана лишь тогда, если бы у него в доме не осталось ни одной собаки; а то я никогда не буду знать, кого пан больше любит – свою жену или своих гончих?..
Пан Казимир покраснел, как рак, но, тем не менее, твердо объяснил, что он готов отдать панне свою душу, но что эту жертву принести не может – с собаками не расстанется.
Панна Розалия получила тогда за эту выходку строгий выговор от своих родителей; но зато громко и долго смеялась она потом с Марлиным, рассказывая ему о декларации З-ского и о своем ответе.
Ее отношение к Марлину заходили все далее и далее: он не раз уже втихомолку целовал ее розовые губки и щечки, и она не особенно сильно сопротивлялась этим поцелуям…
Политические события, между тем, шли своим чередом: в костелах пелись гимны, по городам собирались деньги «на офяру», по фольваркам заготовлялись сухари и лились пули, в соседних лесах Виленской губернии появились уже первые банды… Из Гродненской и Минской губерний приходили тоже тревожные известия, и силы повстанцев, по рассказам, измерялись уже не сотнями и тысячами, а десятками тысяч. Франция, главным образом, стала подливать масла в огонь: сочувственные полякам публично произнесенные фразы императрицы Евгении и зажигательные речи принца Наполеона совсем вскружили им голову. По их уверениям, к ним на подмогу должна была выступить из Франции целая армия. Словом, легкомыслию и легковерию поляков не было ни меры, ни пределов, – и в этом сказывалась их характерная и национальная черта. В действительности же, пока одно лишь Царство Польское (Привислинский край), да и то далеко не все, было охвачено полымем восстания, а в так называемом Северо-Западном крае кое-где лишь десятки и сотни горячих и безумных молодых голов, соединившись в партии, уходили в леса и уводили за собою, иногда насильно шляхту из околиц (поселков) и бывшую свою дворню. Главари мятежа, скрываясь за границей, искусно руководили начавшимся брожением, ксендзы разжигали политические страсти в женщинах, а эти командовали мужьями, братьями и сыновьями и настойчиво отправляли их в леса – на верную смерть и погибель.
В этот именно момент восстания и происходил приведенный нами в начале разговор между молодым русским офицером и польскою панною. Она, с свойственною женщинам тонкостью хорошо знала, чем сильнее всего можно было подействовать на пылкое юношеское сердце своего поклонника, и потому умышленно упомянула имя пана Казимира.
– Клянусь честью, этого не будет, панна Розалия! – еще раз горячо повторил Марлин и, обняв правою рукою талию девушки, притянул ее к себе и крепко поцеловал.
Она не уклонилась от поцелуя; но затем, медленно отведя его руку, встала и отошла от него, села на диван, пригласив его сесть vis-à-vis[85]85
Напротив (франц.). – Примеч. ред.
[Закрыть], в кресло.
– Теперь не время для поцелуев, – тихо и как-то непривычно строго проговорила она, – ты знаешь ли, что через три дня меня уже не будет здесь, в фольварке?
– Где же ты будешь? – испуганно спросил Марлин.
– Я буду там, где соберутся все мои братья – все дети одной нашей общей матери – отчизны… нашей Польши.
– То есть, в лесу?
– Да, в лесу, ты отгадал.
Марлин опустил голову на руку и задумался.
– К вам тотчас же придут войска и разобьют вас, – тихо проговорил он.
– Это еще неизвестно, кто кого разобьет, – бойко ответила она. – А если это несчастье и случится, то мы уйдем за границу и будем ждать более лучшего времени. А пока станем с мужем трудиться там вместе: пан Казимир посвятит мне всю свою жизнь…
– Не будет этого, не будет, говорю тебе!.. Пан Казимир тебя не стоит и никогда не будет твоим мужем. Ты знаешь, Розалия, как сильно я тебя люблю… больше жизни моей…
Он быстро встал с кресла и сел с ней рядом. Она на этот раз не отодвинулась от него и тихо, почти шепотом, ответила:
– Я тебя люблю также много: я готова пожертвовать для тебя всем. Ты это хорошо знаешь. Докажи и ты свою любовь – решайся!..
– На все, только не на это! Идти с тобой в лес… бить потом своих!.. Ведь это подлость будет, – и ты первая перестанешь тогда уважать меня.
– Кто ж заставит тебя бить своих?! Ты только будешь со мною вместе, мой коханый. И ничто в мире нас не разлучит тогда, а после ты переменишь фамилию, и мы обвенчаемся…
Она нежно склонилась головой ему на плечо и сама обняла его рукой. Ее горячее дыхание жгло ему щеку, словно огнем; другою рукой она тихо перебирала его волосы на голове. У него от ее прикосновения и близкого счастья совершенно потемнело в глазах и затмился рассудок… Ее предложение и на самом деле становилось уже для него так возможным и, главное, извиняемым, а она вдруг заговорила нежным, но в то же время и решительным тоном:
– Если ты сегодня же, сейчас же, не ответишь мне решительно, то мы с тобой не должны видеться. Отец мне прямо сказал, чтобы я попросила тебя не бывать у нас. Ксендз пригрозил отлучить нас всех от костела, если ты будешь приезжать сюда; тебя боятся… ты можешь заметить что-нибудь, узнать и передать пану полковнику. Я, может быть, с ума сойду, когда тебя перестану видеть, когда ты отвернешься от меня!.. Но что же мне делать, Езус Мария! Что мне делать!!
Она быстро и горячо обняла его обеими руками, положила голову ему на грудь и нервно и истерически зарыдала.
– Клянусь тебе, – говорила она сквозь слезы, – я люблю тебя, как Бога! Клянусь тебе в этом на святом кресте!..
И она, немного откинувшись от него, быстро достала из-за корсажа своего платья золотой крест с распятием и поцеловала его.
– Если любишь, поцелуй и ты этот крест, – шептала она…
Юноша смотрел на нее безумными, восторженными глазами, – и вдруг наклонился и поцеловал этот крест, и ее руку и ее самое…
– Я на все решился!.. Я на все согласен!.. Я твой, твой навеки!!. – прошептал наконец он, оторвавшись от поцелуев и глядя на нее глазами, в которых блистали и любовь, и счастье, и полная бесповоротная решимость на все… а она, словно ласточка, щебетала ему:
– Сейчас вернутся из костела отец и мама; мы им расскажем все. Они будут, я знаю, так рады и довольны, что ты «наш»… а через три дня – помни! – ты приезжай верхом ровно в одиннадцать часов ночи к той святой капличке (часовне), которая, ты знаешь, стоит в сосновом лесу по дороге к Шадову. Я буду там одна, верхом же, ждать тебя. Никто и ничто не помешает нашему счастью… а оттуда мы прямо проедем с тобою лесною дорогою на Стульпинскую греблю (гать). Я ведь все тропинки знаю в этих лесах – я здесь родилась и выросла… а там уж нас будут ждать. Ах, да! я и забыла тебе сказать: ты приготовь себе чамарку, а этот мундир сбросишь.
Марлин смотрел на нее, слушал и ничего почти не понимал от счастья; он помнил лишь одно: через три дня, в 11 часов ночи он должен быть у знакомой каплички. Это он исполнит, хотя бы для этого нужно было умереть… Ведь он сейчас целовал крест, клялся… Правда, он еще так недавно, менее двух лет назад целовал тоже крест – совсем иной и произносил тоже клятву – совсем иную – там, в Петербурге, в дорогой для его воспоминаний кадетской церкви. Но ведь тогда он был почти мальчик, едва вышедший из детского возраста… а теперь! – теперь он жених, почти муж первой красавицы в уезде, панны Розалии С-ской…
«Да, уж решено это! – подумал он. – Так, видно, суждено мне…»
В это время на двор фольварка въехала и подкатила прямо к крыльцу дома красивая нэйтычанка[86]86
Нэйтычанка – первоначально тележка, рессорная или безрессорная. В богатых домах эту тележку простой конструкции могли обустраивать для езды с бо́льшим комфортом, богато украшать, что приближало нэйтычанку по внешнему виду и удобству к коляске.
[Закрыть], в которой сидели отец и мать панны С-ской. Девушка быстро встала с дивана и, как вихрь понеслась через все комнаты в переднюю, громко хлопая в ладоши и также громко выкрикивая фразу, состоящую всего из трех слов:
Пан Марлин наш! пан Марлин наш!!
Юноша глядел ей вслед счастливыми влюбленными глазами и тихо вторил за нею:
– Да, я теперь твой, моя дорогая!..
* * *
Тихими, осторожными шагами, словно ощупью подвигался среди ночной тишины небольшой русский отряд по Шадовской дороге. Это была та самая проселочная дорога, ведущая к святой капличке, у которой две недели назад панна Розалия назначила ночное свидание подпоручику Марлину.
Отряд был невелик: в нем было всего две роты N-ского пехотного полка, в котором служил Марлин, и при них сотня донских казаков. Отрядом этим командовал майор Нордквист, батальонный командир N-ского полка, финн по национальности, большой службист и человек строгий и исполнительный. Инструкция, данная ему перед выступлением отряда, заключалась в очень немногом: ему было приказано разбить банду, которая, по полученным секретным сведениям, только что сформировалась. Затем, он имел второй приказ, но уже «совершенно секретный»: взять в этой банде дезертировавшего три недели назад из их же полка, подпоручика Марлина, – взять его живого или мертвого.
В подобных случаях, то есть, когда знали наверное, что в такой-то банде состоит перебежавший наш же офицер, – практиковалась иногда в русских отрядах следующая мера: по взаимному и, так сказать, безмолвному соглашению между офицерами отряда решалось не брать несчастного в плен живым. А чтобы достигнуть этого, показывалась унтер-офицерам отряда фотографическая карточка дезертира, находившаяся у кого-нибудь из его бывших товарищей по полку. Это делалось по следующим соображениям. Во-первых, мучения преступного офицера сокращались, таким образом, на несколько недель, которые требовались бы для военного суда и для утверждения (конфирмации) смертной казни; а ведь известно, что не казнь страшна, а приготовление к ней… А, во-вторых, заграничные русофобские газеты лишались таким образом удобного случая заявить лишний раз о «сочувствии» русских офицеров делу восстания и о новой смертной казни. Вот поэтому-то и судьба Марлина была решена при самом выступлении отряда.
Об его исчезновении узнали, конечно, в полку очень скоро; но куда именно он исчез, этого в начале не знал никто. Узнали только, что он уехал куда-то вечером верхом, взяв с собой охотничье ружье и свою легавую собаку… Решили, что он, рассчитывая, вероятно, поохотиться в какой-нибудь отдаленной местности, отправился туда и затем по дороге где-нибудь в лесу наскочил на повстанцев, которые его и ухлопали.
Дано было знать, конечно, полиции, отправлены были во все стороны казачьи разъезды для розысков, но все было напрасно: подпоручик Марлин как в воду канул. Совершенно случайное происшествие обнаружило, однако, что он жив, и даже его местопребывание.
Так как в уездном городе, где находился штаб полка, сделалось известным, что в соседних лесах начинают уже бродить повстанцы, уездный военный начальник – он же и командир N-ского полка – отправил по разным направлениям несколько мелких казачьих разъездов для наблюдений. Один из таких разъездов, проезжая Стульпинским лесом, заметил издали, что какой-то ехавший с возом еврей, завидев казаков, быстро свернул в бок, в лес, в самую чащу. Еврея этого тотчас же, конечно, нагнали и вывели его воз обратно на дорогу.
На возу у него не было, впрочем, ничего подозрительного – бочка с дегтем и больше ничего. Еврей объяснил, что зовут его Ицкой Либерманом, что он «честный и бедный еврейчик», возит по деревням деготь на продажу и этим существует и кормится.
– Зачем же ты, собачий сын, утекал от нас в лес? – спросил казачий урядник.
– А я дюже злякался (испугался), оттого и утекал.
– Чего же ты злякался, если ты честный еврей? – продолжали допрашивать его.
– А як же мне не злякаться! Я бачу, едуть москали, с такими страшными – ховай Боже! – пиками… ну, и с саблями и с фузеями… Ну, я и злякался.
– Однако, братцы, обыщите-ка этого жида на всякий случай, – приказал урядник.
Еврей сильно встревожился и заволновался:
– Ну, и зачем меня обыскивать?.. Я не злодей якой. Я буду кричать «гвалт»…
– Кричи себе, сколько хочешь, мы тебе не мешаем, – заметили ему казаки.
И вот двое из них, соскочив с коней, принялись тормошить и обыскивать «пана Ицку». Еврей топорщился, упирался, но его все-таки свалили на землю и обыскали. Ничего подозрительного не нашли. Отыскали лишь еврейское «богомолье», да засаленный бумажник, в котором было, однако, около трехсот рублей кредитными билетами. Урядник возвратил еврею все в целости, – и отряд хотел было уже ехать дальше, напутствуемый ворчаньем и бранью Ицки, уже расхрабрившегося, как вдруг казаки вспомнили, что не разували его и не осматривали его обувь.
– Однако, сядь на траву, да разуйся; мы посмотрим, нет ли чего в твоих сапогах, – какой-нибудь бумаги от поляков? – предложили казаки.
Еврей мгновенно побледнел, как смерть, и сразу сделался меньше ростом, униженно согнувшись и сгорбившись… Он торопливо вынул из бумажника несколько мелких ассигнаций и сунул их уряднику в руку. Тот взял, поблагодарил Ицку, даже шапку приподнял с головы в знак благодарности.
– А все-таки разуйся, пан Ицко! – приказал он.
Еврей отказался разуться наотрез, и казаки должны были и на этот раз употребить насилие. Ицку вновь посадили на землю и, как он ни брыкался ногами, его разули-таки: сняли один сапог, потом другой… Стали казаки трясти эти сапоги – из одного выпала пара офицерских золотых погонов с номером той дивизии, в которой служил Марлин, а из другого сапога – несколько писем.
– Ага, жидюга, это ты, значит, убил подпоручика!.. Вот и погоны, – проговорил урядник, взяв в руки погоны и разглядывая их.
Еврей был бледнее полотна и лишь дико озирался по сторонам, как бы выбирая место, куда можно бы было скрыться.
– Вяжите его! – приказал урядник. – Это дело его рук: непременно он убил.
– Я его не убивал… Зачем я буду его убивать, коли он жив? – тихо проговорил Ицко.
– Заговаривай мне зубы-то! Так я и поверил тебе! – отвечал урядник и распорядился свалить бочку с телеги на землю, а на воз положить связанного по рукам и ногам Ицку.
Но когда казаки стали сваливать бочку на землю, она показалась им что-то легка. Оттолкнули втулку – с одного конца потек действительно деготь; ударили пикой в противоположное дно – оказалась пустота. Один из казаков запустил в сделанное пикою отверстие руку и вытащил двухфунтовую жестянку с прусским порохом…
– Эге, жид! добрый у тебя деготь! – засмеялись казаки, оглядывая со всех сторон вынутую жестянку.
– Это не моя бочка… Это не моя лошадь, – шептал совершенно убитый, помертвевший от страха еврей.
Его доставили вместе с поличным в уездный город, и там «пан Ицка» вынужден был во всем признаться и рассказать всю подноготную. Оказалось, что он ехал прямо из банды, в которой был Марлин; что там вместе с ним в костюме «хлопца» находится и панна Розалия С-ская. Золотые офицерские погоны, погубившие Ицку, он по еврейской страсти покупать все, что попадается под руку, добыл в банде же за два злота (30 копеек) от какого-то хлопа, который спорол эти погоны с брошенного Марлиным мундира, а в числе найденных писем оказалось одно от панны Розалии к ее родителям на фольварк: она подробно описывала свое поэтическое житье в лесу вместе с «наржечёным» (женихом), то есть с Марлиным, называя его «довудцей» – начальником банды.
Таким-то вот случайным образом и было открыто местопребывание без вести пропавшего подпоручика Марлина и той польской банды, в которую он попал. Для поимки его и для уничтожения банды и была, нарочно, послана командиром полка и та рота, в которой Марлин был субалтерн-офицером.
– Он осрамил эту роту, и пусть она же и возьмет его, живого или мертвого, это все равно, – сказал полковник майору Нордквисту, отправляя отряд.
Отряд этот выступил из города тотчас после сумерек (чтобы никто не видел его отправления) и должен был идти форсированным маршем всю ночь с таким расчетом, чтобы подойти к банде перед рассветом; затем предположено было дать людям маленький отдых, и на рассвете, когда можно будет уже хорошо оглядеться в лесу, напасть на банду врасплох и уничтожить ее. В проводники отряду дан был «пан Ицка», знакомый, по его словам, со всеми тропинками в лесу. Ицке было объявлено, что, если он проведет наш отряд незаметным образом лесными тропами прямо к банде, то наказание за его вину будет значительно смягчено; а если он вздумает «утечь», его тотчас же приколют. Таким образом, Ицка из комиссионера банды превратился в ее предателя.
Лица солдат и офицеров были сосредоточенные и серьезные в виду предстоящего «дела»; бедный Ицка, шедший во главе отряда со связанными назади руками, трясся, как в лихорадке. Так шли лесом всю ночь. Холодно было и сыро в лесу, несмотря на то, что на дворе уже был май; да и жутко было: лес старинный, вековой, то и дело попадались корабельные деревья в несколько обхватов толщины. Много видали на своем веку эти сосны и ели!.. И вот теперь им вновь пришлось увидать новое человеческое безумие – восстание.
Наконец над головами людей, кое-где между соснами стало немножко белеть небо… Востока не было видно в лесной чаще; но было ясно, что до рассвета уже недалеко.
– Скоро ли дойдем? – спросил Ицку майор, подойдя к нему.
– Зараз, пан полковник, зараз (скоро), – отвечал Ицка.
– Близко уже?
– Зараз, зараз…
Прошли еще минут пятнадцать. Клочки неба над головами совсем уже побелели… Но вот Ицка остановился, осмотрелся внимательно кругом и стал оглядывать деревья, бормоча что-то по-еврейски себе под нос и как будто соображая и припоминая. Потом он поводил носом вокруг, словно обнюхивая эту местность.
– Здесь! – тихо проговорил он. – Вот тут зараз будет криница (ключ), откуда они берут воду, а за ней моргов[87]87
Морг – старинная польская мера площади, ок. 0,56 га.
[Закрыть] за пять будет поляна… На этой самой поляне стоят повозки и брички, и нэйтычанки, и будованые шалаши[88]88
То есть специально построенные, от южнопольского «будовать» – строить, возводить новые здания, заведения, постройки.
[Закрыть]; а в этих самых повозках и в бричках, и в нэйтычанках, и в будованых шалашах спят паны… и хлопы при них есть…
– А можно зайти им в тыл? – спросил майор. – Тут нет с боков болота?
– Чему не можно – можно: болота нет.
В это время в лесу, не более как в полуверстном, по-видимому, расстоянии от отряда заржала лошадь; ей тотчас же отозвалась другая, и затем все вновь стихло и умолкло.
Майор подозвал одного из офицеров и отдал ему следующее приказание: взять с собой шесть барабанщиков, одного унтер-офицера и двадцать человек рядовых и зайти стороною в тыл расположения банды; затем, как только это обходное движение будет выполнено, то расставить барабанщиков в линию длиною примерно в 200 шагов и бить «атаку» при пальбе и криках «ура»; потом, медленно, шаг за шагом подаваться вперед, скучиваясь на случай нападения. В проводники этому маленькому отряду был дан тот же злосчастный Ицка.
Как только этот отряд отделился и ушел, майор вызвал несколько человек охотников и отправил их вперед для осмотра места расположения банды, приказав им тотчас же возвращаться назад, как только они сделают свое дело. Отряду тем временем позволено было стоять «вольно» и «поправиться», а кто сильно устал, тот мог присесть и отдохнуть немного. Ни говорить громко, ни курить, конечно, не было позволено.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?