Текст книги "Вечность мига. Роман двухсот авторов"
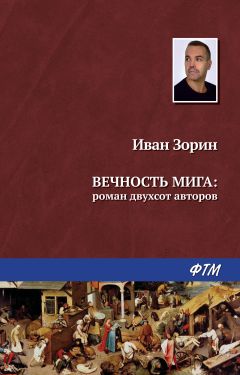
Автор книги: Иван Зорин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мудрость простодушия
– Я понял, как устроен мир!
– И как же?
– Неправильно!
– И всё?
– А куда больше? Зачем знать неправильное устройство?
Афиноген Грамматик. «В садах Академии» (IV в.)
Находчивость
Валерка – хитрый. Раз на танцах в чужом селе вышла у меня по пьяному делу стычка с местным. Отошли, как водится, в сторонку, я, не дожидаясь, ему и врезал. А он стоит, не падает! Здоровый оказался. А тут ещё из темноты трое подваливают. И все – кровь с молоком! Ну, думаю, Вася, попал ты, отметелят по полной! Весь хмель сразу вышел. Но тут вдруг сзади Валерка кричит: «Вася, только не доставай нож!» Какой нож? Ножа-то и в помине нет! А Валерка надрывается: «Вася, отдай нож, лучше так дерись!» Местные застыли. А кореш мой, знай, жарит: «Тебе что, мало? Только отсидел и опять?» И, заслонив меня спиной, обращается к местным: «Ребята, не доводите до крови, ему теперь на полную катушку отмотают!» Те попятились. Одно дело кулаками махать, а на финку напороться кому охота? Так и разошлись с миром.
Василий Грогиус. «Друзья моей шальной юности» (1976)
Абсолютная истина
– Что лучше, – спросил меня как-то учитель Чжэн, – волосатость или лысина?
Я пожал плечами.
– И всё же, попробуй ответить, – настаивал он.
– Из прошлого известно, – начал я, – что благородный муж с лысиной энергичнее, он сильный любовник, зато муж с густой шевелюрой выглядит привлекательнее…
Замахав руками, учитель перебил меня:
– А на других исторических примерах мы видим обратное: как раз мужи с длинными волосами неутомимы в бою и любви, а чистые, как зеркало, неоскверненные растительностью, смотрятся красивее.
Я окончательно смутился.
– И всё же, предпочтение есть, – смилостивился учитель. – Скажи, какой сейчас правитель вашей области – лысый или лохматый? Это и определит, что лучше – иметь причёску или нет!
Цао Ли. «Учитель Чжэн» (1539?)
Реквием по художнику
Забранное решёткой окно отделяло боль от серости: боль человека – от серости дождя, боль гения – от серости подражателей. В тусклом зеркале отражались протекающий умывальник, расшатанная этажерка и низкий потолок, навевающий мысли о склепе. Сгорбленный креслом, Поэт перечитывал своё лучшее произведение – семь рифмованных строф, посвящённых возлюбленной. Томик «Избранного», словно взъерошенный птенец, кричал в гнезде из пальцев. «Колокольцы без языков, – уткнулся Поэт в мёртвые буквы. – Любить не значит писать о любви, жизнь не сводится к сумме ежедневных мыслей».
Пахло сыростью, в напольной вазе блекли фиалки. «Счастливы немые, им уготовано царство земное, – думал Поэт. Или так думала Старость Поэта. – Блаженны нищие воображением, ибо утешатся они Необходимостью, блаженны убогие, ибо обретут они скуку Действительности». Губы ещё шевелили обращённую к стенам проповедь, как вдруг он увидел себя – паук, ткущий сеть слов, муха, бьющаяся в их паутине. Кто призвал его отделять Слово от слов, растиражированных веками?
И на него навалилось одиночество, отвратительное, как толпа.
«Поэт – это проклятье, – клевал кто-то внутри. – Его строки выводит отчаяние, его реальность – пустые грёзы. Что толку в мечтаниях? Пусть они и всепроникающие, как Бог, пусть они и сейчас с тобой – в сумасшедшем доме».
Пальцы затрепетали, и дрожь передалась книге. Поэт смежил веки, и перед ним опять встали слова. Слова, слова, вывалянные в чужой пыли слова, рабы, сбросившие оковы смысла, кукушки, давно оставившие суть вещей. Их, как вспаханное поле, передают по наследству вместе с безумием солнца и печалью луны.
Поэт ссутулился, уронив голову, на грудь. Любое ремесло – не крест, а горб, жрец искусства – такая же насмешка, как и магистр философии. «Впрочем, искусство – инакоформа философии, – переставлял он слова, как детские кубики. – А философия – инакоформа искусства, это различные формы инако…» Некоторое время он ещё упорно ловил окончание: «бытия», «сознания», «мыслия», – пока ни обнаружил себя среди вещей, которые намного старше их названий, пока ни вернулся к реальности-необходимости, пока ни упёрся в решётку, отделяющую боль от серости.
Капли по-прежнему долбили умывальник. Вот она, единственная мелодия, вот он, единственный рефрен! Жизнь – скучная притча, бессвязная, как бормотанье юродивого.
По улице полз заблудившийся автобус. Стена дождя плашмя повалилась на булыжники, разбившись в ручьи, и прохожие воробышками прыгали по мостовой – расчётливо, опасливо.
И тут Поэт вдруг увидел смысл происходящего и вздрогнул, ибо острота видения – это острота боли. Подобрав с улицы метафору, он разгадал скрытый символ: слова – это камушки в мутном потоке сознания.
Смотри же, не сорвись с них в безумье тьмы, не забрызгай в сумасшествии своё белое, выутюженное чужими страданьями платье, не забудь, что шаг в сторону с проторенного другими пути – это Голгофа!
Фенимор Саливан Оберли. «Эзра Граунд» (1948)
Люди и звери
Этот случай произошёл в Африке, где я охотился на слонов. На заходе солнца я выследил небольшое стадо и подстрелил из укрытия молодого самца. Он упал, но снова поднялся, жалобно трубя. Передвигаться он не мог, видно, пуля задела позвоночник, и, мотая хоботом, топтался на месте. К нему тотчас подошли два других гиганта и, точно охранники, встали по бокам. Хлопая ушами, они старались поддержать его туловищами, пытаясь защитить от опасности, которую выискивали по сторонам маленькими злыми глазками. Так они простояли всю ночь. Наконец, на рассвете подранок свалился. Но и тогда меня не подпустили к бивням, забросав тело хворостом, точно похоронив.
Эта сцена всплывает у меня каждый раз, когда взывают о помощи. Мы также бессильны, несмотря на всю нашу технику, также немощны и способны лишь оплакивать. Впрочем, мы не делаем и этого…
Карл Бэкли. «История всеобщей беспомощности» (1931)
Основной вопрос философии
С рождения невидимые руки тащат меня вниз по лестнице. О, боги! Что ждёт меня в тёмном подземелье?
Древнеегипетские тексты. «Папирус из Фив № 21» (XV в. до н. э.)
Страшная месть
Во времена, когда история ещё не считалась наукой, а сводилась к историям за чаркой, рассказывали, что жена одного купца, которую тот поколачивал, по злобе настрочила донос царю, будто её муж – великий лекарь. Царь в ту пору мучился ломотой суставов, и купца тотчас вызвали в Кремль. Там он клялся-божился, что ничего не смыслит в знахарстве, но после розог и угрозы смертной казни нарвал в лесу каких попало трав и приготовил царю ванну. А когда она чудом помогла, его опять высекли – за то, что держал рецепт в секрете. Так жена добилась своего. Но купец вскоре обо всём догадался и, разведясь, устроил так, что жену выдали за иностранца. Тот её полюбил, но через год супруга загрустила. «Ты меня не любишь, раз не бьёшь», – призналась она. Пришлось иностранцу надавать ей оплеух. А потом, чтобы доказать свои чувства, взяться и за плеть. Супруга заметно повеселела. С тех пор он регулярно «учил» её, приговаривая, что баба без мордобоя, как без пряника. Один раз он «приласкал» жену обухом, в другой – отделал поленом. Кончилось тем, что, войдя во вкус, он так отходил её дубиной, что она отдала Богу душу.
А на суде купец засвидетельствовал, что покойница жить не могла без побоев, и иностранца оправдали.
Капитон Аполинарьевич Щекочихин. «Предания русской старины» (1891)
Фата Моргана
Мимо зевающих подворотнями каменных зданий, мимо ярких витрин, в которых дают балы лакированные манекены, мимо уныло повесивших носы уличных фонарей, мимо скособоченных урн, со дна которых по утрам вместе с мусором вытряхивают схоронившийся от солнечных лучей прошлый вечер, который, свернувшись кошкой, дожидался там своего часа, чтобы снова выйти на улицы в тёмном костюме своём, не ведая, что час этот давно уже занят, что сумасбродное, словно молоденькая красавица, единственное удовольствие которой состоит в смене поклонников, время уже назначило скоротечное свидание другому обожателю из длинной-предлинной их очереди; мимо великих людей, водивших когда-то дружбу со временем, а теперь попирающих мраморными ногами гранит пьедесталов или высокомерно гарцующих на бронзовых лошадях, так и норовящих раздавить тебя задранными копытами, мимо расклеенных афиш, привлекающих неопытных обывателей – только сунься, прилепись, прочитай неосторожно: враз поплетёшься туда, куда зазывали, спрашивая себя дорогой: «И какого чёрта я туда плетусь?» – а сам уже входишь в растворённые настежь ворота, уже подаёшь нехитрый гардероб свой усатому и строгому швейцару, который в душе непременно смеётся над тобой: «Ну что, ротозей, принесла нелёгкая?» – но виду не подаёт – служба-с! мимо румяных кренделей на вывесках, которые поедает взглядом голодный прохожий, мимо лип на бульварах и фикусов в окнах, под заунывную песню трамваев, которую прерывают лишь надрывные свистки регулировщиков, чьи жезлы мелькают в воздухе, как дирижёрская палочка, под окрики пьяных и скучную болтовню трезвых медленно тащит своё грузное тело свинцово-грязный мешок.
Видите на толстом брюхе его визитку – «50 кг»? А скрученные ворсинки, проступающие сквозь белила? Видите швы, разошедшиеся с левого боку? А прореху – с правого? Заплатку, насаженную на живую нитку? Вот же, он переминает своими угловатыми ножками, давя окурки и размазывая по асфальту плевки! Видите, как пошатывается, словно медведь после спячки? Ах, не видите! Ну да, как вам увидеть, если вы заняты чтением? Это я, случайный попутчик, вижу, как иногда выскочит кто-то из толчеи, размахивая локтями – так машет крыльями мельница, хоть и смолота уже вся мука, а она всё крутит и крутит впустую, ломая жернова, – как столкнётся он носом с мешком и опрокинет его с размаху. Ой, как больно! А из рваной дыры тогда – смотрите, смотрите! – вываливаются картофелины, которые, неловко прыгая, как объевшиеся комарами лягушки, гибнут под колёсами безжалостных машин.
Упал ничком, как оловянный солдатик, и, кажется, больше не встанет, но вот поднялся – мешок мешком! – и таращится на изысканных дам, которым элегантные кавалеры спешат открыть дверцы дорогих авто, на важных господ, что держат под мышками руки дородных супруг или, на худой конец, газеты, свёрнутые трубочкой и мятые, как вам, верно, покажется, но непременно свежие, а не верите, так попробуйте выхватить да развернуть где-нибудь в укромном местечке, а хоть бы и на бульваре, на лавочке – тогда убедитесь; глазеет он и на барышень, которые вызывают румянец у гимназистов и желчь у старух. Ишь, раскатал губы! И откуда ты только взялся? Сбежал, верно, из овощной лавки, где вам, мешкам, перепиливают тупым ножом верёвочные жилы безжалостные фасовщики. А может, и приказ уже грозный отдан самым главным из них: выловить праздно шатающийся мешок, привести его под мои ясные очи! – и как ни утирай ты пот со лба, как ни спеши и ни бегай, всё равно поймают тебя и приведут на расправу.
«Эй, серая материя, куда путь держишь?» Нет ответа. Лишь мешковина трётся о тротуар, да неразборчиво шепчет картошка, перекатываясь во чреве.
«Посторонись!» – гаркнул над ухом кто-то отчаянный и могучий, гордо шагающий по столпотворенью. Куда там – не уберёгся, грохнулся оземь, аж искры посыпались! «И поделом ему, не будет путаться!» – ухмыляется могучий. И то верно: когда мешок, каждый пнёт тебя невзначай: мол, сам виноват – замешкался! Ах, увалень, вон сколько картошки рассыпал, собрать бы, да вишь, машины проклятые – тьфу их! – уж и подавили всю.
Эх, бедолага, думаю я, сворачивая за угол, скоро ты растеряешь драгоценный свой груз и станешь ветхим мешком, который засунут в шкаф со словами: «Авось на что сгодится», а однажды, вынув, пустят по рукам, превращая в драную пыльную тряпку. Такая, видно, судьба. У всех своя дорога, и никому нет дела до мешка, одиноко бредущего мимо подворотен каменных исполинов, мимо ярких витрин с лакированными манекенами и мимо повесивших в унынии свои длинные носы уличных фонарей. Правда, недавно мне сказывали – кто это был? даст Бог памяти, обязательно вспомню, ан нет, не вспомню, ну да Бог с ним! – так вот, он мне и сказывал, будто видел мешок за городом, будто прибит он гвоздями и поднят на кресте огородным богом; намокая слезами холодного дождя, который обмывает осенние листья и бьёт вздыхающие в лужах пузыри, он колышется на ветру, пугая на грядках ворон, тоскливо летящих галок да кривую собаку, которая, задрав морду, протяжно воет совсем по-волчьи не то на свисающий с этого грустного лилового неба мешок, не то на зыбкую и обманчивую в своей печали луну.
Менелай Глаголь. «Недетские сказки» (1931)
Диалоги на кухне
– Счастье? – удивился Кончеев, шинкуя лук. – Дорогóй мой, жизнь – это процесс, цель которого тщательно скрывают. Но это уж точно не наше благополучие! Нас используют втёмную, мы только фишки в чужой игре, правила которой нам не удосужились сообщить.
От лука у меня заслезились глаза.
– Мы что, вроде карточной колоды?
– Вот именно! При этом наши роли меняются при каждой сдаче. То ты валет, то – король, то – дама, и козыри постоянно меняются: сегодня это пики, завтра – черви, так что остаётся лишь гадать. Кажется, только что ты побил мелкую карту, прихлопнул её, как туз шестёрку, и вот уже она ударила тебя. А всё потому, что это тобой перебивают взятки, чтобы после поддать и тебя, перевернув рубашкой вверх. Бывает, игроки кропят колоду или выбрасывают под стол, распечатывая новую. А, бывает, засалят так, что не различишь мастей. Подай, пожалуйста, соль…
Я подвинул солонку.
– Эти игроки – дьявол и Бог?
– Вовсе нет! Они сидят по одну сторону.
Александр Сергеевич Кончеев. «Великое неделание. (Буддизм для домохозяек)» (1965)
Первородный грех
Со времени нашествия галлов, когда гуси спасли Рим, в Вечном Городе раз в год устраивали праздник – по улицам проносили богато убранного гуся и распятую собаку, предки которой плохо сторожили Капитолий. Когда я слышу, что в моих страданиях повинны змея, яблоко и изгнанные из рая, то чувствую себя этой собакой, которая никак не может взять в толк, за что же её бьют.
Джузеппе Тьеполо. «Размышления о Св. Писании» (1647)
Любовь к жизни
Ахилл, знавший о своей смертельной участи под Троей, без колебаний отправляется к её стенам.
«Лучшие годы пропадают!» – услышал Сенека из уст гладиатора при императоре Тиберии, который редко устраивал кровавые игры.
На вопрос телеведущего: «Вы бы приняли лишний день жизни, стоящий гибели всему миру?» девяностолетний старик всплеснул руками: «И вы ещё спрашиваете!»
Гаврила Рябоконь. «О, времена, о, нравы!» (1978)
Великое переселение народа
У одного московского писателя был друг-зануда, из тех, кто, оказавшись на небе, не заметит райских кущ. У него всё валилось из рук, бутерброд падал маслом вниз, а время, как вода, утекало меж пальцев. «Выручай, брат», – ныл он до тех пор, пока не вяли уши, и тогда его хотелось прихлопнуть первой попавшейся дверью. Терять ему было нечего, он был гол, как сокол, и, когда писатель предложил ему переселиться в свой роман, согласился. «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал он, ныряя в сюжетный омут. Первое время он ещё терялся, но потом пообвык и стал требовать по утрам подогревать себе воду в бассейне, а на ужин готовить черепаховый суп. Он зажил припеваючи, но по привычке жаловался: «Я тут как кладбищенский сторож среди мертвецов…»
Очень скоро по Москве поползли слухи, что писатель устраивает судьбу, и к его подъезду потянулись очереди, пока он не переселил в свой роман всю Москву. Поначалу места в нём хватало всем, как в раю до изгнания. Москва обезлюдела, так что приди враги, они бы заняли её без боя. Но враги не пришли, опасаясь попасть в плен к чужеземному романисту. Для этого у них были соотечественники, строчащие пером, как швея иглой. Роман пух на глазах, грозя лопнуть, как мыльный пузырь. Заселив его, как адресную книгу, персонажи привычно толкались в троллейбусах, толпились на площадях, теснились в постелях. Они тащили в утопию свою мышиную возню, клопиные матрацы, превращая её ядовитыми сплетнями в серпентарий. И постепенно виртуальная жизнь прискучила москвичам не меньше их прошлых реалий. Многие стали проситься назад, возвращаясь в свои квартиры, они опять заселили Москву.
Никита Кобылянский. «Космос или хаос?» (1930)
Тело, погружённое в жидкость
К старости Архимед так растолстел, что его едва носили ноги. Раз, приняв ванну, он спустил воду, но выбраться не смог – дряблые мышцы не держали тела. Тогда он задумался. «Эврика!» – воскликнул он через некоторое время. Потом опять набрал воду и, уменьшив вес, благополучно выбрался наружу.
Ион Валеску. «Новые прочтения» (1971)
Всё и ещё половина
– Всё приходит с опозданием, – сетовал Иннокентий Шляпонтох, – женщина – когда уже не нужна, счастье – в дом, из которого выбыл.
– Тебя послушать, – смеялись над ним, – так в семейных делах понимают одни разведённые, а в житейских – покойники!
Но Шляпонтох не чувствовал иронии.
– Вот именно, – простодушно кивал он, – когда в жизни найден смысл, незачем жить.
Целыми днями он сидел перед зеркалом, разглядывая собственные зрачки, и гадал, почему бросил семью и работу. «Ездили, кому не лень», – вспоминал он жену, считавшую его неудачником, и строгое, вечно недовольное начальство. Жизнь проходила стороной, а Шляпонтох, засыпая на стуле, в который раз убеждал себя, что жить нужно жадно. Шли месяцы, мечты так и оставались несбыточными, а он, раскачиваясь на стуле, по-прежнему сверлил глазами запылившееся зеркало.
– Дырку просмотришь! – однажды взмолилось оно. – Лучше проси, чего хочешь.
Шляпонтох пожал плечами.
– Хочу, чтобы всё изменилось.
– Всё не получится: можно изменять либо себя, либо мир.
«Изменять себя – значит изменить себе», – подумал Шляпонтох, выбирая «мир».
И всё перевернулось.
«Мудрый живёт своей мудростью, а глупый – чужой глупостью», – вертелся он перед зеркалом. Но теперь над ним не смеялись, а внимательно слушали, ведь его отражали экраны телевизоров.
И Шляпонтох лил потоки банальностей, мстя за годы молчания.
Но вскоре ему надоело глумиться над миром. И он решил его изменить.
Изменить мир значило для Шляпонтоха спасти его. Но, как все спасители, начал он с обличения. «Это ли не уродливое мироздание? – разводил он руками. – Чтобы построить новое, надо разрушить старое, чтобы стать архитектором, надо побыть бульдозеристом!» Шляпонтох был убедителен, как молоток, и изворотлив, как уж. Но всё шло своим чередом, привычная инерция была сильнее его слов. «Чтобы пройти всё, нужно пройти половину, – подгонял Шляпонтох. – Нельзя понять, что такое чёрное, не видя белого».
И опять никто не трогался.
«Вам всё равно, куда вас ведут, – разочаровано махнул Иннокентий. – Вам безразлично, какой поклоняться иконе, и нет разницы, чью картину повесить – Рембранта или Шляпонтоха».
В зеркале, как во сне, умещался весь мир. Шляпонтох видел утопающие в смоге города, сожжённые войной деревни, видел миллионы глаз, прикованных к экранам, видел силу сильных и немощь слабых, видел супругов, у которых были общие дети, но разные кошельки, видел ложь, предательство, измену, видел себя, сидящего перед зеркалом, эпидемии, голод, багровую, как кровь, луну, видел горящие ненавистью глаза убийцы и другие глаза – тигра, раздирающего оленя. «Распятие на Голгофе, – думал Шляпонтох, – это извинение. Создателю сделалось стыдно за причинённые Им страдания, и Он пришёл их разделить».
А теперь мир принадлежал Богу-Шляпонтоху, и он начал кроить его на свой манер. Будто следы на песке, в его Вселенной исчезали империи и тирании, в ней прекращались войны, гибли дряхлые, изверившиеся цивилизации вместе с их кумирами, богами, представлениями о счастье, крикливыми апологетами и беспощадными критиками, на их месте расцветали новые цивилизации, в которых, однако, всё повторялось, будто в калейдоскопе. Первый век Потребления сменялся вторым веком Распятия, снующие всюду автомобили – экипажами с лошадьми, а те – парящими над головой звездолётами, бойких девушек в джинсах сменяли дамы под вуалью, но мировое древо по-прежнему поливалось слезами. Тогда Шляпонтох предоставил миру абсолютную свободу. Но и на этом пути не заслужил любви.
– Говорят, Создатель – наш отец, а, похоже, Он – отчим, – роптали недовольные. – Почему Всемогущий не даровал нам счастья?
– На то и свобода воли, – возражали им.
– А если воля в том, чтобы отказаться от свободы? – настаивали первые. – Нужна не свобода – нужно счастье!
Глаза, которыми мы смотрим на Бога, это те же глаза, которыми Бог смотрит на нас. И Шляпонтох со скукой слушал эти пустые споры о себе. «Мир – это пустой экран, на котором показывают дурное кино», – подумал он.
И ограничился тем, что переделал мир под себя.
В этом новом удобном мире его желания мгновенно исполнялись. Он имел деньги, власть, и, если раньше женщины обходили его за версту, то теперь от них не было отбоя.
– Мы эгоисты, – разглядывал он очередную избранницу, – вот ты сейчас задумываешься о том, кто рядом с тобой?
– А ты? – возвращали ему вопрос. – Ты думаешь о том, кто рядом с тобой?
– Нет, – эхом откликался Шляпонтох, – я думаю о том, кто рядом с тобой.
Однако его желания быстро иссякали, а осуществившиеся не приносили радости. И Шляпонтох, уже раскаиваясь в своем выборе, снова уселся перед зеркалом.
«Всё не существует без половины, – скривилось оно, – а половина – безо всего». «Весь мир – в голове, – по-своему перевёл его слова Шляпонтох, – изменить мир, значит, изменить себя». Теперь он всё больше понимал Бога, разделившего причинённые Им страдания, и думал, что единственная возможность для человека встать над собой – это повторить Его жертву. Только Шляпонтох решил пойти дальше – не ограничить мучения одним днем, а растянуть их на всю оставшуюся жизнь.
«На земле все искупители», – ударом кулака разбил он зеркало.
И медленно слизнул сочившуюся кровь.
Шляпонтох вернулся на работу, протирает штаны и считает дни до зарплаты. А его жена, с которой он снова сошёлся, потихоньку вздыхает: «Эх, Шляпонтох, Шляпонтох, все кругом гомо сапиенс, а ты – гомо шляпиенс…»
Янис Кубрайтис. «Красная зелень цвета морской волны» (2002)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































