Читать книгу "Вечность мига. Роман двухсот авторов"
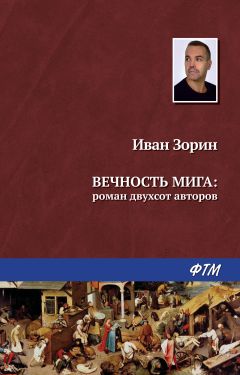
Автор книги: Иван Зорин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
О пользе книг
Прочитав Платона, критяне, следуя его наставлениям по устройству государства, поставили во главе своего города мужей учёных, известных своими трудами далеко за пределами острова, и они очень быстро довели страну до крайности, ибо между тем, как есть, и тем, как должно быть, всегда выбирали последнее. Кончилось тем, что возмущённые и отчаявшиеся граждане сместили их и, посадив на корабль, отправили на родину Платона, чтобы они там проводили свои опасные опыты, а учёные, отплывая из гавани, громко поносили глупость соотечественников.
Псевдо – Плутарх. «Греческие древности» (VI в.)
Бессонница
Вечером я лёг пораньше. Но сон не шёл. Я ворочался с боку на бок. Запутывался в простынях. Я закурил. Почитал скучную книгу. Снова погасил свет. Но заснуть не мог. Пересчитал всех баранов. В час ночи встал. Разбудил жену. Она посоветовала прогуляться, потом съесть мёда с тёплой водой. Я так и сделал, но уснуть всё равно не мог. Снова встал. На этот раз – к врачу. Тот без лишних слов дал сильнодействующее лекарство. Я проглотил на ходу, но опять не мог уснуть. Под утро я начал сходить с ума, думал о самоубийстве.
И тут проснулся.
Ласло Чер. «На шпагате» (1939)
Двойное дно
Свою подоплёку имеет и притча о Соломоне, двух женщинах и младенце. Как известно, на предложение разрубить младенца надвое и отдать им, оспаривающим материнство, по половине, одна крикнула: «Руби!», другая: «Пусть достанется ей!», и Соломон отдал дитя второй.
Однако вопрос глубже, чем кажется.
Существует галахическое правило (Yibbum), согласно которому бездетная женщина, овдовев, при живом девере (брате мужа) вторично может выйти замуж только за него, либо получить от него «отпущение» (Chalitzah). Если же у неё остался ребёнок, закон утрачивает силу.
Сказано, что пришедшие к Соломону женщины жили в одном доме, и, стало быть, вполне могли приходиться друг другу свекровью и невесткой. У свекрови не было мотивов убивать ребёнка – если даже он будет признан сыном невестки, то придётся ей внуком, что освобождает от действия Yibbum (внук в этом правиле приравнивался к сыну). Другое положение у невестки. Если ребёнка присудят свекрови, то он окажется ей деверем, и «отпустить» её (или жениться на ней) сможет только в тринадцать лет. Значит, следующие тринадцать лет ей придётся провести в одиночестве! Соломон сообразил, что у одной женщины есть причина лгать, а у другой нет. Он сообразил и большее – если ребёнка присудить невестке, то в глубине она будет знать, что нарушила Yibbum, а если дитя убить, вопрос деверя отпадёт, к тому же ей не придётся воспитывать чужого ребёнка. Разоблачая её, Соломон одновременно пошёл ей навстречу, но, когда она крикнула: «Руби!», поразившись её жестокости, изменил решение.
Соблюдая закон или в наказание он отдал младенца свекрови?
Александр Шапиро. «Мировая история на иврите» (1888)
Мужское воспитание
Сразу после войны женский коллектив нашего детского дома разбавил К., боевой офицер, разведчик. Говорили, что по части дисциплины он зверь. Была зима, нам предстояла экскурсия на замёрзший военный завод, и мы, мальчишки, «для согреву» разжились бутылкой вина. В классе долго решали, кто пронесёт её на завод: дело-то рисковое. И тут незаметно вошел К. Мы замерли. А он указывает на бутылку: «Если вас поймают, боюсь, воспитательницы этого не поймут. Доверьте мне, я в конспирации собаку съел».
Валериан Тараруй. «Легенды педагогики» (1958)
Альтернатива
В «Смутном времени Московского государства» историк Костомаров пишет о тёмном, невежественном народе начала XVII века, забитом, замордованном «лучшими» людьми. Очевидно, он сравнивает его с народом своего времени. Однако спустя столетие мы хорошо представляем крестьянский мир в эпоху Костомарова – крепостничество, барщина, оброк. Значит, либо прогресс нравственный, общественный всё же есть, либо историки тянут одну и ту же песнь, считая свой век вершиной человеческой цивилизованности.
Алевтина Брюховецкая-Вовк. «Суждения об истории» (1961)
Другой, тот же самый
Утром предстояло защищать диссертацию, защищать годы, искалеченные архивной пылью, библиотеками, кафедральной грызнёй и бессонницей.
Кабинет уже наполнил вечер, повесив за окном ущербную луну.
В детстве он мечтал стать знаменитым, как сгинувший на войне дед, знавший мировую историю лучше, чем свою. Так что завтра придётся защищать и фамильную честь.
От вспыхнувшей лампы гулливерами метнулись тени. Он зажмурился и подумал, что его собственная история бедна событиями, безразличный к сегодня, он замурован во вчера. Он носит чистое платье только потому, что избавлен от грязи. И дед, видно, втайне мечтал жить всерьёз, раз ушёл добровольцем. Судьба стучит в дверь каждого, но кто откликается на зов?
Взяв с полки книгу, он пробовал читать. И опять думал, что культура не столько учит, сколько насилует. Книга захлопнулась. «Дело случая, – теребил он рыжую бороду, – кем бы я был, сложись всё иначе?» С трудом выбравшись из кресла, он принял снотворное.
Уже раздевшись, вспомнил, что завтра ему понадобятся наличные. «Сниму утром», – отмахнулся он и, мелькнув в зеркале, подумал, что изнутри себя невозможно увидеть.
Стемнело. Уныло моросил дождь. На ступеньках он ленивой собакой сворачивался в лужи. Пустеющий зал банка заливал фиолетовый свет. «Точно в мертвецкой», – мелькнуло у него. Девушка в окошке с надписью «КАССА» пересчитывала банкноты, и пара «С» конвоировала ползущую по стеклу муху. Сбоку в кресле чьи-то короткие пальцы развернули газету. Он, точно сомнамбула, подошёл к окну – муха, жужжа, взлетела – но вместо бланка выдернул у девушки мятые купюры. И тут же всё смешалось: изумлённое лицо кассирши, рывок человека из-за газеты, холод кафельного пола, надрывный вой сирены. А потом были наручники, обжигавший лицо дождь и тряска милицейского «козла».
Им овладело странное безразличие, которое выветрилось только в участке, куда его втолкнули, разомкнув сталь на руках:
«Ограбление банка, капитан!»
На стенах лупилась жёлтая краска, мерно жужжал пропеллер. Толстый капитан раскачивался на стуле, скрестив пальцы на животе. «Документики», – потребовал он неожиданным фальцетом. Тот, кому инкриминировали разбой, собрался было ответить, что, спускаясь под дом, паспорта не берут, но тут стриженый ёжиком крепыш, которого он поначалу не заметил, ухмыльнулся, обнажая острые зубы: «Э, да это Савелий Глов!»
Он оторопел. На миг ему почудилось, что он спит, накрывшись с головой душным одеялом.
Капитан, распорядившись снять отпечатки, пересказал досье Глова:
«Савелий Глов, клички: Левша и Рыжий, – отметил свои десять лет кражей, пятнадцать – грабежом, двадцать – убийством. Он стал кумиром своего квартала после пьяной драки. Заносчивый чужак вынул нож, Глов разбил „розочкой“ бутылку. Их обступили кольцом, а расступились, когда чужак уже захлебнулся в крови. А потом булыжные мостовые сменил лесоповал, костюмы с иголочки – серый ватник. После освобождения – опять грабежи, разбои, недолгое скитание по „малинам“ и – новый срок. Лагеря, жестокие разборки и законы блатных сопровождали его вместе с клеймом „особо опасного“. И наконец, убийство конвойного, побег в тайгу и смертный приговор заочно».
Тот, кому предлагали роль вора в законе, расхохотался: «Дело шьёшь, гражданин начальник!» Книгочей, сносно владеющий феней, он подумал, что поколения зэков оттачивали блатной жаргон так же старательно, как и заточки.
«Отпечатки совпали, – доложили капитану, – это Глов». Он открыл рот, но слова не наполнялись звуком.
Капитан, не размыкая пальцев на животе, кивнул на стриженного ёжиком иуду и приказал увести обоих.
В камере навалилась тьма, заломило виски. Он медленно сполз по стене. Разрозненные фрагменты собирались в мозаику: дурные предчувствия, диссертация, банк, его ошибка, зловещий силуэт Глова. За решёткой тускло мерцала лампочка. Он глядел на неё и думал, что сиамским близнецам – сидящему сейчас в камере и тому, кому завтра предстоит защита – никогда не встретиться, что время в их внутренних мирах течёт в разные стороны. Или тот, другой, ненастоящий? Или он лишь пригрезился? Тогда он стал молить Бога, чтобы Он разрубил близнецов. И Бог внял его мольбам.
«Извиняй, кореш, что заложил, – прошептали рядом, – всё равно бы раскололи».
Крепыш провёл пятернёй по голове, собираясь с духом.
– Нам обоим вышак ломится, а легавых – раз два и обчёлся… Соображаешь?
«Яснее ясного: вместо диссертации придётся защищать жизнь», – подумалось ему.
– Вот перо – протянул крепыш. – Иди, покличь их, Левша.
Савелий Глов, помедлив, взял нож и, оскалившись, сделал в темноте шаг навстречу Судьбе.
Дмитрий Широкорад. «Автопортрет в натюрморте» (1982)
Все там будем
* * *
Жил некогда в Московии человек, отражавший собеседника, как зеркало. С бойкими был боек, с заиками заикался, с косноязычными и двух слов не мог связать. Самого его не существовало, он рождался лишь в разговоре, как тень рождается от вещи. И как солнце, уничтожающее в зените тень, его убивало молчание. Возраст невероятно развил его талант: имитируя слова и жесты, он научился схватывать внутренний образ человека, как фотография ловит внешний. С глухими он был глух, с немыми – нем, с торговцем побрякушками становился торговцем побрякушками. «Каждому в удовольствие послушать себя», – оправдывался он, впитывая собеседника, как губка. Он мгновенно переваривал и выдавал портрет, в котором штрихами учитывались все присказки, паузы, междометья, интонации, его метаморфозы были столь же поразительны, сколь и чудовищны. Его дар перевоплощаться открылся рано, когда у отличавшихся занудством учителей он делался тугодумом, а у быстро мыслящих схватывал на лету. Как-то раз учитель заболел, и он с успехом заменил его, а вскоре – и весь школьный коллектив. Он переходил из класса в класс и становился то Петром Ивановичем, географом, то Иваном Петровичем, историком, он был гением лицедейства, и все актёры казались перед ним ряжеными. Когда он заболел, то привычно стал своим лечащим врачом, когда умирал – причащавшим его священником, так что со стороны казалось, будто он исповедовал себя сам. И все мучительно гадали, кем он станет на Страшном Суде. Ведь если он попадет в ад, будет второй сатана, а если в рай, то опровергнет единобожие. Этот вопрос наделал много шума, и церковники, в конце концов, решили, что он избежит судилища: прожив никем, разменяв свою жизнь на десятки чужих, он растворился в них водой в воде. А значит, судить его, что бумагу, терпеливо несущую каракули. «Его грехи – это пятна от сальных пальцев, – говорили священники, – его раскаянье – это молитва о прощении чужих пороков».
Но Синод ошибся. Этот человек всё же предстал перед Судом. Чтобы не сделаться участниками комедии, его судили заочно, и в наказание за пренебрежение свободой воли он получил место младшего писаря небесной канцелярии, где исполняет всю черновую работу: ведёт протоколы, подчищает кляксы и повторяет за архангелом приговор.
В подражание небесной братии у него выросли крылья.
* * *
Для Агасфера время текло двумя рукавами, и любую ситуацию он переживал дважды: мог один раз сказать «да», а в другой «нет», мог жениться, оставаясь холостым, и напиться, не беря в рот спиртного. За ним хвостами тянулись два прошлых, которые он постоянно путал, хотя и говорил при этом, что прошлое, как нога: отрежешь – упадёшь. Он прилаживался к нашему времени то одним рукавом, то другим, сопрягая события по вкусу. Ставя один раз на красное, а в другой на чёрное, он всегда выигрывал.
В его памяти любой факт двоился, выступая в паре со своим отрицанием, поэтому в ней ничего не держалось. Для него также не существовало правды и лжи: то, что в одном времени было правдой, в другом оказывалось ложью.
Вечный Жид всегда мог исчезнуть, перебежав, точно крот в соседнюю нору, на запасную колею времени. Так, если смерть поджидала его на перекрёстке, он благополучно огибал его, имея под рукой два русла времени, оставался бессмертным.
А когда настал конец времён, и на Страшном Суде спросили, что он думает о своей праведности, он ответил: «Правду водят на коротком поводке, и она лает по приказу хозяина».
Его приговорили набивать себе шишки, спотыкаясь на ухабах несовершенных ошибок и умирать всеми смертями, которых он избежал.
* * *
Одного сутягу спросили, зачем он проводит жизнь в залах для заседаний, разглядывая скучные лица присяжных? Скривившись, он задрал вверх палец: «Практикуюсь перед Последним Судом!»
Гаврила Христофорович Архангельский. «Семь нот трубного гласа» (1899)
От противного
Я не родился Пушкиным, женщиной, французом. Я не открыл Америки, не изобрёл велосипеда, не посадил дерева, не учился в иезуитской школе, не плавал вокруг света, не стрелял в голубей.
Я не гомосексуалист, но мне не везло с женщинами. Я не атеист, но не верю в Бога.
Я не говорю по-испански, по-японски, по-ирокезски и на северном диалекте фарси. Я не был в Китае, в России дальше Урала, в Африке ниже экватора, не жил в монастыре, горном ауле и американском Санкт-Петербурге.
От сумы и тюрьмы я не зарекался. Не лез из кожи и не рвался во власть, не отдавал честь и не тянулся во фрунт, не мыл золото, не валил лес и не служил на побегушках. Я не погиб под Севастополем, Бородином, Полтавой, не сложил голову в революцию и гражданскую войну, не сражался за правое дело, не отдавал силы левому. Меня не повесили, не расстреляли, не сослали на каторгу. Я нигде не состоял и ни в чём не участвовал.
Я не молод, не стар и не бессмертен.
И живу, не зная зачем.
Данила Хмарц. «Антибиография» (1936)
Пятая заповедь
После того, как свела мужа в гроб, она лишила меня законных метров. С тех пор я мыкаюсь по углам, а она живёт, как крыса в норе, в огромной полутёмной квартире. Чтобы иметь крышу над головой, мне пришлось рано жениться. Но она преследовала меня и в образе жены. В их отношениях, которые походили на бой с тенью или перебранку с зеркалом, мне отводилась роль буфера. Вытерпев полжизни, я развёлся. Теперь она рада видеть меня в гостях, чтобы с порога присосаться пиявкой. У неё мёртвая хватка, и я часами выслушиваю, что последние тридцать лет на свете нет человека больнее её. «Всё тебе достанется», – выговорившись, выпроваживает она меня. Подсластив пилюлю, она хлопает дверью, а я ещё долго стою на лестнице, слушая её любимый сериал. Между тем, я размениваю пятый десяток. «Ты разрываешь мне сердце, – вздыхает она по телефону, когда я попадаю в больницу. – А оно у меня слабое…» А потом, сравнивая с моими, долго перечисляет болезни, словно послужной список. Уверен, что на моих похоронах её не будет – врачи запретили ей нервничать.
Я знаю, убей я её, Господь простит мне все грехи. «Ты избавил мир от крысы», – скажет Он, сажая меня одесную. Но в Бога я не верю. К тому же – трус. Ночами в детстве я представлял, как душу её подушкой, а она, прокусывая её, как крыса, вцепляется мне в руку. А очнувшись от этих мыслей, я слышал за стенкой ровный храп.
К тому же, она крупнее – мне не справиться.
Множество раз я пытался объясниться – легче с шайкой убийц. Зато теперь моя жизнь наполнилась смыслом, в ней появилась цель – пережить её! Это трудная задача – в Москве женщины стареют рано, зато живут долго.
И каждую ночь я вижу сон. Плащ, топор – всё в крови! Какое блаженство! Жаль, оно будет недолгим, я уже вызвал милицию. И тут, – о, ужас! – я понимаю, что она продолжает жить – во мне!
Интересно, учтёт ли суд, что я – сын сумасшедшей?
Касим Громкий. «Мама, милая мама!» (1980)
Много шума из-за любви
Одна увядающая женщина-режиссёр включила раз телевизор и влюбилась в исполнителя эпизодической роли в третьесортном сериале. Он был намного моложе, и она долго думала: чем его привлечь? От покойного мужа ей достались роскошные апартаменты, где она держала с десяток комнатных собачек. Заложив квартиру, женщина объявила, что готовит новый фильм. Она уже давно не снимала, и ей пришлось сорить деньгами, чтобы привлечь внимание коллег. На студиях пошёл звон, стервятниками слетелись безработные «киношники». Вскоре дело завертелось, утвердили сценарий, набрали съёмочную группу. Все претендовали на главную мужскую роль. Но женщина села на самолёт и, разыскав избранника, который был из другого города, предложила роль ему.
У актёра уже несколько дней было пусто в желудке, но он, боясь продешевить, заломил цену. Подгоняя события, он выдумал предстоящие гастроли и предложил заключить «быстрый» контракт, сведя к минимуму время съёмок. Денег для такого гонорара у женщины не было. А торговаться – значило всё испортить. И она пустила в ход свои чары. Они не подействовали. Мужчина остался непреклонен, решив не смешивать эмоции с работой. А возможно, он так ничего и не понял. И женщина вернулась ни с чем. Однако вспыхнувшая у неё страсть так же неожиданно угасла. Чего не скажешь о страстях вокруг, они разгорелись нешуточные. Когда она объявила, что проект закрыт, на неё подали иск, требуя денег за начатую работу. В результате все остались с носом. Женщина до сих пор выплачивает проценты по закладной, актёр смотрит, как другие разъезжают по гастролям, труппа таскается по судам, выколачивая деньги. И только собачки, не подозревавшие о грозящей им участи, не стали бездомными.
Ульяна Берендюк. «„Звёзды“ падают» (2010)
Улыбки Резак-бея
Ночами в горах шёл дождь, и аул окутывал сизый туман. В саклю хмуро плыл рассвет, и маленький Резак просыпался угрюмым, уткнувшись в колыбель. Его губы были плотно сомкнуты, как ворота во дворе, когда по улице скакали чужие всадники, а вокруг свистели пули. Он сосредоточенно смотрел, как мать взбивает тесто, скатывая хлеб в пахучий мякиш, смотрел так пристально, что видел себя его частью, а потом отворачивался в угол, где было слюдяное окно. Но постепенно тусклый свет делался ярче, тучи расходились, поползло солнце, и вместе с ним на лице Резака играла утренняя улыбка.
Как и все горцы, Резак вырос пастухом, став попутно конокрадом и разбойником. Его бурку узнавали издали, его ружьё не ведало промаха. Он грабил караваны, совершал набеги и от таких же, собравшихся в узком ущелье сорвиголов, получил титул бея. Но путь отчаянных короток, и однажды Резак-бей попал к врагу. Пленные ютились на клочке ненавистной равнины, отгороженные частоколом с торчащими головами товарищей, а крышей им служили звёзды. Раз пьяный охранник вошёл с перекошенным лицом к пленным и стал резать их, как баранов, огромным кухонным ножом. «Как верёвочке не виться, а кончик будет», – приговаривал он сквозь стиснутые зубы, разваливая горла от уха до уха. Пленные лежали вповалку и, забыв былую дерзость, скулили, пока не замолкали. Когда подошла очередь Резак-бея, он встал в полный рост, встречая смерть улыбкой, которая повисла в уголках губ, точно платье на вешалке.
И смерть не посмела перешагнуть через его дневную улыбку.
А через много лет отец бесчисленного семейства Резак-бей умирал. Его лицо стало морщинистым, как изрезанный лиманами морской берег, оно хранило отпечатки всех болезней, всех грехов и всех искушений. Оно было таким же угрюмым, как в детстве, когда шёл дождь. «Я страдаю бессонницей, – говорил он толпившимся у постели нукерам, – никак не могу умереть…» И скупая слеза смывала на его лице соль, оставленную слезой предыдущей.
Но небо упрямо не принимало его. Перечисляя в молитвах свои разбойные подвиги, Резак-бей мучился до тех пор, пока не вспомнил всех погубленных, пока не претерпел их страдания и не умер их смертями. А когда сомкнул глаза, на его лице проступила вечерняя улыбка, приплаканная им в своём покаянном сне.
Шамиль Бабахан-оглы. «Кавказские саги» (1902)
Истина – в словах!
– Как думаешь, где мы будем после смерти?
– Полагаю там же, где и после жизни.
Роман Чумарь. «Тайны гламура» (2002)
Другое кино
– Как в дурном сериале, – махнул рукой моложавый мужчина за столиком. – Работа монотонная, скучная, тянется изо дня в день. Неужели я родился для того, чтобы продавать одежду? Стоило ли учить про Цезаря и всемирное тяготение, чтобы стоять за прилавком? Зачем было столько чувствовать, постигать? Ради этой глупой роли? Согласитесь, чудовищно…
Он уставился на скатерть.
Сосед разминал пальцами сигарету.
– Как посмотреть, – чиркнул он спичкой. – После школы меня призвали, и в армии я охранял зэков под Красноярском. Красноярск не Краснодар, зимой – минус тридцать, валенки, полушубки, ушанки опущены. Раз грузили мы заключённых в два «автозака» – фургоны с брезентовым верхом. Их должно было быть три, но один застрял по дороге. Блатные забрались, остались так называемые «опущенные» – им по воровским законам полагается отдельная карета, сидеть с ними рядом «западло». Что делать? Холод собачий, начальство кричит. Ну, стали их овчарками подтравливать, прикладами в машины загонять. А их оттуда выбрасывают, бьют ногами в лицо. Я в оцеплении стою, точно в фильм о фашистском концлагере попал – лай, матерщина, кровь на снегу. Мне девятнадцать, ещё вчера про «милость к падшим» учил. Едва не разрыдался. И что хуже, чуть стрелять не начал. Уже «калаш» с плеча сдёрнул, да старшина доглядел: «Ты чего, парень? Из-за кого стараешься?» А тут, слава богу, кое-как затолкали зэков, поехали… Но сцена эта потом долгие годы снилась, вот вам и сериал.
Алексей Ситников. «В ресторане» (1995)









































