Читать книгу "Вечность мига. Роман двухсот авторов"
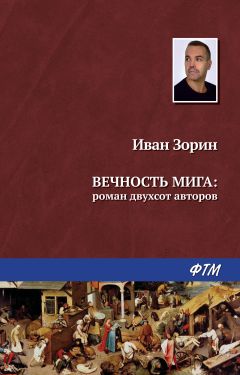
Автор книги: Иван Зорин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Казус
В одной местности жили два рыцаря: Жак Лаполье и Жан Палопье. Похожих, как капли, их вечно путали. Да они и сами часто не могли разобраться, кто из них кто. «Не Лаполье ли на меня смотрит?» – гадал перед зеркалом Палопье. «Не Палопье ли спит с моей женой?» – ворочался в постели Лаполье. Женились они в один день, в одной церкви, но после свадьбы жёны их всё время путали, так что завели общих детей.
Лаполье был праведник, Палопье – грешник. Но кто закончил дни на эшафоте, а кто в монастыре, осталось тайной. На том свете одному присудили рай, другому – ад. «Это не я!» – завопил тот, которого тащили черти. «Он, он!» – закричал другой, которого вели ангелы. Их поменяли местами. «Это ошибка!» – опять возмутился окружённый чертями. «В небесной канцелярии?» – возразил ему сокрытый ангельским крылом.
Кончилось тем, что обоих отправили в чистилище.
Юсташ де Мариньи. «Баллады провансальского трубадура» (1234)
Вселенные из рукава
В одной из моих вселенных, Копронии, всё вращалось вокруг дерьма, а золотари были в таком же почёте, как у нас банкиры. Фекалии хранились у копронийцев замороженными и распиленными на кирпичики, будто золото. Своё дерьмо ценилось дороже чужого, а человеческое не шло ни в какое сравнение с коровьим или птичьим. Это служило причиной подтасовок, навоз и помёт лидировали среди подделок, заполонив рынки, а махинации с дерьмом приобрели такие размеры, что образовался целый класс экспертов, устанавливающих его принадлежность. Они никогда не оставались без работы, как наши юристы.
«Дерьмо» в копронийском языке приобрело все радужные оттенки. «Какой у вас стул?» – означало «Как здоровье?»; «Какого цвета кал у детишек?» – было проявлением вежливости, а «Запоры до конца дней!» – страшным проклятием. «Говнюк!» – восхищались копронийцы, «Лёгких вам испражнений!» – желали они на именинах. Туалеты служили копронийцам храмами, они превосходили размерами дома, поражая роскошью. Золочёные унитазы, устроенные так, чтобы не пропала ни одна драгоценная капля, просторные кабины, в которых можно было проводить целые дни. Страшным недугом считался геморрой, больных им презирали мужчины, от них отворачивались женщины. «Хуже, чем оводов рой», – было у копронийцев эвфемизмом «геморроя», назвать вслух который боялись. Дерьмом копронийцы «подмазывали» вороватых чиновников, дерьмом награждали за заслуги и воевали тоже из-за дерьма. Но они не были копрофагами, просто в душе они так и остались детьми, ибо первое, чем мы обладаем, – это собственные экскременты.
Вселенная, как женщина, – у каждой свой аромат.
В другом моём детище, Слепонии, упразднили знания. «Наш бог – неведение!» – стало там заповедью, предписывавшей во всём уповать на создателя. «Ему виднее!» – уверяли её обитатели, не зная толком, кому они поклоняются. Но я не успевал за всем уследить – едва отворачивался, как слепонийцы попадали в беду. «У меня только два глаза, и на затылке их нет!» – оправдывался я. Но им было наплевать. Их бесконечные жалобы грозили свести с ума! И, в конце концов, устроив всё по земным канонам, я пустил дело на самотёк, а сам устранился.
Микола Желтопряд. «Если бы Богом был я…» (1988)
Любовь
Он был женат, когда встретил её – как лань, гордую, с миндалевидными глазами. Он был привязан к жене и раздирался, как паром между речными берегами, метался, как ветвь чинары на ветру, когда бьёт в крышу сакли.
– О, дервиш! Я сгораю, как засушливая степь, как искра над костром дымчатым, как снежные горы, объятые солнцем! Кровь переполняет мои жилы, но кровь не знает, куда бежать! Что делать? Уходить? Убить её? Умереть? Во имя Аллаха, скажи, о, мудрейший! О-о-о!!!
И я сказал:
– Уходи! Чувство – не пёс сторожевой, страсть – барс клыкастый, с вздыбленной лунной шерстью – на цепи не удержать!
– А грех? Грех же, о, дервиш!
– Грех? Грех – оборотная сторона любого поступка. Как тёмную сторону у луны, кто увидит?
И послушался он, и опять был женат, когда встретил её – ясноокую, трепещущую, с лебединой шеей.
– О, дервиш! Её руки, как облака молочные, и я делаюсь, как луна, когда обнимают они – пьяным, дрожащим, беспомощным… Её губы – кумыс дурманящий, голос – масло кунжутное, а речь – песни ангельские! Сердце моё, как небо, вспоротое молнией! Как быть? Вырвать из груди сердце? Разъять, разрезать, разделить себя кинжалом остро отточенным? Уходить? Остаться? О, помоги, воплощение мудрости! О-о-о…
И я сказал:
– Уходи! Чувство – не арык на поле хлопковом, не пересохнет летом засушливым, жарким, выжженным! Страсть – река горная, пенистая, бурная, как её остановишь? Сделаешь запруду – прорвёт, плотину выстроишь – уничтожит, разобьёт, разметав камни булыжные!
– А долг? Клятвы? Обещал же я, о, дервиш!
– Обеты ветхие – что посудина в море бушующем, не эта волна перевернёт, так следующая.
И послушался он, и в третий раз был женат, когда встретил её – лёгкую, как ветерок на лугу весеннем, с голосом, как родник горный, и волосами, как ночь.
– О, дервиш, дервиш! Нет мне места среди людей! Цветы полевые не милы мне! Птицы небесные не милы мне! Звери лесные не страшны мне! Меня поразили стрелы огненные, и умираю я, как стяг, врагами разодранный, как лепёшка разделённая, разломанная! Волосы, волосы, умытые кислым молоком, смоляные, струящиеся, не дают покоя! Манят, манят, как хмель! Опять уходить? Нет? Нет! Закрой мне глаза перстами морщинистыми, потому что я уже умер! Ибо жизнь без любви – полжизни, треть жизни, миг один! Она, что кобылица без кумыса, что трава порыжевшая, примятая, сорная. Будто после кибитки вольной, резвой, скачущей, отобедал в чайхане, и остались на столе крошки да пятна мутные в кувшине опорожнённом! О!..О!..О!..
И тронул я ему веки.
И пробудился он – точно халат сбросил.
И увидел на ложе свою жену – с миндалевидными глазами, шеей лебединой и волосами, как ночь.
И подумал: ай, сон, сон! Жужжит, как пчела в день полуденный, а мёд собирает в сотах далёких, неведомых.
И рад был несказанно, и любил жену свою столько раз, сколько во сне являлась.
Тимур-Зульфикар. «Золотые притчи дервиша» (1410)
Что время, что пространство
Один человек вышел из родного селения. Он шёл уверенной поступью, его провожали знакомые, желавшие доброго пути. Он отвечал шутками и всюду встречал улыбки. Вслед ему махали платками, о которых он быстро забывал за разговорами с попутчиками. Просыпаясь, он видел рядом с собой счастливых женщин, а перед сном любовался новым пейзажем и солнцем, плывущим за далёкие горизонты. Но постепенно места делались глуше, стол и кров попадались не на каждом шагу, и редко встречались те, кто понимал его речь. А дорога уводила всё дальше. Он уже и сам не знал, зачем ступил на неё, но продолжал стаптывать сандалии, упрямо идя вперёд, точно его подталкивали в спину невидимые ладони. Редкий путник теперь кивал в ответ, а чаще – разводил руками, выслушивая жалобы, которых не понимал. И человеку всё стало чуждо: и горизонты, и странники, и слова. Он подумал, что где-то ошибся поворотом, выбрав не тот путь. Наконец, его окружила пустыня. Он плакал от одиночества, разговаривая с собой на забытом языке, и воспоминания становились старше его самого. Он вспоминал родное селение, отцов, покинувших свои дома, чтобы стать гостями в чужих, видел дедов, говоривших на одном им понятном языке, ушедших в пустыню и оказавшихся один на один с её великим безмолвием. Человек попытался объяснить себе цель путешествия, уверяя себя в его необходимости, слушал слова, от которых давно отвык, и уже не понимал себя.
Ему стало невыносимо. Он протёр кулаком глаза, оглянулся и вдруг увидел, что никуда не выходил, что всё время прожил в родном селении, в котором уже не осталось тех, с кем можно услышать одинаковую тишину.
Человек состарился: теперь кусок хлеба в чужом рту казался ему лёгким, а собственная шляпа – тяжёлой…
Ермолай Нибальсин. «Притча притчей» (1890)
Дело в подходе
Два профессора с философского факультета едут в поезде.
– Христос первый подошёл к религии диалектически.
– А Гегель первый диалектически подошел к христианству.
– А, знаете, мой студент Миша диалектически подошёл к Гегелю.
– Знаю. А вы в курсе, что моя студентка Маша подошла к Мише?
– Он подошёл ей как муж?
– Да, но смотрите, поезд уже подошёл к станции.
– Отлично! Подошло время обеда…
И разговор подошёл к концу.
Лев и Николетта Шестяевы. «Фольклор московского университета» (1912)
Легенда об отверженном апостоле
Раз заявился в Мещеру проповедник. Он был сыном деревенского башмачника, и многие помнили его ребёнком. В церковно-приходской школе он слыл смышлёным. «Цитировать – значит корчевать пни, не рубя леса», – как-то заметил он. А после исчез. «Проматывать деньги покойного батюшки», – судачили злые языки. И вот он вновь объявился, помыкавшись по свету, нахватавшись потасканных истин. С воспалёнными от бессонницы глазницами он бродил по городу, стучал посохом в дома, уверяя, что проникает в души их владельцев всевидящим оком. «Спасителя распяли на кресте времени, – озадачивал он обывателей. – И Он попрал его!» «Да-да, – учил он, – символ креста – это перекладина, перечёркивающая столб времени». Но мещерцы не опускались до полемики, крутя пальцем у виска. «Мир висит на нитке, а думает о прибытке!» – опрокидывая мясные лавки и расталкивая покупателей, пугал он баб на базаре. Но те лишь зевали, едва не сворачивая скулы, да крестили перекошенные рты. Власти терпели безобразные выходки, не желая связываться. «Едва от одного избавились, а тут…» – шептались по углам, вспоминая пророка из скита. Тот сидел в яме и каркал на весь свет, что не выходит наружу из страха ослепить мещерцев своим божественным ликом. «Вы увидите в нём, как в зеркале, свои грехи, которые застят глаза!» – грозил он, требуя женщин и вина. Его слушали, как раскаты грома, которые грохочут вдалеке. «Ваши мерзкие глаза не в силах увидеть моего дивного сияния!» – истошно вопил старец, когда его за уши вытаскивали из ямы. В разоблачённом мошеннике все узнали скотника с конюшен местного помещика. Тот по жалости заступился за старика, сунул кому надо, и дело замяли. И вот теперь ни полицмейстер, ни городской голова не хотели опять сесть в лужу.
А в это же самое время в Мещере объявился и антихрист.
– Людвиг Циммерманович Фер, – представился он хозяину гостиницы, заняв скромные апартаменты купцов средней руки.
– Вы что же, из немцев? – спросил его тот, недоверчиво косясь на раздвоенный, как копыто, подбородок.
– Из немцев, из немцев, – рассеянно кивнул падший ангел, доставая из нагрудного кармана визитку. – Из поволжских…
На клочке бумаги чёрным по белому значилось: «Лю. Ци. Фер». Сатана, надув щёки, ходил по городу, как по музею, ко всему присматривался, но ничего не трогал. «Будущее зыбко, прошлое размыто, – бормотал он, подавая на паперти пустой кошелёк, в котором вдруг оказывалось куриное яйцо. – Один затевает игру, где оказывается пешкой, другой ставит спектакль в театре теней». Когда один нищий, безногий и горбатый, попытался разбить яйцо, оттуда внезапно вылупилась карлица с огромным, перевешивающим тело бюстом и стала похотливо таращиться. «Встань и иди!» – проворковала она, маня калеку ручкой, но тот лишь пялился на неё, как баран на новые ворота. «Раб привычек, – сокрушённо вздохнула карлица, и улыбка её сделалась пресной, как маца, – привык глазами совокупляться». Увечный застыл, как пришпиленный. Карлица приблизилась на локоть и заорала, как иерихонская труба: «Хватит дармоедничать, работать пора!» Ног у нищего так и не выросло, зато, когда его от испуга хватила кондрашка, у души выросли крылья.
«Человек рождён для счастья, как птица для полёта», – услышал раз Людвиг Циммерманович из окна мещерской школы. И, не удержавшись, вошёл. «Сравнение пришито к языку, как пуговица к штанам, – глубокомысленно изрёк он. – Что звучит на одном языке – нелепо в другом. „Птица рождена для счастья, как человек для ходьбы“, – переводит ваши слова чайка, надрываясь в вышине от хохота. – Сатана сделался печальным. – Поэтому диалог между небом и землей – как разговор женщин: предписанное сверху опускается невнятицей, а молвленное внизу поднимается болтовнёй…».
Между тем апостол продолжал смущать умы.
– Смерть связывает концы с концами, – разглагольствовал он, важно раздуваясь, готовый лопнуть от переполнявшей его правды. – Она связывает всё со всем…
– И панихиду со свадьбой? – выкрикнули из толпы.
Апостол воткнул в небо указательный палец.
– Свадьба – это панихида смерти, – было видно, что его не раз ловили в сеть слов, – а панихида – свадьба смерти.
Кончилось тем, что апостола отвели в участок.
– Какая на нём вина? – спросил околоточный. – Я не вижу.
Но земские, которых апостол уже достал своими откровениями, кричали:
– Упеки его, упеки!
И апостола, смирно сидевшего в каталажке, приговорили к гражданской казни: раздели донага и, привязав на площади к столбу, били плетьми.
– Ну что, чувствуешь на спине занозы? – мстительно скалились мясники на кровавые рубцы. – Это и есть столб времени, как ты учил!
А портные уже перебирали на свет его одежды, в которых дыр было больше, чем материи.
– Все доживают до предательства, – беззвучно шевелил апостол растрескавшимися губами.
А между тем с краю толпы незаметно пристроился Людвиг Циммерманович. Он сморкался в цветастый платок и безразлично смотрел на происходящее. Ливмя ливший дождь умывал ему руки, он брезгливо морщился и шептал, сворачивая трубочкой губы, будто пил из чайника: «Опять без меня управились…» И его прошиб пот, такой крепкий, что вокруг все расступились, а стоявшая рядом лошадь понесла с места, закусив удила.
А апостола сослали в Сибирь и сразу забыли. Только пучеглазый мальчишка провожал его из казённого дома по этапу.
– А откуда ты знаешь? – грызя заусенцы, пытал он, забегая вперёд арестантской колонны. – Про время и крест…
– Я был там, – стряхнув капли с ресниц, солгал апостол, потому что мальчишек нельзя обманывать.
Евстафий Горелич. «Мещерская старина» (1960)
Окно в литерату.ру
«Он живёт один в огромной квартире, доставшейся от жены. Двадцать лет при смерти. Болеет с душой, как другие работают. С утра до ночи у него толпятся врачи, а соседи приносят лекарства. Он пережил десяток таких помощников, но отказать ему невозможно. Не выдержав, его дочь выскочила замуж, уехала в провинцию, выписавшись из квартиры. „Сумасшедшая! – говорит он. А когда заводят речь о её возвращении, отмахивается: – Ей там лучше“. Дочь вскоре развелась и мыкается теперь по съёмным квартирам. „Пропиши хоть внуков“, – просит она. „Как у тебя язык повернулся! Дай мне спокойно умереть, и всё будет ваше!“ А соседей уверяет: „В провинции детям лучше, у нас вырастут наркоманами“. „Мама, когда дедушка умрёт?“ – спрашивают дети, переезжая на очередную квартиру. И действительно, когда сдохнет крыса? Все ждут его смерти. Но его не берёт ни одна зараза!
О, Господи, где же справедливость?»
Ниже, в целях правдоподобия, приводился адрес.
«Рассказ как рассказ», – подумал я, прочитав его на литературном сайте. И мне захотелось его усилить. Два дня сюжет не шёл из головы. На третий я взял нож и отправился по адресу.
Когда я пришёл, у подъезда уже толпились полицейские, а мимо несли тело под окровавленной простынёй.
Кто-то дописал рассказ за меня.
А жаль.
Лукьян Лавренюк. «Танцы в Интернете» (2011)
Хиромантия в цифрах
Один астрологический справочник утверждает, что миру, чтобы исправиться, отпущено двадцать четыре века. В этих гигантских «сутках» каждому столетию отводится «час». Таким образом, утро человечества пало на шестой век, полдень – на двенадцатый, а вечер – на современность. Это перекликается с представлениями индусов, у которых космические эры, кальпы, сменяют друг друга, также приближая стрелки мировых часов к апокалипсису.
Как земная жизнь Христа, аллегорически сжатая в год, представляет собой церковный календарь, так и эта хронометрия проецируется на хронометрию отдельного человека, – макрокосм отражается в микрокосме. Если вы родились, к примеру, в 1959, то ваш ежедневный «день рождения» приходится на 19:59. Люди одного века справляют свой день рождения в один час. При этом чтобы избежать противоречия, ведь многие родились в последнее сорокалетие века, шестидесятиричную систему ловко втискивают в десятеричную. Скажем, 1984 читается как «без шестнадцати двадцать», и совпадает с 19:44, так что родившиеся в эти годы – астрологические близнецы.
Спиритический Ежегодник. «Магия чисел» (1992)
Душа народа
Один престарелый житель Замоскворечья поджёг свою комнату в коммунальной квартире. «Не мог вынести богатства соседей!» – признался он, когда выгорело полдома.
Когда открыли императорскую факторию на Камчатке, то сообщение с Петербургом занимало три месяца. Но вместо научных сведений о природе далёкого края в столицу приходили вороха кляуз и доносов, так что высочайшим указом курьерскую почту пришлось вскоре закрыть.
Фёдор Шляпин. «Много сплетен слыхал я в родной стороне…» (1937)
Забвение
Умер человек. Я беру с его полки книгу. «Встретиться с N. Купить хлеба», – выцветшими чернилами написано на полях.
«У жизни долгое эхо, но смерть – великий чистильщик, – думаю я. – Встретился ли он с N? Купил ли хлеба?»
С кем, кроме Бога, разделить одиночество?
Морис Террюшо. «Бесконечность и ноль» (1908)
Удел богомаза
Михась родился крепостным и рано осиротел. В деревне его считали придурковатым, отрядив в пастушки, и мальчишки постоянно дразнили, когда он уклонялся от детских игр. Михась целыми днями рисовал углём на стене ветряной мельницы разные фигуры и так однажды растерял стадо. Его высекли. Но вскоре всё повторилось. Тогда помещик отдал его уездному художнику, решив, что со временем выучившись ремеслу, Михась, платя оброк, принесёт больше пользы. Художник не мог нарадоваться: Михася не нужно было понукать, он всё ловил на лету, а, когда получил букварь, тотчас выучился грамоте. «Когда я чертил фигуры, – признавался он, – то думал, что слова, как говорятся, так и малюются, и, чтобы запомнить, рисовал их на стене. Но слов много, рисунки стали повторяться… А с алфавитом-то всё проще!» Читал он что попадётся, понимая с пятого на десятое и мучаясь бесчисленными вопросами: Как это свет стоит? Как всякие вещи сложились? Как одно с другим вяжется? Арифметику он полюбил чрезвычайно, услышав о четырёх действиях, сам постиг таинства дробей. А вскоре пошёл по церквам писать богородиц и спасителей. Был Михась невысок, черняв, чрезвычайно худ, с необыкновенно выразительными, добрыми глазами и слабой грудью, как показывал его прерывистый, тихий голос. В характере его была удивительная кротость и мягкость, робкий и молчаливый, он становился смелее, только когда видел, что его любят. Священное писание он знал изумительно, мог потягаться с любым монахом-начётчиком, но не благочестие влекло его к Библии, он искал в ней ответ, как устроен мир. Любознательность его обращалась на материальную природу, он думал о том, что давно было известно физике. Помещик, получивший университетское образование, расширил круг его чтения, и Михась с жадностью накинулся на Всеобщую Историю, популярную Астрономию, курс математики. Он был в восторге! (…) Через несколько лет Михась был женат на крестьянке, имел хату, добывая хлеб насущный иконами. Он решал уже трудные алгебраические и геометрические задачи, освоив естественные науки, знал законы природы, толковал о физических опытах. Библию он давно оставил, его вообще мало занимал теперь священный круг. (…) С возрастом скромность его осталась неизменна, с покорностью, без ропота сносил он свою долю, но, когда вспоминал о неволе – плакал. Выкупить его помещик отказывал, посчитав, что оброком возьмёт больше. «Больно то, – жаловался Михась, – что нас, крепостных, держат в заблуждении и невежестве!» Сейчас ему под пятьдесят, и, если внутренняя борьба не свела его в могилу, он, верно, пишет какую-нибудь Иродиаду с кинжалом над головой Крестителя. Вспоминая его, я думаю, что миллионы других маляров, бондарей, овчаров, столяров, пахарей, кучеров, дворников, быть может, вот также родились с правом на иную судьбу, тогда как многие книгописцы, художники и законники, сообразнее своим способностям исполняли бы их обязанности. А видя человека, не достигшего того, к чему стремился, невольно останавливаешься на убийственных вопросах: Зачем мы смертны? Зачем глупы? Зачем стараемся?
Тимофей Кудекуша-Трепец. «Очерки об утраченной гениальности» (1861)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































