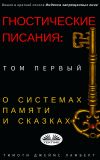Автор книги: Карен Армстронг
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Это поразительное новшество родилось из демократической политической системы, установленной в Афинах Солоном (638–559 гг. до н. э.), который в период экономических неурядиц реформировал законодательство греческого города в сторону большего равенства. В конце VI в. до н. э. интересы афинских граждан представлял Совет Пятисот, члены которого, выходцы из среднего класса, ежегодно переизбирались. Этот орган готов был пресекать любые злоупотребления властью со стороны аристократического Совета Старейшин, собиравшегося на каменистом холме Акрополя. Тут же, на южном склоне холма, рядом с храмом Диониса стоял театр, вмещавший до четырнадцати тысяч зрителей. Здесь родилась древнегреческая трагедия. Изначально зрители собирались сюда на праздник Диониса, чтобы послушать песнь хора о его страданиях и пояснения рассказчика, объясняющего их эзотерическое значение. К началу V века эти мистерии сменились драматическими состязаниями: трое поэтов представляли трилогии из трех пьес. Это ежегодное мероприятие представляло собой и своего рода совместную медитацию, и гражданский долг: посещать театр были обязаны все граждане мужского пола.
Греки всегда верили, что совместное переживание горя создает между людьми ценную связь: так сплачивало граждан восприятие трагедии[554]554
Charles Segal, 149–166.
[Закрыть]. На городских Дионисиях афиняне рыдали в голос, не стыдясь – и чувствовали, что в своей скорби они не одиноки. Свидетели бед героя, изображаемых на сцене, они учились понимать и признавать чужую боль. Как объяснял в своей «Мольбе Зевсу» Эсхил, один из древнейших греческих трагиков (ок. 525–456 гг. до н. э.), страдание дает смертным возможность взглянуть на мир с точки зрения богов:
Мы должны страдать – и страданием приходить к истине.
Мы не можем уснуть, и капля за каплей
Сочится в сердце боль от боли воспоминаний,
И мы сопротивляемся, но наполняется чаша.
Так от богов, восседающих на высоких престолах,
Нисходит к нам жестокая любовь[555]555
Эсхил, «Агамемнон», 176–184, в Aeschylus, Oresteia.
[Закрыть].
Пьеса Эсхила «Персы», древнейшая из дошедших до нас трагедий, была поставлена на городских Дионисиях в 472 г. до н. э. В ней перед зрителями представала недавняя война между Афинами и Персией, когда персидская армия ворвалась в город, снося дома и оскверняя святыни, но затем афинский флот разбил персов в эпохальной Битве при Саламине (480 г. до н. э.). Однако в пьесе нет и следа шовинистической праведности, самовосхваления и хвастовства своими успехами. Вместо этого автор приглашает публику посочувствовать персам, изобразив их благородным народом, на который обрушилась беда, и называет Грецию и Персию «единородными сестрами… безупречными по изяществу и красоте»[556]556
Эсхил, «Персы» 179–184, в Aeschylus, Prometheus Bound and Other Plays.
[Закрыть].
Впрочем, кажется, это была последняя пьеса, посвященная текущим событиям. В дальнейшем поэты обращались исключительно к древним мифам о великих гомеровских героях – Агамемноне, Оресте, Ахилле, Эдипе, Тесее, Аяксе – однако совершенно их преображали. Культ героев – уникальная черта греческой религии. Этих древних царей и воинов почитали как полубогов; в большинстве городов имелись гробницы героев, окруженные поклонением. Герой, похищенный смертью, должен был снизойти в теневые области подземного мира; гробницу его окружала тревожная аура, а ритуалы были призваны умилостивить разгневанный дух. Но память о его выдающейся доблести продолжала жить и вдохновлять общину[557]557
Burkert, Greek Religion, 65–67; Roland Parker, Athenian Religion: A History (Oxford, 1996), 34–41.
[Закрыть]. Однако к V столетию до н. э. герой, воплощавший в себе аристократическую добродетель старого порядка, стал для демократического полиса (греч. «город-государство») предметом смущения. Поэтому и в трагедиях он сделался беспокойной, проблематической фигурой – однако по-прежнему занимал почетное место в умах и сердцах людей, глубоко переживавших за него и сочувствовавших его бедам[558]558
Jean-Pierre Vernant, ‘The Historical Moment of Tragedy’, in Jean-Pierre Vernant and Pierre Vidal-Naquet, Myth and Tragedy in Ancient Greece, trans. Janet Lloyd (New York, 1990), 7–26.
[Закрыть].
Каждая трагедия представляла собой своего рода спор между героем, его родными и товарищами, которых играли профессиональные актеры, и Хором – коллективной анонимной группой, представляющей афинских граждан. Хор выступал в духе поэтической лирики, прославляя героический этос, но речи самого героя звучали более прозаично. Он говорил как обычный гражданин и казался ближе к зрителям, чем Хор, который, как предполагалось, говорил от их лица. В результате и зрители, и актеры остро осознавали сложность своих отношений с прошлым, ценности которого внесли свой вклад в рождение полиса и до сих пор оставались дороги его жителям[559]559
Jean-Pierre Vernant, ‘Tensions and Ambiguities in Greek Tragedy’, in Vernant and Vidal-Naquet, цит. соч.
[Закрыть].
Трагедии ставили публику в состояние апории — головокружительного, дезориентирующего сомнения в самых фундаментальных вопросах, отчасти напоминающего ту глубинную неуверенность во всем, которая, как мы увидим в следующей главе, не была чужда и индийским ариям. В Греции трагедия возникла в ответ на развитие нового полисного законодательства, основанного на понятии личной ответственности и отличавшего «намеренное» преступление от «ненамеренного». Закон требовал от афинских мужчин (женщины, разумеется, в законодательстве не фигурировали) считать себя уже не «игрушками богов», а хозяевами собственных действий[560]560
Jean-Pierre Vernant, ‘Oedipus without the Complex’, in Vernant and Vidal-Naquet, цит. соч., 88–89.
[Закрыть]. Сейчас мы принимаем свободу человеческой воли как должное, и нам трудно понять, насколько смущала эта концепция древний мир, где считалось, что человек не имеет или почти не имеет власти над судьбой. Большинство афинян по-прежнему были убеждены, что без помощи богов, единственно способных на эффективные действия, люди не в силах совершить ровно ничего.
Такое отношение было для греков настолько естественно, что у них не существовало даже слова, обозначающего «волю», «выбор» или «ответственность»[561]561
Jean-Pierre Vernant, ‘Intimations of the Will in Greek Tragedy’, in Vernant and Vidal-Naquet, цит. соч., 49–84.
[Закрыть]. Греческое хэкон, что часто переводится как «воля», включало в себя любые действия, не вынужденные внешним давлением, однако обусловленные как сознательным решением, так и эмоциональным порывом. Хэкон и акон («то, что не поволено») – изначально юридические термины, призванные отрегулировать практику убийств чести. Они отличали убийство, подлежащее наказанию, от убийства из самозащиты. Однако традиционные идеи были столь живучи, что полису приходилось принимать специальные юридические оговорки для гамартии — психической болезни, насланной какой-либо религиозной силой, которая овладевала отдельным человеком, но с него могла перекинуться на целую семью или даже на весь город. Как видим, человек не был свободным, независимо действующим субъектом: он не мог совершить преступление «по собственной воле» – преступление всегда существовало вне его и у него за спиной[562]562
Louis Gernet, Récherches sur de dйvelopment de la pensйe juridique et morale en Gréce (Paris, 1917), 305.
[Закрыть]. Как замечает ученый Андре Ривье, сверхъестественные силы для трагического героя не являлись чем-то внешним – они действовали в самом сердце его решения. Он не мог ничего «выбрать» или «решить»: решение всегда определялось богами и обуславливалось благоговейным страхом перед священным. Его задача была лишь в одном: признать, что движущий им императив исходит от богов. Однако, настаивает Ривье, в этом не было ничего механического. Герой типа Ореста, гонимый гневом фурий, вовсе не пассивен: скорее, его зависимость от этих божественных сил и взаимоотношения с ними придают большую глубину его действиям, повышают их нравственную энергию и значимость[563]563
André Rivier, ‘Remarques sur le “nécessaire” et la “nécessité” chez Eschyle’, Revue des Études Greques, 81 (1968).
[Закрыть].
Таким образом, предлагая гражданам видеть в себе хоть сколько-то свободно действующих субъектов, полис пытался радикально порвать с традицией. По меньшей мере сто лет – век расцвета трагедии – прошло, прежде чем греки сумели принять и прочно усвоить эту концепцию. Они ощущали свое сознание столь тесно сплетенным с божественным, что вне действий богов его как бы и не существовало. Как видим, наше современное светское сознание не досталось нам по природе: оно тщательно выпестовано и завоевано в боях. Старое мифическое сознание позднее вновь подняло голову в Европе и, как мы увидим далее, героическое утверждение психической автономии человека, сделанное Декартом, создало немалое психологическое напряжение. Более естественным, более натуральным казалось воспринимать божественное как некую всепроникающую силу, «действующую во всем», в том числе и в человеческой психике, и ускользающую от аналитической категоризации логоса.
Нелегкое привыкание греков к этой секуляризованной психологии отразилось в жанре трагедии, где герой изображается действующим одновременно на двух уровнях, человеческом и божественном[564]564
Vernant, ‘Tensions and Ambiguities’, 29–48.
[Закрыть]. Очевидно, что драматурги в первую очередь думали о новых законах. Любимая тема трагедий – кровопролитие; очень часто в пьесу включались сцены разбирательства или суда. Что бы ни говорил о личной ответственности полис, на ум и действия героя по-прежнему влияли божественные силы, неотличимые от его собственной психической деятельности. Наше слово «драма» происходит от дорийского «драм» (действовать); в аттическом греческом то же действие обозначалось глаголом праттейн. Герой пытался решить, как ему действовать – но обнаруживал, что события обладают собственной динамикой и начинают идти по собственным законам, так что он без всякой своей вины попадает в западню. Жанр трагедии, объясняет французский ученый Жан-Пьер Вернан, расцвел в «пограничной зоне», эпохе, начавшейся с Солона и окончившейся Еврипидом (ум. ок. 407 г. до н. э.). В судах воплощались новые идеи, но греческие народные массы еще жили под обаянием прежних. В сознании героя божественное и человеческое начала были уже достаточно отличны друг от друга, чтобы конфликтовать, но все еще неразделимы. Пытаясь справиться с этими конфликтующими силами, трагический герой ощущает отчуждение от самого себя. Он изображается как таума или дейнон, «диво дивное»: сразу и действующее, и страдающее лицо, невиновный и виноватый, зрячий – и ослепленный насланным богами безумием. В IV в. до н. э., когда секуляризованная психология более или менее утвердилась в обществе, Платон и Аристотель уже не могли объяснить цели трагедии[565]565
Vernant, ‘Historical Moment’, 27–28.
[Закрыть].
Дилемма героя ясно обрисована в шедевре Софокла «Oedipus Turannos» (часто переводят как «Царь Эдип»), трагедии, представленной на городских Дионисиях в 429 г. до н. э. В гомеровский период Эдип не считался трагическим персонажем. Древнегреческое «тюраннос» – не «тиран» в нашем понимании, это просто правитель, получивший престол не по наследству. Изначально история Эдипа – классическая сказка о подкидыше, но такого рода, какие часто привязывали к биографиям «тиранов». При рождении Эдипа было предсказано, что он убьет своего отца; неудивительно, что его отец Лай, царь фиванский, приказал одному из своих дружинников проткнуть младенцу лодыжки, отнести на гору Киферон и бросить там умирать. Но дружинник пожалел ребенка и отдал пастуху, который отнес его в Коринф. Там его усыновили бездетные царь и царица, и Эдип вырос, считая себя их родным сыном. Но однажды он обратился за советом к Дельфийскому оракулу, и тот предсказал, что Эдип не только убьет отца, но и женится на своей матери. Желая избежать столь ужасных преступлений, Эдип поклялся никогда не возвращаться в Коринф; но на дороге в Фивы какая-то колесница наехала на него и столкнула с дороги. Завязалась ссора, затем драка, и Эдип убил человека, ехавшего на колеснице, не зная, что это царь Лай – и его родной отец. Не ведая о своем отцеубийстве, Эдип приходит в Фивы: а там чудовище Сфинкс держит город в страхе и пожирает всех, кто не может разгадать ее загадку. Эдип разгадал загадку, и горожане отблагодарили его, отдав ему в жены недавно овдовевшую царицу Иокасту. Так он стал царем Фив. В начале пьесы Эдип называет себя любимым сыном Тюхэ («Удачи» или «Случая»), «великой богини, подательницы всех благ», отметившей его для высокого предназначения[566]566
Софокл, «Царь Эдип» (ЦЭ), 1002. Если не оговорено обратное, все цитаты приводятся по: The Three Theban Plays: Antigone, Oedipus the King, Oedipus at Colonus, пер. Robert Fagles (New York, 1982).
[Закрыть]. В изначальной легенде после того, как правда вышла на свет, он не был опозорен и изгнан, и не ослепил себя в приступе отчаяния. Гомер рассказывает, что он правил Фивами до самой своей смерти[567]567
Гомер, «Одиссея» XI, 275–276.
[Закрыть].
Однако Эсхил и Софокл (ок. 496–405 гг. до н. э.) превратили Эдипа в трагическую фигуру. Время, о котором повествует Софокл, относится к царствованию Эдипа – он уже несколько лет правит Фивами, и в его городе разражается убийственная чума. Эдип посылает своего зятя Креонта спросить совета у оракула, и тот отвечает, что болезнь не уйдет, пока не будет раскрыто убийство царя Лая. Эдип тотчас начинает расследование. Вначале главный вопрос: «Кто убил Лая?»; но после допросов дружинника и пастуха, сыгравших ключевые роли в этой истории, приходится задаться другим вопросом: «Кто такой Эдип?» В начале расследования Эдип гордо объявляет: «Эго фано!» – «Я все выведу на свет!»[568]568
ЦЭ 135.
[Закрыть] Зрители, разумеется, уже знали сюжет и улавливали трагическую иронию: Эдип в самом деле выведет на свет правду, но эта правда окажется для него совершенно неожиданной. А в конце пьесы он потеряет способность видеть свет – навеки.
Эдип, прославленный разрешитель загадок, сталкивается с загадкой, величайшей из всех: оказывается, он сам – полная противоположность всему, что о себе думал. Он бестрепетно ведет следствие лишь для того, чтобы выяснить: главный подозреваемый – он сам[569]569
ЦЭ 112, 362, 450, 688, 659.
[Закрыть]. Он видит в себе врача, который расследованием, проведенным с научной точностью, излечит Фивы – а оказывается той болезнью (гамартия), что принесла в город смерть[570]570
ЦЭ 1293, 1387–1388, 1395.
[Закрыть]. В начале пьесы его прославляют как «первого из людей». Безмятежно уверенный в своей праведности, он гневно отвергает намеки слепого провидца Тиресия, знающего ужасную правду. Но ему предстоит узнать, что на деле, пусть и безо всякой своей вины, он – «худший из людей»[571]571
ЦЭ 33, 1433.
[Закрыть]. Царь, которого подданные почитали почти как бога, становится фармакос — козлом отпущения, которого необходимо изгнать, чтобы избавиться от заразы. Даже имя указывает на амбивалентность его существования. Имя «Эдип» происходит от «ойда» («Я знаю») – фразы, которую он не раз уверенно повторяет на ранних стадиях своего расследования[572]572
ЦЭ 58–59, 84, 105, 397.
[Закрыть], и «пус» («распухшая ступня») – признака нежеланного ребенка. Эдипу необходимо пережить кенозис, который смирит его гордое «я». Его детство не было романтической волшебной сказкой; он был опозоренным, искалеченным изгнанником – и таким останется[573]573
Jean-Pierre Vernant, ‘Ambiguity and Reversal: On the Enigmatic Structure of Oedipus Rex’, in Vernant and Vidal-Naquet, цит. соч., 124.
[Закрыть]. Подобно охотнику, гонящему зверя, он бесстрашно мчится по пути своего расследования в поисках истины[574]574
ЦЭ 469, 479.
[Закрыть] – однако, узнав наконец, что его брак с Иокастой был инцестом, убегает со сцены, воя, словно дикий зверь[575]575
ЦЭ 1255, 1265.
[Закрыть], а затем ослепляет себя и бежит в горы[576]576
ЦЭ 1451.
[Закрыть]. Прежний герой становится символом амбивалентности и трагичности человеческого бытия.
Для Софокла под поверхностью сознания Эдипа таится невыразимая, немыслимая реальность, так что он часто, сам того не понимая, говорит правду. Зная его историю, зрители могли оценить эту пугающую иронию. В начале своего расследования Эдип безмятежно провозглашает, что именно он – тот человек, что сможет открыть истину: «По праву я мститель за эту землю и защитник Аполлона» – сам не понимая, насколько он прав. И немедленно добавляет, что убийца царя Лая, возможно, испытает соблазн «и на меня поднять насильственную руку» – так оно и будет: Эдип, убийца Лая, поднимет на себя руку, когда вырвет себе глаза[577]577
ЦЭ 131–141.
[Закрыть]. В какой-то момент он угрожает Креонту, которого подозревает в заговоре против себя: «Если думаешь, что сможешь дурно обойтись с родичем и избежать кары, ты безумен»[578]578
ЦЭ 551.
[Закрыть]. А совсем скоро и сам узнает, что ему не избежать кары не просто за «дурное обхождение» – за убийство отца. В отличие от Эдипа, публика способна заметить и оценить здесь double entendre. Мысли богов столь тесно переплетены с психическими процессами самого Эдипа, что он, сам того не зная, изрекает то, что могли бы изречь лишь боги, которым одним ведома истина. Так что, как поясняет Вернан, в речи Эдипа мы видим, «как переплетаются высказывания двух типов, человеческие и божественные»[579]579
Vernant, ‘Ambiguity and Reversal’, 117.
[Закрыть]. Когда правда наконец выходит на свет, Эдип понимает, что никогда не был господином собственных действий: все это время он оставался игрушкой богов. Его действия, «автором» которых он искренне почитал себя, на самом деле внушались ему какой-то враждебной божественной силой. Он никогда не был хозяином своей жизни. «Жил ли на свете человек несчастнее меня? Более ненавистный богам? – восклицает он. – Но почему, почему? Не скажет ли муж рассудительный – и не будет ли прав – что некая злая сила [даймон] обрушила все это мне на голову?»[580]580
ЦЭ 816, 818.
[Закрыть]
По мере того как правда выходит на свет, зрители принимают трагический взгляд на мир, осознавая страшную двойственность человеческого существования. Это не критика в адрес богов: боги часто благоволят человеку, но еще они жестоки, порой бессмысленно жестоки, ибо сама жизнь ужасна, и перед ее мощью люди беспомощны. Но полис учил афинских граждан брать на себя ответственность за свои действия. Так что, когда на сцене появляется Вестник и принимается во всех ужасных подробностях описывать самоубийство Иокасты и самоослепление Эдипа, он исходит из того, что Эдип действовал по своей воле и вполне управлял своим поведением. Его деяния были
Но Хор не может с этим согласиться. Когда на сцену выводят Эдипа, слепого, с кровоточащими глазницами, Хор возвращается к традиционной позиции:
Теперь и сам Эдип понимает: все действия, инициатором которых он искренне считал себя, на самом деле совершала некая божественная сила, для которой он был только соработником; и он обращается к этому даймону: «Моя судьба, моя темная сила, что за прыжок ты совершила!» Когда Хор спрашивает: «Что за сверхчеловеческая сила влечет тебя далее?» – Эдип отвечает:
Истоки действий Эдипа лежат где-то вне его самого. Их всегда направляла воля божества – то, что придает смысл и направление всем человеческим замыслам. Человеческое и божественное неразделимы.
Эдип вырвал себе глаза, поскольку был виновен в хюбрис – гордыне, сделавшей его слепым к истине, во все время расследования лежавшей прямо под поверхностью. Раньше он был слеп в переносном смысле – теперь слеп физически и, как и слепой Тиресий, может «видеть» ясно. Но, как истинный трагический герой, он свободно выбирает «страдать ради истины» и узнает, что со страданием «приходит зрелость» – хотя это тоже божественный дар:
От богов на высоких престолах
Снисходит жестокая любовь.
Здесь в пьесу вводится новый элемент. Когда Эдипа, растерзанного и ослепленного, выводят на сцену, Вестник предупреждает Хор: «Сейчас вы увидите страшное зрелище, ужас, над которым прослезился бы и его смертельный враг»[584]584
ЦЭ 125–196.
[Закрыть]. «Мне жаль тебя, – горестно восклицает Хор, – но не могу смотреть». И теперь Эдип обращается к Хору с такой мягкостью, такой добротой, какой мы прежде от него не слышали:
Самоискалечение выводит Эдипа за пределы знания, доступного ему прежде, слепота придает ему совершенно новую эмоциональную уязвимость[586]586
Charles Segal, 166–168; Claude Calame, ‘Vision, Blindness and Mask: The Radicalization of the Emotions’, in Silk, ed., 19–31; Richard Buxton, ‘What Can You Rely On in Oedipus Rex?’, in Silk, ed., 38–49.
[Закрыть]. Теперь его речь полна восклицательных междометий (Ion! Ion!.. Aiai… Aiah!), и Хор отвечает ему в том же тоне, ласково называя «другом» и «дорогим»[587]587
ЦЭ 127, 1312, 1299, 1321.
[Закрыть]. Потянувшись к своим рыдающим дочерям, Антигоне и Исмене, Эдип мгновенно забывает о себе в сострадании их беде. Более того, в круг сострадания вовлекаются и зрители: со сцены звучит к ним призыв сочувствовать человеку, виновному в преступлениях, которые при обычных обстоятельствах наполнили бы их отвращением. Плача об Эдипе, зрители переживают катарсис – очищающее преображение, к которому трагедия ведет через экстаз сопереживания.
Эдип принимает свое незаслуженное наказание спокойно, мужественно и не теряя сострадания. Репутация остроумца, умелого разрешителя загадок, принесшая ему такую славу, безжалостно с него совлечена. Но дальше происходит странный переворот. Отсеченный от других людей скверной (гамартия) своего преступления, он становится, по логике греческой религии, «табу» – кем-то отдельным, стоящим вне общества… и, следовательно, святым. В «Эдипе в Колоне», пьесе, написанной Софоклом на пороге смерти, Эдип после смерти возносится – почти что причисляется к богам – и могила его становится источником благословений для полиса афинян, давших ему приют.
К этому времени эпоха трагедии приближалась к концу. Трагический взгляд на мир сменился для полиса философским логосом, первопроходцами которого стали Сократ (ок. 469–399 гг. до н. э.), Платон (ок. 427–347 гг. до н. э.) и Аристотель (ок. 384–322 гг. до н. э.). Платон устами Сократа даже изгнал трагических поэтов из своего идеального Государства. Но старые привычки живучи. Сперва Платон излагает учение Сократа в диалогах, представляющих собой философскую версию древнего арийского ритуала брахмодья. Приходя к Сократу, люди совершенно уверены, что знают, о чем говорят – но через полчаса неустанных вопрошаний Сократа осознают, что ровно ничего не знают даже о таких базовых понятиях, как справедливость, добро или красота. Сократический диалог часто заканчивается тем, что его участники переживают сомнение, от которого голова идет кругом (апория): в этот-то миг, настаивает Сократ, они и становятся философами, поскольку жаждут знания, смиренно признавая, что сейчас им не обладают. В самом деле, многие его ученики обнаруживали, что этот первый шаг, это головокружение ведет к экстасису, ибо дает «выйти» за пределы себя.
Сократа в конце концов обвинили в нечестии и в развращении афинской молодежи. Однако после того, как афинские судьи вынесли ему смертный приговор, Сократ, этот основатель западного рационализма, ясно дал понять, что не считает свое сознание чем-то автономным. Он ответил судьям, что всегда полагался на даймона — термин, который современные переводчики Платона часто передают как «пророческая сила» или «духовное явление». На протяжении всей жизни Сократ внимательно прислушивался к этому даймону, который «часто противостоял мне, когда я готов был сделать что-то дурное». Но утешение он находит в том, что во время суда его даймон «не спорил со мною, ни когда я выходил из дома на рассвете, ни когда входил в суд, ни когда собирался что-либо здесь сказать». Это молчание даймона Сократ интерпретирует как молчаливую поддержку своей позиции божественным началом – тем же, что подсказывает ему, что смерть не зло и может даже стать «великим приобретением». Поэтому, заключает он, «мой даймон со мной не спорил»[588]588
Платон, «Апология Сократа», пер. G. M. A. Grube, in John M. Cooper, ed., Plato: Complete Works (Indianapolis, 1997), 40–41.
[Закрыть]. Итак, на всем протяжении жизни Сократ, поборник логоса, ощущал в своем сознании божественное присутствие: порой в согласии с его идеями, порой нет, но всегда неразрывно слитое с самыми глубокими и сильными его побуждениями.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?