Текст книги "Антон Райзер"
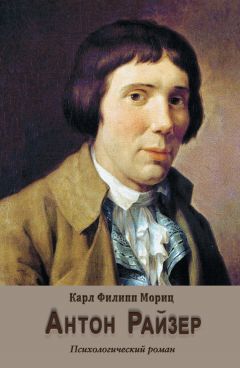
Автор книги: Карл Мориц
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Не понимали они лишь одного – что его поведение, из-за которого они им пренебрегали, само было следствием людского пренебрежения в более раннем его возрасте. Вот это-то пренебрежение, возникшее из-за целого ряда случайных обстоятельств, и породило такое его поведение, а вовсе не наоборот, как они думали: будто поведение юноши было причиной всеобщего пренебрежения к нему.
Так пусть это заставит всех учителей и педагогов быть осмотрительнее в своих суждениях о развитии характера молодых людей и внимательно учитывать воздействие на него бесчисленных и случайных обстоятельств, тщательно их исследовать, прежде чем дерзнуть своим суждением решать судьбу человека, которому, быть может, хватило бы одного ободряющего взгляда, чтобы внезапно переродиться, поскольку вовсе не природные черты характера, но особое стечение обстоятельств могут стать причиной его на взгляд столь дурного поведения.
Видимо, участью Антона Райзера было воспринимать благодеяния как муку. Разве не благодеянием стало для него проживание в доме госпожи Фильтер? Но какой мукой и тягостью обернулся тот год для Райзера! А приглашение ректора жить у него в доме? Но сколько унижений и презрения со стороны школьных товарищей пришлось ему перенести во время пребывания в этом доме, рисовавшегося ему в столь заманчивом свете!
Никто из наблюдавших Райзера со стороны не мог сказать о нем ни одного доброго слова. Сам ректор сказал о нем пастору Маркварду, что ему в жизни не суждено подняться выше сельского учителя. Позднее и пастор Марквард снова напомнил ему об этом, и суждение ректора, которому Райзер в ту пору еще не мог противопоставить собственного мнения о себе, еще больше его подавило.
Поскольку же ректор, по всей видимости, действительно полагал, что подняться Райзеру все равно не суждено, то и приспособил его к чему возможно – к разным мелким поручениям по дому и вне дома, так что Райзер, хотя и числился старшеклассником, по сути дела стал у него слугой.
Все-таки однажды ему довелось воспользоваться правами старшеклассника, это случилось, когда он, позаимствовав из отпущенных ему «хоровых» денег, вложил свою долю в новогодний подарок для ректора и за это получил право участвовать в факельном шествии, ибо на Новый год по установившемуся обычаю ученики приветствовали директора и ректора музыкой и выкликали в их честь здравицу.
И хотя ему отвели место в самом хвосте шествия, дух его необычайно приободрился, ведь, несмотря на пережитые унижения и обиды, он вновь оказался как бы включенным в общее целое и, со шпагой на поясе и факелом в руке, кричал «виват!» вместе с остальными.
Музыка, толпа зрителей, пламя факелов, предводители шествия в шляпах с плюмажами и шпагами наголо – все это наполняло его новым воодушевлением, так как он и сам был частью этой сверкающей процессии.
Когда же на следующий день он вместе с другими старшеклассниками присутствовал при сопровождаемом латинской речью вручении ректору серебряного блюда с новогодним подарком, в коем была и его доля участия, он с известным удовлетворением снова почувствовал, что принадлежит действительному миру, что не вовсе исключен и не вытеснен из него. Но как ужасно злоба и высокомерие школьных товарищей отравили ему и это маленькое удовольствие!
Ректор угощал старшеклассников, вручавших подарок, вином и пирожными. Те снова и снова провозглашали тосты за его здоровье и под конец, когда вино ударило им в голову, изрядно расшумелись. Райзер выпил несколько бокалов вина, не чувствуя дурных последствий, хотя, по непривычке к вину, уже после первых двух слегка захмелел. И тут его благомыслящие товарищи затеяли напоить его допьяна, что посредством хитрости, а то и угроз им удалось вполне: Райзер понес ужасающую чепуху и под конец вечера был препровожден в кровать.
Если и прежде доверие к Райзеру и мнение о нем всех знакомых были донельзя низкими, то последнее происшествие нанесло по его репутации непоправимый удар. Раньше он слыл лишь лентяем, неряхой и нерадивцем, теперь же о нем заговорили как о невоздержанном и дурном человеке, поскольку, живя в доме у своего учителя и благодетеля, он своим недостойным поведением явил всем неблагодарнейшее из сердец.
Все эти последствия Райзер смутно прозревал и, одеваясь поутру, твердо решил вымолить у ректора прощенье за свое вчерашнее поведение.
Он наизусть вытвердил свою речь, где между прочим заверил ректора, что постарается всеми способами смыть с себя это пятно, ректор же довольно сухо возразил, что последствия этого случая, если он станет известен, скрыть будет весьма трудно.
И ректор оказался прав, молва о происшедшем быстро разнеслась, и все говорили одно: Как? Юноша пользуется благодеяниями, даже принц тратит на него деньги, живет он у своего благодетеля, предоставившего ему кров, гостеприимно его приютившего, – и ведет себя подробным образом!
Но хотя последствия случившегося не заставили себя ждать и весьма огорчали Райзера, все же на следующий день, когда хористы обсмеяли его за бледный и помятый вид – плод вчерашней попойки, он странным образом испытал нечто вроде гордости, как будто похмелье придало ему удальства, и он еще нарочно пошатывался, чтобы этим притворством привлечь к себе больше внимания.
Ведь всеобщее внимание, в котором на этот раз было больше своего рода одобрения, чем насмешки, льстило ему. К тому же на него смотрели так, как люди обычно смотрят на попавшего в ту же беду, в какую порой попадали они сами, ведь префект хора, к примеру, сам нередко ходил под хмельком; тайное удовлетворение, испытанное Райзером, возомнившим, будто он смог отличиться благодаря дурному поведению, являет собой опаснейшую ловушку, коей не минует большинство молодых людей.
Между тем гордыни у Райзера заметно поубавилось, когда он вскоре почувствовал на себе последствия, напророченные ректором. Повсюду встречал он холодные и презрительные взгляды. По этой причине он все чаще стал пропускать свои бесплатные обеды, предпочитая голодать или питаться хлебом с солью, лишь бы не чувствовать на себе подобные взгляды. Лишь у сапожника Шанца он по-прежнему бывал с удовольствием, так как взгляды его домашних всегда светились дружелюбием и никто здесь не заставлял его расплачиваться за превратности его злой судьбы.
В то время ему еще и в голову не приходило оправдывать свои прегрешения. Куда больше, чем себе, он доверял мнению окружающих и лишь корил себя и горько упрекал за недочеты в учении, за пристрастие к чтению, за провинность перед букинистом. Он еще не мог постичь, что все его провинности суть естественное следствие крайне скудных обстоятельств, в коих он вынужден был существовать. В таком-то душевном состоянии, восстав на самого себя, с фантазией, распаленной от недавно прочитанной трагедии, он написал отчаянное письмо отцу, изобразив себя как величайшего преступника и употребив такое непомерное число тире, что его отец не знал, как и быть с этим письмом, и всерьез усомнился в душевном здоровье его автора. Между тем письмо было неотделимо от позы, какую в то время принял Райзер. Он находил особый род удовольствия в том, чтобы – подобно героям многих трагедий – рисовать себя самыми черными красками и с истинно трагической страстью ополчаться на самого же себя.
Поскольку никто в мире, не исключая и его самого, не был ему другом, чего он мог желать сильнее, как только забыть самого себя?
Букинистическая лавка сделалась по этой причине его постоянным прибежищем, без нее он не вынес бы своего существования, которое в иные часы умел сделать не только вполне сносным, но даже приятным, – когда, например, собирал в доме своего кузена, изготовителя париков, небольшую аудиторию, пусть и не слишком блестящую, и со всей доступной ему выразительностью декламировал перед нею какую-нибудь из своих любимых трагедий, «Эмилию Галотти», «Уголино» либо что-то слезное вроде Гесснеровой «Смерти Авеля», испытывая неописуемый восторг, когда замечал в глазах слушателей слезы, в коих прочитывал верное свидетельство, что его заветная цель – трогать сердца своим чтением – достигнута.
В то время лучшие часы своей жизни он проводил либо наедине с самим собой, либо в этом небольшом кружке, собиравшемся у кузена, где он чувствовал известную власть над людскими умами и привлекал к себе всеобщее внимание – здесь его слушали, здесь он мог читать вслух, декламировать, рассказывать и учить других. Здесь он порой вступал с подмастерьями в диспуты на чрезвычайно важные темы: о сущности души, о происхождении вещей, о мировом духе и тому подобном, привлекая их внимание к предметам, прежде им совершенно неведомым, и тем их совершенно обескураживая.
Особенно долгими выходили у него беседы с подмастерьем сапожника, который начал входить во вкус подобных разговоров. Они часами рассуждали о том, как возможно возникновение мира из ничего, и отсюда умозаключали к учению об эманации и к системе Спинозы, утверждавшего, что Бог и мир суть одно.
Когда для выражения означенных материй обходятся без школьной терминологии, они понятны всякому, даже детям.
За этими разговорами Райзер обыкновенно забывал свои заботы и печали; все, что прежде его тяготило, теперь казалось ему слишком мелким, чтобы занимать этим свое внимание, – он чувствовал себя на время изъятым из земного порядка вещей, наслаждался преимуществами духовного мира и каждого, кто в такую минуту случался рядом, вовлекал в философскую беседу и упражнял на нем силу своего ума.
Между тем, хотя и почти лишенный дружеской поддержки, зато в избытке прошедший через множество унижений, он не совсем напрасно проводил школьные часы. На уроках у директора он писал новую историю, упражнялся в догматике и логике, у ректора изучал географию, переводил отрывки из латинских авторов и потому, помимо чтения комедий и романов, успевал усвоить и кое-какие научные сведения, а также, без особых к тому намерений, сделал некоторые успехи в латинском.
Все это, однако, происходило как бы ненароком – иные уроки он пропускал, на иных зачитывался каким-нибудь романом, пока остальные штудировали Тита Ливия или другого латинского автора, – знал ведь, что директор все равно не соизволит его вызвать. Но когда он проводил часы среди ровесников, которых могло быть и шесть, и семьдесят и из которых едва ли хоть один был дружески к нему расположен, напротив, все осыпали его шутками и обдавали презрением, – естественно, что он постоянно робел и потому невольно переносился в другой, мечтательный мир, где чувствовал себя гораздо уверенней.
Но его жестоко лишили и этого прибежища – однажды, когда он до начала занятий читал какую-то книгу о немецком театре, кто-то выхватил ее у него и перед самым приходом ректора положил на кафедру. На вопрос, откуда взялась эта книга, было сказано, что она принадлежит Райзеру, который вечно читает ее на уроках. В ответ на этот донос ректор лишь бросил на Райзера уничижительно-презрительный взгляд.
Этот взгляд лишил Райзера последней частицы самоуважения, которая в нем еще оставалась: и в мыслях не имея искать самооправданий, он был уверен, что заслуживает презрения, и в ту минуту чувствовал себя именно таким презренным и ничтожным существом, каким считал его ректор.
После этого случая он еще ниже пал в глазах ректора и однажды, когда он забыл передать ректору некое поручение от неизвестного ему человека, тот впервые употребил по отношению к нему крепкое словцо, сказав, что подобное разгильдяйство есть поистине сущее тупоумие.
Это выражение на долгое время словно бы окостенило его душу. Как и кличку «Тупица!», брошенную инспектором на уроке, или «Я не вас имел в виду» купца С., он никогда не мог его забыть. Эти слова прямо-таки пропитали его сознание и не раз лишали его присутствия духа как раз в такие минуты, когда он более всего в нем нуждался.
Один из друзей ректора, который несколько недель гостил в Ганновере и которому Райзер несколько раз услужил, при отъезде оставил чаевые ему и служанке. Получая деньги, Райзер испытал целую бурю чувств: сначала он ощутил острый укол, но боль быстро прошла, потому что он подумал о букинисте и сей же час забыл обо всем на свете: за эти деньги он мог прочесть у того более двадцати книг; уязвленная гордость его возмутилась и – сдалась. Отныне Райзер вообще перестал обращать на себя внимание и во всем, что касалось его отношений с миром, окончательно махнул на себя рукой.
Его платье, день ото дня ветшавшее и приходившее в негодность, теперь оставляло его безразличным. В школе, на хоре или на улице он ощущал себя совсем одиноким среди людей, из коих ни один не заботился о нем и не принимал в нем никакого участия. Собственная судьба в мире стала ему оттого казаться столь презренной, мелкой и никчемной, что самого себя он уже не ставил ни в грош, зато принимал живейшее участие в судьбе мисс Сары Симпсон, Ромео и Юлии, мысли о которых не покидали его по целым дням.
Едва ли что было для него несносней, чем конец уроков, когда он выходил из школы вместе со стайкой товарищей, из которых каждый одевался лучше его, глядел веселее и жизнерадостней, и никому из них не было по пути с Райзером, – как часто в такие минуты он желал сбросить с себя телесную обузу, чтобы внезапная смерть вырвала его из этих мучительных отношений! Когда же, пробираясь узенькими проулками, без спутников, он наконец исчезал из поля зрения своих однокашников, с какой радостью он поспешал в самые отдаленные и пустынные городские кварталы, чтобы там без помех предаться своим безутешным мыслям.
Порой ему составлял компанию самый глупый ученик класса, точно так же всеми презираемый, и Райзер с готовностью разделял его общество – какой-никакой, а спутник; когда же они попадались на глаза товарищам, те переговаривались между собой: «Par nobile fratrum! – Вот так знатная парочка!» Так Райзера зачислили в один разряд с этим неподдельным тупицей.
Поскольку и ректор говорил, что Райзеру не суждено подняться выше сельского учителя, все это, соединяясь вместе, окончательно лишило его всякой уверенности в себе и едва ли не в своем разуме, и он порой начинал всерьез считать себя тупицей, каким считали его окружающие. Но эта мысль приобретала и другой оборот, рождая озлобленность против существующего порядка вещей: в уверенности, что рожден презреннейшим из всех людей в насмешку миру, он одновременно проклинал и этот мир, и себя самого.
Насколько далеко заходила убежденность школьных товарищей в его прирожденном тупоумии, видно из следующего случая.
Ректор разрешил Райзеру присутствовать на частных уроках, которые давал у себя на дому. Среди прочего он преподавал и английский язык. У Райзера, однако, не было книги для английского чтения, дома он упражняться не мог и поневоле поглядывал в книгу соседа, но через неделю-другую со слуха усвоил большинство правил английского произношения и, когда ректор по случайности вызвал его для чтения, прочел заданное более бегло и ясно, чем те, кто дома упражнялся по книге.
И вот однажды он услышал в соседней комнате разговор о себе, мол, Райзер, не такой уж тупица, коли сумел так скоро усвоить трудный английский выговор. Но другой ученик, желая немедля разрушить возникшее было благоприятное мнение, стал уверять других, будто отец Райзера по рождению англичанин и потому сын просто вспомнил английскую речь, слышанную еще в детстве. Остальные с готовностью поверили в этот рассказ, и таким образом Райзер снова опустился в их глазах до прежнего уровня.
Их сказанного видно, что для молодого человека в пору взросления и учения мнение школьных товарищей необычайно важно, хотя в публичных воспитательных заведениях об этом пока задумываются слишком мало.
Единственным, что бы вызволило Райзера из его отчаянного положения и вновь превратило в обыкновенного юношу, могло стать совсем небольшое усилие учителей, желающих поднять его в глазах товарищей. И достичь этого они могли бы, просто подвергнув чуть более тщательной проверке его способности и обратив на него чуть больше внимания.
Итак, зима протекла для Райзера донельзя горестно. Его маленькое хозяйство вконец развалилось – в своем ветхом платье он даже не решался явиться к принцу за месячным содержанием, перед букинистом оказался в глубоком долгу, да и прочие свои нужды, как стирку одежды и покупку башмаков, он не мог обеспечить из тех жалких грошей, что ему давали еженедельно, и «хоровых» денег, тем более что он все отдавал букинисту.
Таковы были его жизненные обстоятельства, когда на пасхальные каникулы он отправился навестить родителей. Здесь он нацепил шпагу, которой закололся в роли Филота, и снова и снова разыгрывал эту сцену перед своими братьями, отнюдь не рассказывая им о своем изгойстве в школе и о презрении, его окружавшем, но, напротив, выискивая приятное и лестное для себя: как ректор взял его с собой в компанию священников, как он посещал частные уроки английского, как участвовал в факельном шествии с музыкой, как оно было обставлено и проч.
Даже из собственных мыслей он, как мог, постарался изгнать все неприятное и унизительное, желая предстать в благоприятном, выгодном свете, сколь ни жалким было его положение в действительности.
В таком приятном самообольщении он провел у родителей несколько дней, но облегчение, которое он почувствовал, выйдя из ворот Ганновера и понемногу отвлекшись от вида четырех городских башен, лишь усугубило тяжесть, навалившуюся на его сердце, когда он вновь приблизился к городским воротам и перед его взором опять поднялись четыре башни, словно четыре булавки, отмечавшие на карте область его неисчислимых страданий.
Особенно устрашающей показалась ему граненая, увенчанная лишь маленьким шпилем рыночная башня, к которой примыкала его школа – насмешки, издевательства и перешептывания одноклассников снова всплыли в его сознании при виде этой башни: на огромный циферблат ее часов он обыкновенно бросал взгляд, когда торопился в школу, боясь опоздать. Башня эта, как и старинная рыночная церковь, была построена в готическом стиле, из красного кирпича, давным-давно почерневшего от времени.
Рядом, на этой же площади, преступникам объявляли смертные приговоры, – словом, фантазия Райзера связала с этой башней все, что только могло его сокрушить и погрузить в тяжелую тоску.
Едва ли охватившая его тоска могла усугубиться сильнее, узнай он в ту минуту, что еще суждено ему испытать в нынешнем месте его пребывания. Но если год назад, когда он, как теперь, возвращался в Ганновер из родительского дома, его печаль все же имела свои причины, то на сей раз причин было куда меньше, так как ужаснейшая минута его жизни еще только предстояла.
Но и не полагая в нем особого дара предвидения, можно счесть его тоску совершенно естественной, стоит лишь себе представить, как он в воображении пробегал узкие круги своего существования: школу, хор, ректорский дом – в этих сужающихся кругах, стеснявших все его стремления, он обречен был вращаться снова и снова. С какой охотой он променял бы тогда свое житье в Ганновере на самую темную из тюремных камер, заключавшую, без сомнения, куда меньше ужасного и страшного, чем его нынешнее положение.
Когда он, погруженный в тяжелые мысли, приблизился к городским воротам, в голове его молнией пронеслась мысль, все вокруг осветившая и вновь все представившая в лучшем свете, – он вспомнил, что еще в родительском доме слышал о приезде в Ганновер театральной труппы, собиравшейся играть там целое лето.
Это была труппа Аккермана, которая в то время объединила в себе почти все рассеянные по Германии жемчужины немецкой сцены.
Скорыми шагами Райзер поспешил в город, который недавно был ему так ненавистен, а теперь вновь сделался милее всего на свете, и, не заходя домой (время было еще раннее, так как то место, где он заночевал по пути, лежало всего в нескольких милях от Ганновера), устремился к замку, где, как он знал, висела афиша с указанием актерского состава, – там он увидел, что нынешним вечером объявлена «Эмилия Галотти».
Пока он читал афишу, сердце его трепетало от радостного предвкушения – всеми правдами и неправдами он желал пробраться в театр и увидеть на сцене пьесу, исторгшую у него столько слез, часто потрясавшую его до глубины души, но до сих пор разыгрываемую только в его воображении.
Пропустить вечерний спектакль было никак нельзя, сколько бы ни стоил входной билет. Придя домой, он обнаружил, что в комнате, где он спал, работники белят стены и что-то в ней перестраивают, так что жить в ней совершенно невозможно. Плачевный вид его укромного пристанища еще настойчивей гнал Райзера из действительного мира, но с тем большей истомой ждал он предстоящего спектакля.
Куда бы ни явился, он не мог скрыть своей радости; первое, о чем он заговорил, войдя в комнату госпожи Фильтер, была «комедия» (за что она потом долго его упрекала), так же случилось и в доме его кузена, где ему пришлось ночевать на полу, пока его комната в доме ректора не сделалась пригодной для жилья.
Приводимый ниже состав исполнителей дает примерное понятие о том, какое воздействие постановка «Эмилии Галотти» оказала на душу Райзера, находившуюся в столь возбужденном состоянии.
Покойная Шарлотта Аккерман играла Эмилию, ее сестра – Орсину, г-жа Райнике исполняла роль Клаудии, Борхерс – Одоардо, Брокман – Принца, Райнике играл Аппиани, Дауэр – Конти. Где еще «Эмилия Галотти» могла быть исполнена с таким совершенством?
Как мощно была захвачена душа Райзера, когда мир его фантазии как бы воплотился на его глазах! С этих пор он уже не мог думать ни о чем, кроме театра, и, кажется, совсем забыл о своих прежних надеждах и видах на будущее.
Все деньги, что удавалось раздобыть, он тратил на театр, без которого уже не мог провести ни одного вечера, даже когда приходилось экономить на самом необходимом. Ради театра он порой по целым дням довольствовался хлебом с солью – если матушка ректора из сострадания не присылала ему какой-нибудь еды.
Вдобавок летом он снова вселился в свою комнату, где мог оставаться в одиночестве – блаженство, которое он не променял бы и на самую изысканную еду.
Мысль о вечернем представлении утешала его по утрам, когда он просыпался в мрачном настроении, а в ином он никогда и не просыпался. Ибо презрение и насмешки товарищей, а вместе с ними и чувство собственного ничтожества не прекращались и отравляли ему жизнь. Отрешиться от этого он мог, единственно лишь притупляя внутреннюю боль, излечиться от нее он был не в состоянии, каждый день все повторялось снова, и пусть фантазия по нескольку часов кряду рисовала перед ним обманчивые картины, все же в глубине души он ненавидел и проклинал свое существование.
Обильными слезами, проливаемыми над книгами и в театре, он оплакивал не только свою судьбу, но и судьбы персонажей, возбуждавших его участие. Чуть ближе или чуть дальше, но он всегда сознавал себя в стане безвинно притесняемых, неудовлетворенных собой и всем миром, отягощенных горем и ненавидящих самих себя.
Палящий летний зной часто гнал его из комнаты в кухню или на двор, где он устраивался с книгой на куче дров и нередко поневоле прятал лицо и заплаканные глаза, когда кто-то проходил мимо.
Его снова пленила «joy of grief», услада слез, известная ему с раннего детства, когда он тоже был лишен всех других радостей жизни.
В этом своем настроении он зашел столь далеко, что даже при чтении комических пьес, таких, как «Охота», содержащих всего несколько трогательных сцен, больше плакал, чем смеялся. Но о том, какое действие тогда производила такая пьеса, можно опять-таки судить по составу исполнителей: Шарлотта Аккерман играла Рёсхен, ее сестра – Ханхен, госпожа Райнике – мать, Шрёдер – Тёффеля, сам Райнике – отца и Дауэр – Кристеля.
Если какое-либо внешнее обстоятельство могло привить острый вкус к театру, то, оставляя в стороне изначальную склонность Райзера и особые условия его жизни, таковым стал случай, сведший столь превосходных артистов в одной труппе.
Отсюда легко заключить, как были представлены «Ромео и Юлия», «Месть» Янга, опера «Кларисса», «Евгения» – пьесы, произведшие на Райзера самое сильное впечатление.
Театр до такой степени захватил его мысли, что он каждое утро начинал с того, что буквально проглатывал афишу, каждый раз скрупулезно прочитывая все надписи: «Начало – ровно в полшестого» или: «Представление состоится на сцене Королевского дворцового театра», а уж случайно встретив на улице кого-либо из известных актеров, испытывал почти такой же трепет, как некогда в Брауншвейге при виде пастора Паульмана. Все, что касалось театра, вызывало в нем благоговение, и он многое бы отдал, чтобы свести знакомство хотя бы с чистильщиком театральных канделябров.
Еще за два года до этого он успел пересмотреть «Геркулеса на Эте», «Графа Ольсбаха», «Памелу» с Экхофом, Беком, Гюнтером, Хензелем, Брандесом, его супругой и г-жой Зайлер в самых лучших ролях, и с тех пор самые трогательные сцены из названных пьес запали в его память, а Гюнтер в образе Геркулеса, Бек в роли графа Ольсбаха и Эстер Шарлота Брандес в роли Памелы, сменяя друг друга, являлись его воображению почти ежедневно. Все прочитанные им пьесы он вплоть до прибытия в город Аккермановой труппы разыгрывал в своей фантазии именно с этими актерами.
Благодаря такому совпадению оказалось, что ему посчастливилось увидеть всех лучших немецких актеров, которые в иное время были рассеяны по всей Германии.
Это создало в его голове некий идеал театрального искусства, который впоследствии нигде уже не бывал воплощен и не давал ему покоя ни днем, ни ночью, но беспрестанно гнал с места на место, сделав его жизнь беспокойной и непостоянной.
Поскольку он видел Бека, а теперь и Брокмана в ролях, исторгавших самые обильные потоки слез, два эти актера сделались его любимыми, и он почти не расставался с ними в своих мыслях.
Вот только блестящие сцены из мира театра, прочно заселившие его фантазию, не улучшали его собственных обстоятельств, день ото дня становившихся все тяжелее. Во мнении окружающих он опускался все ниже и совсем перестал следить за своим внешним видом – его платье и белье вконец обветшали, так что он начал дичиться людей – при любой возможности пропускал хор и занятия в школе и предпочитал голодные вечера бесплатным обедам своих благодетелей, исключая сапожника Шанца, у которого, несмотря на свое ужасное состояние, неизменно встречал дружеский и ласковый прием.
Наконец неисправимая безалаберность Райзера и в особенности его ежедневные поздние возвращения из театра вывели ректора из терпения, и он отказал ему от дома.
Уведомление, что к Иванову дню он должен съехать с квартиры, а за оставшееся время подыскать себе другое жилище, Райзер выслушал молча в совершенном оцепенении, а оставшись один, не пролил над своей несчастной долей ни единой слезинки, так как самому себе давно стал совершенно безразличен и уделял себе мало внимания, оставаясь глух к собственным горестям: ведь если бы его внимание, сочувствие к страданиям, наполнившие его сердце, не были целиком обращены к персонажам вымышленного мира, они со всей разрушительной силой обратились бы на него самого.
Поскольку ректор отказал ему в жилье, Райзер решил, что теперь уж и пастор Марквард наверняка оставит о нем все заботы, и расстался со всеми своими надеждами и планами на будущее.
Недели, оставшиеся ему в доме ректора, он прожил обычным образом, а потом переехал в дом щеточника, и три месяца, от Иванова до Михайлова дня, что ему пришлось провести в этом доме, оказались ужаснейшими и страшнейшими в его жизни и не раз ставили его на грань отчаяния.
Поселившись здесь, он сразу почувствовал себя отторгнутым – притом по собственной вине – от множества знакомств, коими прежде так дорожил. Принц, пастор Марквард, ректор – все, от кого зависело его будущее, теперь для него ушли в небытие, и вместе с ними пропали и все его надежды.
Не удивительно, что его душой овладела новая фантазия, с которой он носился день и ночь, найдя в ней утешение, только и спасавшее его от полного отчаяния.
Дело в том, что среди прочего он повидал на сцене оперетту «Кларисса, или Неприметная служанка», и едва ли какая другая пьеса могла в его положении вызвать в нем более интереса, чем эта.
Главным в истории, так сильно его захватившей, было решение одного молодого дворянина, впоследствии им исполненное, сделаться крестьянином. Причина, приведшая дворянина к такому решению, а именно его любовь к некой неприметной служанке, оставила Райзера равнодушным, – но его вдохновила сама мысль, что образованный молодой человек мог решиться перейти в крестьянское сословие и сделаться столь изысканным, учтивым и благовоспитанным крестьянином, что на него нельзя было не обратить внимания в толпе других.
В нынешнем своем положении Райзер терпел крайнее унижение, и ему казалось невозможным когда-нибудь снова подняться в жизни. Но для крестьянина он был образован выше всякой меры. Как крестьянин он возвышался над своим состоянием, как молодой человек, посвятивший себя учению и потому имевший надежды на будущее, видел себя отброшенным далеко назад. Мысль стать крестьянином утвердилась в его голове и на время вытеснила из нее все остальное.
В то время школу посещал сын некоего крестьянина, по имени М., которому Райзер иногда давал уроки латыни. Он поведал ему о своем решении стать крестьянином, и в ответ тот подробно описал Райзеру работы, которые приходится выполнять крестьянину-батраку, чем, конечно, изрядно отравил бы его радужные мечты, не будь фантазия Райзера так сильно возбуждена теснившимися в ней благостными картинами крестьянской жизни.
Кроме того, в самой оперетте «Кларисса» было одно место, где некий крестьянин отговаривает молодого дворянина от намерения купить у него маленький участок земли и под конец исполняет трогательную арию о том, как селянина гонит с поля грянувшая непогода:
Сверкают молнии,
Грохочет гром,
И селянин с досадой,
С великой досадой спешит в свою хижину…
Слово «досада», вдобавок весьма усиленное мелодией, само по себе могло бы обратить в руины воздушный замок, созданный фантазией, и послужить хорошим противоядием от чрезмерной чувствительности и мечтательности – чувств, способных противостоять всему – горестному, ужасному, повергающему в отчаяние или гнев, но бессильных против досадного.
Однако Райзеру это противоядие не помогло, целыми днями он бродил в одиночестве и размышлял, как бы стать крестьянином, хоть ничего для этого и не предпринимал. Погруженный в эти сладостные мечтания, он понемногу начал снова нравиться самому себе: воображая себя крестьянином, он приходил к выводу, что рожден для лучшей доли, и испытывал по отношению к себе род утешительного сострадания.









































