Текст книги "Антон Райзер"
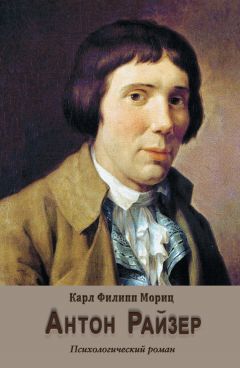
Автор книги: Карл Мориц
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
На другой день, однако, когда он зашел к Филиппу Райзеру, между ними разыгралась куда более серьезная сцена. Минувшей ночью он не сомкнул глаз, в его пустом взгляде сквозила тупая покорность, на челе было написано отвращение к жизни, душевные силы его покинули. Он поздоровался с Филиппом Райзером и тут же застыл как столб.
Филипп Райзер, который не раз видывал его в подобном изможденном состоянии, но никогда – столь опустившимся, начал опасаться, что он уже конченый человек, и совершенно серьезно вызвался застрелить его, коли уж он пал так глубоко и безнадежно. С Филиппом Райзером, имевшим мысли столь же романические, сколь и сумасбродные, шутки в таких делах были плохи. Антон Райзер счел это средство преждевременным и заверил друга, что и на сей раз сам справится со своей болезнью.
Между тем положение его делалось все более плачевным: затраты, потребные для выступлений на сцене, далеко превосходили его доходы, постоянные пропуски уроков, которые он давал сам, все глубже погружали его в долги, и вскоре он опять стал нуждаться в самом необходимом, поскольку не овладел искусством жить в кредит.
Один только костюм Князя в «Паже», который он, как и другие актеры, должен был приобрести сам, стоил его месячных трат на повседневные нужды, а ведь он еще не добился главного, о чем так долго мечтал, – трагической роли, в которой надеялся показать себя во всей красе.
Из трех пьес, представленных в один вечер, первым следовал «Клавиго», вторым – «Педант», последним – «Паж».
Пока шел «Клавиго», Райзер, забившись в костю-мерную, старался приглушить все чувства и заткнул себе уши. Каждый звук, долетавший со сцены, пронзал ему сердце, – на его глазах рушилось прекраснейшее здание его фантазии, которое он строил годами, а теперь принужден был смотреть на это разрушение, не в силах его предотвратить. Он пытался утешить себя тем, что занят в двух других ролях, сосредоточивал на них свое внимание, но тщетно – когда кто-то другой, не он, наяву исполнял роль Клавиго перед огромным залом, ему казалось, что пожар безвозвратно поглощает все его достояние. До последнего дня он все еще надеялся во что бы то ни стало добиться этой роли, но теперь все пропало.
Когда же и в самом деле все пропало и «Клавиго» был доигран до конца, ему немного полегчало. Но заноза по-прежнему сидела в его груди. В «Педанте», где заглавную роль исполнял Иффланд, Райзер сыграл магистра Блазия – и заслужил аплодисменты. Но не таких аплодисментов он ждал. Он мечтал вызывать не смех, но душевное потрясение. В пьесе «Паж» характер Князя содержал в себе известное благородство, но как роль был для Райзера слишком мягок, и к тому же само представление пошло вкривь и вкось, так как после «Клавиго» и «Педанта» – час был уже поздний – публика начала расходиться, и смотреть «Пажа» осталась едва ли треть зрителей. По этой причине, а также потому, что он никак не мог прогнать из головы мучительную мысль о Клавиго, сыграл он свою роль небрежно и гораздо хуже, чем мог бы, и после спектакля недовольный, в расстроенных чувствах, вернулся домой. Тем не менее он не оставлял надежды когда-нибудь исполнить свое желание и во что бы то ни стало выступить в какой-нибудь мощной и потрясающей роли. И нынешний отказ в этом наслаждении лишь сильнее разжигал его желание, да и как было ему осуществить свою заветную мечту, не сделав ее достижение главным делом жизни? Итак, мысль посвятить себя театру не исчезла, но напротив, восстала в нем с новой силой.
А поскольку мы всегда пытаемся подыскать самые убедительные резоны, чтобы оправдать в своих глазах задуманные действия, то и Райзер счел уплату мелких долгов, в коих погряз, и само раскрытие этих долгов делом столь невозможным и неприятным, что усмотрел в этом достаточную причину для ухода из Ганновера. Однако подлинным его мотивом было неодолимое стремление изменить свою жизнь и во что бы то ни стало показать себя, снискать славу и публичное признание, а для всего этого как нельзя лучше подходит театр, где человека не заподозрят в тщеславии, если он для своего возвышения хочет выходить на публику как можно чаще, но напротив, здесь это почитается заслугой.
Меж тем эти мелкие долги стали все больше его угнетать, а несколько пережитых унижений сделали его жизнь в Ганновере и вовсе несносной.
Первое унижение состояло в том, что один молодой дворянин, которому Райзер давал уроки в его доме и с которым имел обыкновение перекинуться словечком-другим после занятий, как-то раз поблагодарил Райзера за урок прежде, чем тот сам успел откланяться. Вполне вероятно, он в самом деле уловил на лице Райзера готовность попрощаться и потому чуть поспешил с поклоном, но именно эта поспешность так ужасно ранила Райзера и так его подавила, что, выйдя на улицу, он еще несколько времени стоял как вкопанный, бессильно уронив руки. Это поспешное «Позвольте поблагодарить вас за визит» внезапно соединилось в его голове с кличкой «Тупица!», брошенной инспектором, с «Я не вас имел в виду!» купца С., с насмешкой одноклассников «Рar nobile Fratrum» и возгласом ректора «Сущее тупоумие!» по его адресу. Несколько мгновений он чувствовал себя полностью уничтоженным, силы его покинули. Мысль о том, что он хотя бы на минуту оказался докучлив, навалилась на него, как гора. Он готов был немедленно сбросить с себя груз существования, докучный не только ему, но и кому-то другому.
Выйдя из ворот, он направился к кладбищу, где был похоронен сын пастора Маркварда, и там разрыдался над могилой юноши горючими слезами отчаяния и бессилия. Мир представился ему холодным и мрачным, а собственное будущее – безрадостным. Более всего он желал бы смешаться с пылью, по которой ступала его нога, и все это – из-за чересчур поспешно брошенной фразы: «Позвольте вас поблагодарить». Эти слова сидели в его душе жалом, которое он понапрасну силился вынуть, – впрочем, не признаваясь себе в этом, но выводя свое отчаяние и бессилие из общих мыслей о ничтожности человеческой жизни и тщете всего сущего. Да, он и вправду много раздумывал над этим, но без осознания главной причины все эти отвлеченные рассуждения могли занять лишь его разум, но не затрагивали сердца. Если разобраться, им овладело – и сделало жизнь столь ненавистной – ощущение человека, угнетенного общественными отношениями: Райзер вынужден был учить дворянского юношу, который ему за это платил и по окончании урока, коли заблагорассудится, мог вежливо указать ему на дверь. Какое же преступление совершил Райзер еще до своего рождения, что не появился на свет человеком, вокруг которого хлопочет множество других людей? Почему его роль – всегда работать, а роль другого – платить? Если б общественные условия, существующие в мире, сделали его счастливым и довольным, он повсюду усматривал бы целесообразность и порядок, а теперь все представлялось ему сплошным разладом, путаницей и хаосом.
По дороге домой Райзер повстречал одного из своих кредиторов, напомнившего ему о непогашенном долге, и, продолжая путь с грустно поникшей головой, услышал, как за его спиной какой-то мальчишка сказал товарищу: «Вон пошел магистр Блазий!» Это так его разозлило, что он прямо на улице отвесил мальчишке несколько оплеух, после чего тот до самого дома провожал его бранью.
С этого дня сам вид ганноверских улиц начал вызывать у Райзера отвращение, но неприятнее всех была ему улица, где мальчишка его дразнил, ее он всячески избегал, когда же все-таки не удавалось ее миновать, ему чудилось, будто дома готовы на него обрушиться, а чернь вперемежку с недовольными кредиторами бежит за ним толпой, осыпая насмешками.
Унижения так тесно следовали одно за другим, что он не успевал оправиться от этих ударов, сделавших для него ненавистным само здешнее пребывание. Мысль о том, чтобы покинуть Ганновер и пуститься по свету искать счастья, превратилась в твердую решимость, в чем он открылся одному только Филиппу Райзеру. Но друг был тогда слишком занят собой, так как закрутил новый роман и думал лишь о том, как бы выгоднее предстать перед своей подружкой. Судьба Антона Райзера поэтому волновала его куда меньше, чем в иные времена.
И хотя Антон Райзер намеревался вскорости навсегда покинуть Ганновер, Филипп Райзер посвящал его во все перипетии своего нового увлечения, словно его друг ничего так не желал, как успехов на этом поприще. Порой это выводило Антона Райзера из терпения, но как-никак Филипп Райзер был его ближайшим наперсником и ни с кем другим он не мог бы поделиться своими замыслами.
Поскольку, отправляясь скитаться по белу свету в поисках счастья, необходимо было все же назначить себе цель скитаний, Райзер избрал Веймар, где, как говорили, в то время обосновалась труппа Абеля Зайлера, выступавшая под руководством Экхофа. Именно там он надеялся обратить свои мечты в действительность, полностью отдавшись театру.
Пока он обдумывал этот план, ему снова довелось испытать унижение, которое окончательно утвердило его решимость.
Однажды он в компании товарищей из театральной труппы вышел из города прогуляться по общественному саду. Своим задумчивым и рассеянным видом он невыгодно выделялся среди остальных. И тут вдруг на него таким градом посыпались насмешки, что он просто онемел от неожиданности. А поскольку остроумие спутников не знало удержу, дурацким шуткам не было конца, к тому же свидетелями этой сцены стали несколько офицеров, стоявших неподалеку, Райзер не выдержал, вскочил из-за стола, расплатился с хозяином и со всех ног бросился прочь. Убежав от всех, он сразу разразился проклятиями по адресу своей судьбы и самого себя. Он насмехался над собой, так как был убежден, что родился на свет для насмешек и поругания.
Но как же случилось, что он оказался отдан на глумление миру, словно у него на лбу было выжжено клеймо насмешки? И почему оно в недобрый час – когда он, казалось бы, снискал уважение товарищей – вдруг снова сделало его посмешищем для всех?
Виной тому была бесхарактерность, воспитанная пренебрежением его собственных родителей, – недостаток, который он так и не сумел преодолеть, став взрослым. Он не мог смотреть на окружающих как на свою ровню – каждый казался ему в чем-то значительней и важней для мира, чем он сам, а потому в любом проявлении дружбы к своей персоне он усматривал род снисхождения. Он считал себя презренным, потому его и презирали, а нередко находил знаки презрения там, где человек, уважающий себя, ничего бы не заметил. Таков уж, видно, закон соотношения духовных сил: если какая-то энергия не находит противодействия, она устремляется вперед и сметает все на своем пути, как река, прорвавшая плотину. Сильная амбиция неудержимо поглощает слабую, будь то с помощью иронии, презрения, будь то ставя на сопернике клеймо насмешки. Быть осмеянным – значит дать себя погубить, осмеять – значит уничтожить чье-то самолюбие, менее развитое, чем твое. Но совсем другое дело – стать предметом всеобщей ненависти. Это хорошо и желательно. Ненависть окружающих не убьет самолюбие, но лишь вооружит его упорством, с которым его обладатель проживет тысячу лет, скалясь на ненавидящий его мир. Но не иметь ни друга, ни даже врага, – вот истинный ад, мучительная пагуба для мыслящего существа. Вот эти-то адские муки Райзер испытывал всякий раз, как из-за недостатка самоуважения внутренне соглашался, что заслуживает насмешки и презрение. Единственным его наслаждением в таких случаях было, оставшись наедине, с издевательским хохотом наброситься на самого себя, как бы доводя до конца начатое другими.
Когда насмешки гордых и презренье
Моею сделались судьбой,
Зачем к себе пустое сожаленье
И плач постыдный над собой?
Итак, убежав от насмешников, он бродил по пустынной местности и все более удалялся от города, не имея никакой цели, куда бы направить шаги. Он шел не разбирая пути, покуда не стало темнеть, и тут выбрался на широкую дорогу, ведшую к деревне, которая уже рисовалась впереди. Небо все плотнее затягивали тучи, собирался дождь, закаркали вóроны, и два из них, летя над его головой, словно бы вызвались ему в провожатые и наконец привели прямо к маленькому деревенскому кладбищу, окруженному, как стеной, беспорядочно наваленными камнями. Низкая островерхая церковь, крытая дранкой; толстые стены, в каждой по крошечному окошку, сквозь которые внутрь косо пробивался свет; дверь, наполовину ушедшая в землю, так что, входя, хотелось нагнуться… И столь же маленькое и неприметное, как церковь, кладбище с теснящимися могилами, скрытыми густой порослью крапивы. Край неба потемнел, само оно сумрачно надвинулось на землю, остался виден только небольшой клочок земли, где он стоял. И вот эта малость и неприметность деревни, кладбища и церкви произвела на Райзера странное действие: ему стало казаться, что все вещи мира исчезают, стекая по тонкому острию, на конце которого – тесная и душная могила, за ней же больше ничего нет, только глухая крышка гроба, заслоняющая мир от глаз смертного. Эта картина наполнила Райзера отвращением, сама мысль о медленном стекании все ближе и ближе к тонкому острию, за коим – ничто, с ужасной силой погнала его прочь от этого крошечного кладбища в непроглядную ночь, будто он убегал от гроба, уже готового его поглотить. Деревня с кладбищем преследовала его как воплощение ужаса, пока окончательно не скрылась из виду. Казалось, разверстая могила требует своей жертвы, норовит поглотить его. Лишь дойдя до соседней деревни, он немного успокоился.
Но чем особенно ужаснула его на кладбище мысль о смерти, так это представлением о малости, овладевшим его душой и породившим в ней невыносимую пугающую пустоту. Где малое, там рядом исчезновение, ничтожество; понятие о малом – вот что вызывает страдание, опустошенность и тоску. Гроб – тесный дом, могила – безмолвное, холодное и маленькое жилище. Малость порождает пустоту, пустота – тоску, а тоска ведет в ничто, бесконечная пустота и есть ничто. На маленьком кладбище Райзер испытал страх ничтожества; переход от бытия к небытию предстал ему так наглядно, с такой силой и определенностью, что само его существование будто повисло на нити, вот-вот готовой оборваться.
Усталость от жизни у него разом как рукой сняло, он попробовал накопить некий солидный запас идей, который просто помог бы ему спастись от превращения в ничто, и когда он ненароком вышел на тракт, ведущий в Эрихсхаген, где жили его родители, и вдруг узнал эту местность, то и решил за ночь одолеть оставшееся расстояние и утром снова удивить их своим появлением. Он уже на милю отошел от Ганновера, и идти оставалось еще примерно пять миль.
Однако мысль, что он не посмеет рассказать родителям о принятом решении и будет уходить от них с тяжелым сердцем, заставила его повернуть обратно, тем более что ближе к полуночи полил сильный дождь. Он пробирался под дождем, в кромешной темноте через поле высокой ржи, в сторону города. Стояла теплая летняя ночь, и в этом мизантропическом ночном странствии дождь и тьма были ему любезнейшими попутчиками. На лоне природы он чувствовал себя сильным и свободным, ничто не давило на него, ничто не стесняло, здесь в любом месте он был как дома, где всюду можно прилечь, не хоронясь от чужих взглядов. И наконец, он находил особое блаженство в том, что наугад прокладывал себе дорогу среди высоких колосьев ржи, не будучи связан никакой особой целью. В ночном безмолвии он чувствовал себя свободным, как дикарь в пустыне, вся ширь земли была ему постелью, вся природа – владением.
Так он шел ночь напролет, пока не забрезжил день, и, когда понемногу начали обозначаться очертания местности, ему показалось, что до Ганновера осталось идти не больше полумили. Но тут – он едва поверил своим глазам – прямо пред ним выросла высокая кладбищенская стена, которой он никогда не видел в этой округе. Он изо всех сил пытался сосредоточиться, распознать местность, но тщетно, – длинная кладбищенская стена никак не соединялась у него с окружающим пространством. Позднее она так и осталась в его сознании неким явлением, заставившим усомниться, спит он или бодрствует. Он протер глаза, но длинная стена не исчезла, больше того – странное ночное блуждание и отсутствие передышки, естественным образом обычно прерывающей течение дневных мыслей, расстроило его фантазию и заставило опасаться за свой рассудок. Он и правда был недалек от помешательства, но тут разглядел в тумане четыре ганноверские башни и наконец понял, где находится. Предрассветные сумерки сбили его с толку и заставили принять окружающую местность, прилегающую к городу, за другую, схожую, но лежавшую в полумиле от Ганновера. Перед ним раскинулось обширное городское кладбище с маленькой часовней посередине. Теперь Райзер быстро распознал местность – и словно очнулся от сна.
Но если что-то способно довести до умопомешательства, так это нарушение наших представлений о времени и пространстве, с каковыми связаны у нас все другие понятия. Новый день явился Райзеру не как новый, потому что между ним и предыдущим не случилось передышки в работе его воображения. Он направился в город. Час был еще ранний, и на улицах царила мертвая тишина. Дом и комната, где он жил, – все казалось ему другим, чужим, странным… Ночные блуждания произвели настоящий переворот в его мыслях: он теперь чувствовал себя в собственном жилище как бы не дома, само понятие о месте поколебалось в его голове, и весь день он ходил как лунатик. Но при всем том воспоминания об этой ночи сделались ему приятны. Карканье воронов над головой, маленькое кладбище, поля ржи, пройденные от края до края, – все соединилось в его воображении в одну сумрачную группу, прекрасный ночной образ, который потом еще не раз в одинокие часы услаждал его фантазию.
И все же, если такое возможно, жизнь в Ганновере стала ему еще ненавистней. Дух странствий теперь всецело его обуял, хотя и с другими юношами, игравшими вместе с ним на сцене, случилось нечто подобное. Один из них, по имени Тимей, слывший тихим, прилежным и исполнительным учеником, однажды признался Райзеру, что его совсем не прельщает звание богослова, к которому его готовили, и пустился в рассуждения о благословенном ремесле актера, с пылом возражая всем тем, кто незаслуженно принижает почтенное актерское сословие.
Эту беседу они вели по дороге в маленькую деревушку невдалеке от Ганновера, и настолько увлеклись, что не заметили наступления вечера, и пришлось им заночевать в этой деревне. Непривычный ночлег в незнакомом месте настроил обоих на еще более романический лад, им мерещилось, будто они уже отправились в некое опасное приключение и делят друг с другом радость и горе. И смелое намерение отважных юношей презреть предрассудки света и следовать только своим наклонностям или, как они говорили, своему призванию не пропало втуне. Райзер первым приступил к его осуществлению, и Тимей вскоре за ним последовал, хотя, на его счастье, был возвращен обратно.
Меж тем Райзер, прежде чем осуществить свое намерение, еще раз совершил ночную вылазку с Иффландом, который как-то под вечер, в одиннадцать часов зашел к нему с одним юношей из театрального товарищества и пригласил на прогулку в горы Дайстера, что лежат за три мили от Ганновера. Райзер, уже привыкший к подобным ночным прогулам, сразу согласился – ночь стояла теплая и лунная. Беседа зашла о поэтических материях, порой чересчур разгораясь, порой делаясь более задушевной. Когда дорога проходила деревней, их обдавал запах свежего сена. Приятнее этого ночного путешествия трудно было что-то вообразить, казалось, его устроил сам случай, чтобы подстегнуть воображение Райзера и дать его разгоревшейся страсти к дальнему странствию перевес над разумом.
Еще до рассвета трое путешественников остановились на ночлег в предгорной деревушке и на несколько часов отдались сну. Когда же ранним утром настало пробуждение, все картинки волшебного фонаря бесследно исчезли: душам их снова предстала суровая и холодная действительность, и они чуть не час просидели друг против друга, неудержимо зевая. Если что-то и могло излечить Райзера от его фантазий, так это утро после подобной ночи. Им расхотелось взбираться на гору, так как чувствовали они себя усталыми и разбитыми и потому сразу отправились в город, выбрав кратчайший путь, хотя и тот оказался им в тягость из-за палящего солнца. Но в дороге они предались поэтическим импровизациям, чем скрасили себе однообразие ходьбы.
Райзер, однако, по-прежнему горел решимостью отправиться в путь, отдавшись на волю судьбы. Что бы с ним ни случилось, все было лучше томительного однообразия жизни в Ганновере, не обещавшей не то что полного счастья, но даже простого довольства.
Все его мысли были устремлены вдаль. Ко всему прочему, он не знал иного способа разделаться с долгами, как снова признавшись пастору Маркварду в их существовании и тем самым полностью лишившись его заботы и дружбы. Да и многочисленные унижения, которые ему довелось испытать в последнее время, все еще оставались свежи в памяти и делали ненавистным дальнейшее пребывание в Ганновере.
Он сумел столь убедительно обрисовать ближайшему другу Филиппу Райзеру свое плачевное состояние, что под конец тот одобрил его решение покинуть Ганновер и в подробностях описал путь до Эрфурта, когда-то пешком проделанный им самим в обратном направлении – из Эрфурта в Ганновер. Оттуда Райзер предполагал направиться в Веймар, где хотел попроситься в театральную труппу Зайлера, а точнее – Экхофа. Впоследствии он предполагал, находясь в Веймаре, расплатиться по долгам, наделанным в Ганновере, и тем восстановить свое доброе имя, восстав к жизни там после гражданской смерти здесь. Это свое намерение он пестовал с особой приятностью.
Свои немногочисленные книги и бумаги он отдал на хранение Филиппу Райзеру, платье частично заложил, чтобы покрыть театральные расходы, а прочие вещи оставил хозяину в возмещение платы за постой. Ему он сказал, что должен отлучиться на неделю к тяжело заболевшему отцу и просил передать это всем, кто будет о нем спрашивать.
Теперь почти все его дела были улажены, кроме вопроса дорожных денег. Сумма, которую ему удалось добыть для путешествия длиною в сорок миль, составляла один-единственный дукат, и с этим дукатом он отважно собирался пуститься в путь, как ни убеждал его Филипп Райзер, что это чистой воды безумие. Сам же Филипп не мог ссудить его деньгами по весьма немаловажной причине: у него они водились очень редко, а в ту пору их и вовсе не было.
Таким образом, Антон Райзер мог с чистым сердцем сказать о себе: все мое ношу с собой. Добротное платье, в котором он выступал на дне рождения королевы, да сюртук – таков был весь его гардероб. Вдобавок он имел на боку золоченую придворную шпажку, на ногах – шелковые чулки и башмаки. Содержимое его сумки составляли: свежая сорочка, вторая пара шелковых чулок, томик Гомера карманного формата с латинским переводом и латинская афиша с его именем, извещавшая о поздравительной речи королеве.
Одно из воскресных утр в середине зимы он провел у Филиппа Райзера, делая последние приготовления к своему походу, который начинался в тот же день. Дни уже пошли в рост, и он надеялся засветло преодолеть три мили, отделявшие его от соседнего города.
Весело светило солнце, люди в воскресных нарядах прогуливались по улице, иные выходили за ворота, чтобы к вечеру вернуться в свои дома, Райзеру же предстояло навсегда проститься с Ганновером, и это рождало в нем чувство, которое нельзя было назвать унынием или грустью, скорее, своего рода очерствением. Расставание с Ганновером не отозвалось в нем ни единой слезой, он был почти так же холоден и безучастен, как если бы просто миновал какой-то незнакомый город. Даже прощание с Филиппом Райзером вышло скорее холодным, чем сердечным. Филипп Райзер увлеченно прилаживал новую кокарду к своей шляпе и в час расставания с другом говорил лишь о новом романе с какой-то девушкой, видимо полагая, что Антон Райзер должен от всей души желать ему успеха. В общем, беседа их шла так, словно назавтра они снова встретятся и жизнь пойдет по-прежнему. Но больше всего Антона Райзера раздражала именно кокарда, столь сильно занимавшая его единственного друга в последний час их общения. Эта кокарда еще долго носилась перед его глазами и каждый раз вызывала раздражение, стоило ему о ней вспомнить. С другой стороны, она же весьма облегчила ему расставание с единственным другом. Впрочем, Филипп Райзер был исполнен к нему самых добрых чувств и всего-навсего дал мелкому тщеславию и игривым мечтам взять в себе верх над дружеским участием, поэтому кокарда, с помощью которой он надеялся понравиться своей подружке, стала для него столь дорогим предметом, но в этом Антон Райзер, увы, совсем не разбирался.
«Холодный и бесчувственный, стучусь я в железные врата смерти!»[14]14
И.В. Гете, Страдания юного Вертера. Перевод Н. Касаткиной.
[Закрыть]
Эти слова из «Страданий юного Вертера» все утро звучали в ушах Антона Райзера, и когда Филипп Райзер открыл перед ним широкие ворота, где им предстояло окончательно расстаться, так как не хотел провожать его дальше, дабы не возбудить подозрений в причастности к его побегу, Антон Райзер еще несколько времени стоял, не ступая наружу, и застывшим взглядом глядел на Филиппа Райзера. В эту минуту ему мнилось, что он и впрямь стучится в железные врата смерти. Он протянул руку Филиппу Райзеру, который не мог вымолвить ни слова, затворил за собой створку ворот и поспешил к ближайшему изгибу дороги, желая побыстрей скрыться с глаз своего друга.
Далее он быстрым шагом прошел по валу к воротам св. Эгидия и еще раз взглянул через плечо на свое прежнее жилище, дом ректора, открывшийся с вала. Было уже два часа дня, в церкви зазвонили, и, приближаясь к воротам, он все более ускорял шаги. Ему чудилось, что могила вновь открывает свой зев за его спиной. Когда же город с его зеленым валом остался позади, а дома стали сливаться друг с другом, на душе у него полегчало, и наконец четыре башни, свидетельницы всех его горестей и обид, совсем скрылись из вида.









































