Текст книги "Антон Райзер"
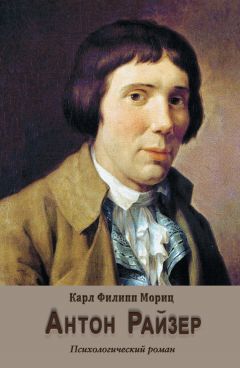
Автор книги: Карл Мориц
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Далее Филипп Райзер в своем выспреннем стиле сообщал о смерти поэта Гёльти в Ганновере, закончил же письмо такими словами: «Ликуй, Поэт! Рыдай, Человек!» О продолжении его любовного романа в письме почти ничего не говорилось.
Во время подготовки своих ролей в двух спектаклях Райзер завязал в Эрфурте новую дружбу со студентом по имени Нерьес, урожденным гамбуржцем, жившим в доме доктора Фрорипа. Доктор показал ему список стихотворения Райзера «Картезианский монастырь» и тем сразу сотворил для его сочинителя нового друга.
И дружба эта была в самом что ни на есть сентиментальном вкусе, против коего Райзер как раз писал свой трактат.
Юный Нерьес в самом деле имел чувствительное сердце, однако слишком легко увлекался и при всяком удобном случае разыгрывал сентиментальность, сам того не осознавая: заодно с Райзером он пылко обличал смехотворную сущность фальшивой сентиментальности, однако поскольку желал не выглядеть сентиментальным в глазах людей, но в действительности жить чувствами, то не замечал в самом себе никакой аффектации и предавался чувствам столь истово, не допуская насмешек над собой, что постепенно вовлек и Райзера в этот водоворот, доводивший душу до немыслимо взвинченного состояния.
Райзера ободряло уже и то, что к нему, находящемуся в столь стесненных обстоятельствах, льнет человек, наделенный всеми мирскими благами. В нем неудержимо росла любовь и привязанность к молодому Нерьесу, еще укреплявшаяся благодаря неподдельному дружеству со стороны юноши, так что оба они все более уподоблялись друг другу в своих безрассудствах, взаимно усугубляя свою меланхолию и сентиментальность.
Более всего этому способствовали одинокие прогулки, во время которых они часто, слишком часто разыгрывали между собой театральные сцены, включая в них на равных правах и природу: так, при заходе солнца они читали выдержки из поэмы Клопштока об учениках в Эммаусе, в пасмурный день – «Сотворение ада» Цахариэ и т. д.
Зачастую они располагались на одном из склонов Штайгервальда, откуда хорошо был виден Эрфурт с его старинными башнями и раскинувшимися кругом садами. Сюда частенько поднимались на прогулку горожане, разводили костерки и варили на них кофе, тем возрождая дух патриархальной простоты.
Здесь многими часами просиживали и Нерьес с Райзером, попеременно читая друг другу стихи разных поэтов, – занятие, почти всегда требовавшее от них огромных усилий и труда, но они бы ни за что не признались в этом друг другу, так как не хотели расставаться со своим идеальным представлением: «Охваченные дружеским чувством, мы сидели на штайгервальдском склоне, любовались живописной долиной и услаждали свой дух прекрасными творениями поэзии».
Стоит подумать, как много мизерных обстоятельств сопутствовало такому недвижному сидению и декламации под открытым небом, и легко будет себе представить, с какими разнообразными мелкими неприятностями приходилось бороться Нерьесу и Райзеру во время этих чувствительных сцен: как часто земля оказывалась сырой, по ногам ползали муравьи, ветер трепал страницу книги и т. п.
Нерьесу доставило особое наслаждение прочитать Райзеру «Мессиаду» Клопштока от доски до доски, отчего оба испытывали ужасающую скуку, в которой не решались признаться не только друг другу, но даже и самим себе, однако у Нерьеса было хотя бы преимущество произносить стихи вслух, тем подгоняя время, Райзер же был обречен слушать и восхищаться, и все это составляло тягчайшие часы его жизни, которые как ничто другое отвращали его от самой мысли прожить свою жизнь сызнова. Ибо нет большей муки, чем ощущать совершенную пустоту души, тщетно стремящейся эту пустоту заполнить и без вины винящей самое себя в глухоте и бесчувствии к возвышенным звукам, беспрестанно отдающимся в ушах.
Хотя друзья были теперь почти неразлучны, Райзер вновь затосковал по одиноким прогулкам, всегда доставлявшим ему чистейшее наслаждение. Однако теперь отравлял себе и его, так как ожидал от подобных прогулок слишком многого и возвращался домой раздосадованный, если не обретал желаемого: лишь только Там превращалось в Здесь, оно сразу теряло свое очарование и источник радости иссякал.
Досада, сменявшая окрыленную надежду, была такого грубого, пошлого и низкого свойства, что совсем не оставляла места для мягкой грусти или иного подобного чувства. Она напоминала ощущение человека, насквозь промокшего под дождем, который, дрожа от холода, возвращается в нетопленую комнату.
Вот такую жизнь вел Райзер, продолжая при этом писать свой трактат, обличающий фальшивую сентиментальность. Однако как-то раз, гуляя в одиночестве, он имел случай наблюдать необычное проявление сентиментальности у простого человека, от которого менее всего ожидал чего-то подобного.
Райзер проходил тогда эрфуртскими садами, был сезон созревания слив, и он, не удержавшись, сорвал одну, спелую и прекрасную, с ветки, перевесившейся через забор. Хозяин сада, заметив это, весьма грубо на него набросился – да знает ли он, что сорванная слива обойдется ему в один дукат!
Райзер попытался было торговаться, но тотчас признался, что не имеет с собой ни гроша. А чтобы хоть как-то возместить хозяину уворованную сливу, Райзеру пришлось отдать свой единственный и добротный носовой платок, расставаться с коим ему было очень жаль.
Печальный, он продолжил свой путь, но, не пройдя и нескольких шагов, вдруг заметил валявшийся на земле складной нож. Он быстро поднял его и, обернувшись, крикнул хозяину, не вернет ли тот его платок взамен найденного ножа.
Как же изумился Райзер, когда хозяин, еще минутой раньше столь грубый, внезапно бросился ему на шею, расцеловал и попросился к нему в друзья, ведь Райзер не иначе как любимчик Провидения, коли сумел найти нож, потерянный не кем иным, как этим самым садовником. Он тут же с готовностью вернул платок, добавив, что отныне его сад всегда открыт для Райзера, и тот может рвать здесь слив, сколько вздумается, а сам он, хозяин, готов служить ему во всем, ибо ничего похожего на этот удивительный случай с ним никогда не происходило.
Обдумывая это странное происшествие по дороге домой, Райзер нашел самым примечательным то, что подобное приключилось с ним впервые в жизни и притом благодаря стечению обстоятельств, обычно совпадающих чрезвычайно редко.
Наверное, думал он, этой безделицей исчерпано доброе расположение его судьбы и теперь она заставит его дороже расплачиваться в большем за вину, что вменена ему самим его рождением на свет.
В этой связи ему вспомнился векфильдский священник, коему на редкость удачный бросок костей принес выигрыш в несколько пенсов – незадолго перед тем, как пришло известие о банкротстве купца, лишившем его целого состояния.
Еще недолгое время судьба воздерживалась от унизительных ударов, приуготовленных для Райзера, и позволяла ему безмятежно наслаждаться игрой в спектакле, где ему было отведено целых три роли.
Его заветнейшее желание оказалось тем самым почти исполнено, хотя блеснуть в трагической роли ему так и не довелось. Больше того, к его суждениям о театре прислушивались, у него спрашивали совета, а участием в спектакле и своими стихами он снискал известность среди студентов: все они относились к нему с учтивостью, составлявшей приятный контраст с тем, как он жил в Ганновере.
Теперь он прилежно посещал университетскую библиотеку и с особым удовольствием изучал сделанное Дюгальдом «Описание Китая», потратив на это уйму времени.
Как раз в это время вышла «Монастырская история» Зигварта, и Райзер вместе с Нерьесом прочли эту книгу несколько раз, преодолевая ужасающую скуку и всячески стараясь сохранить первоначально возникшее чувство умиления на протяжении всех трех ее томов.
Под конец Райзер задумал не больше и не меньше, как переложить сей сюжет в жанр исторической трагедии, и сделал для пробы множество набросков, затратив на это без счету драгоценного времени.
Когда же у него не стало получаться желаемое, то после каждой неудачи он часами предавался невыразимой тоске и отвращению. Природа, а заодно и собственные мысли потеряли для него всякое очарование, каждая минута его тяготила, а жизнь стала сущим терзанием.
Посему следующий раздел в истории страданий Антона Райзера следовало бы озаглавить
Муки поэзии,
ибо он полнее всего отражает внутреннее и внешнее его состояние, а также показывает то, что многие люди не сознают или скрывают всю жизнь, робея доискиваться истинных оснований и причин своих неприятных ощущений.
Этим тайным мукам и сопротивлялся Райзер почти все свое детство.
Когда на него внезапно накатывала поэтическая волна, в душе рождалось печальное чувство, он представлял себе Нечто, в котором сам полностью растворялся, и все когда-либо им читанное, слышанное и передуманное перед лицом этого Нечто тоже куда-то исчезало. Верно описать его бытие стало бы неслыханным и несказанным наслаждением.
Одно по-прежнему оставалось неясным: чтó было бы здесь наиболее уместно – трагедия, баллада или элегическое стихотворение. Во всяком случае, это произведение должно было пробуждать некое чувство, о котором поэт уже смутно догадывался.
В минуты блаженного предчувствия язык мог издавать лишь отдельные лепечущие звуки. Как в некоторых одах Клопштока, где промежутки между словами заполнены точками.
Но эти разрозненные звуки всегда передавали всеобщность великого и возвышенного, вызывали слезы радости и тому подобные отклики. И это продолжалось, пока чувствительность снова не иссякала, так и не породив хотя бы нескольких разумных строк, могущих положить начало чему-то определенному.
Во время этого кризиса не рождалось ничего прекрасного, к чему могла бы прилепиться душа, на поверку оставалось лишь нечто совсем нестоящее. Как будто душа имела смутное представление о чем-то таком, чем стать не могла, но что делало постыдным само ее нынешнее существование.
Таков неложный знак отсутствия поэтического призвания: его нет, если побудить к творению тебя может одно лишь чувство целого, а прежде возникновения этого чувства или хотя бы ко времени его возникновения замысленная сцена во всей ее определенности никак не складывается. Иными словами, кто во время переживания некоего чувства не может окинуть взглядом сцену во всех ее подробностях, у того есть чувство, но нет поэтического дара.
И конечно, нет ничего опаснее, чем предаться этой обманчивой склонности. Никогда не рано бывает призвать юношу к строгому допросу самого себя: не ставит ли он свое желание на место способности творить. А поскольку заполнить это пустующее место ему не дано, то наказанием за запретное наслаждение будет вечная неудовлетворенность.
Именно так и происходило с Райзером, омрачившим лучшие часы своей жизни напрасными потугами, погоней за химерой, все время приманивающей его душу, когда же ему чудилось, будто он ее поймал, она немедленно растворялась в туманной дымке.
Едва ли контраст поэзии с жизнью и судьбой был явлен на ком-либо столь разительно, как на Райзере, который с детства жил в среде, втаптывавшей его в грязь, и, чтобы дотянуться до поэтического, ему пришлось перепрыгнуть через ступень формирования личности, а на следующей ступени он удержаться не смог.
Теперь во внешней его жизни все повторялось заново. Собственной комнаты у него не было; когда похолодало, ему пришлось переселиться в общую гостиную и вместе со своими сожителями выходить из нее всякий раз, как затевалась уборка.
В этой комнате с Райзером соседствовало целое семейство и еще один студент; все они принимали здесь гостей, и потому здесь вечно царили разговоры, детский шум, пение, ссоры и крики. Таково было окружение, в коем Райзер сочинял философский трактат о сентиментальности и пытался воплотить свои идеальные представления о поэзии.
Здесь же он вознамерился писать трагедию «Зигварт», которая начиналась у него сценой визита к отшельнику, излюбленной фантазией Райзера да и большинства молодых людей, воображающих у себя поэтический дар.
Это вполне естественно, так как жизнь отшельника имеет в себе много поэтического и поэт находит в его келье готовый материал для себя.
Однако ж тот, кто дает себя увлечь подобным предметам, почти наверняка также лишен подлинного поэтического дара, ибо ищет поэзии в предметах, тогда как она должна пребывать в нем самом и поэтизировать все, что предстает его воображению.
Равно и выбор ужасного – дурной знак, коль скоро самомнящий поэтический гений перво-наперво обращается именно к нему. Причина в том, что ужасное действительно заключает в себе много поэтического и этой материей легко можно маскировать внутреннюю пустоту и бесплодность.
Именно так произошло и с Райзером в Ганновере, когда он еще в школе попытался сгрудить и лжесвидетельство, и кровосмешение, и отцеубийство в одной трагедии, назвав ее «Лжесвидетельство» и при этом все время думая о постановке ее на сцене и о том, какой эффект она произведет на зрителей.
И этого тоже должно избегать всякому, кто всерьез желает дознаться, есть ли у него поэтическое призвание. Ибо истинный поэт и художник ожидает воздаяния себе не от эффекта, сообщаемого его произведением, но ищет наслаждения в самой работе и не сочтет, что трудился впустую, даже если никто не увидит его усилий. Произведение само безотчетно его притягивает, само заключает в себе энергию для его будущего роста, а все почести – лишь стрекало, которое его подгоняет.
Жажда славы может, конечно, побудить к созданию великого произведения, но никогда не сможет наделить необходимой для этого силой того, кто не обладал ею еще прежде, чем познал жажду славы.
И еще один, третий дурной знак, когда молодые поэты слишком охотно черпают сюжеты из далекого и неведомого, когда они чрезмерно увлекаются обработкой восточных мотивов и прочих материй, донельзя удаленных от сцен повседневной жизни и несущих поэзию уже в самих себе.
И к этому Райзер тоже был причастен. Уже довольно долго он обдумывал поэму о Творении, которая разворачивалась бы в отдаленнейших пределах, какие только можно вообразить, и где на месте подробностей, коих он избегал, выступали сплошь огромные бесформенные массы, полагаемые чем-то в высшей степени поэтическим и в качестве такового избираемые многими не слишком одаренными молодыми авторами куда более охотно, нежели предметы, более близкие к человеку. Ибо в эти последние надлежало бы еще вдохнуть возвышенную поэзию, а в первых их гений мнил отыскать ее уже готовой.
Между тем обстоятельства Райзера с каждым днем становились все более стесненными – из Ганновера, вопреки надеждам, никакой помощи не поступало, хозяева все чаще бросали на него косые взгляды, поняв, что у него нет не только денег, но и надежд на их получение. Он больше не мог платить за завтраки и ужины, которые обычно здесь получал, и ему ясно дали понять, что никакого желания ссужать его деньгами у хозяев нет. А поскольку пользы от него теперь не было никакой и своим унылым видом он только портил компанию, вполне естественно, что от него решили избавиться и отказали от квартиры.
Событие само по себе заурядное, но Райзер воспринял его трагически. Мысль о том, что он кому-то в тягость и что окружающие едва его терпят, опять сделала для него жизнь ненавистной. На него снова разом нахлынули воспоминания детства и юности. Весь позор он принял на себя и в отчаянии решил снова отдаться на волю слепой судьбы.
Он задумал в тот же день покинуть Эрфурт, великое множество романических идей теснилось у него в голове, и самая заманчивая из них была: отправиться в Веймар к создателю «Вертера» и на любых условиях попроситься к нему в услужение; таким образом он под чужим видом вошел бы в близкое окружение человека, оставившего в его душе глубочайший след. Райзер вышел за городские ворота и устремил взгляд на Эттерсберг, стоявший высокой преградой на пути его желаний.
Он навестил Фрорипа и стал прощаться с ним, не называя причины, по которой вновь покидает Эрфурт. Доктор Фрорип отнес решение Райзера за счет его мрачного настроения, стал убеждать его остаться и отпустил не прежде, чем тот пообещал повременить с уходом по крайней мере до завтрашнего утра.
Такое участие было Райзеру чрезвычайно лестно, но стоило ему остаться наедине, как его, словно злой демон, опять начала преследовать мысль, что он сделался обузой для окружающих. Не находя покоя, он стал бродить по пустынным окрестностям Эрфурта, вокруг картезианского монастыря, где всем сердцем желал бы теперь обрести надежное убежище, и с тоской глядел на его недвижные стены.
Так он блуждал по округе до вечера, но тут небо затянулось тучами и обрушился ливень, мгновенно промочивший его до нитки. Охватившая Райзера крупная дрожь лишь усиливала его внутреннюю тревогу, заставляя под проливным дождем кружить по опустевшим улицам вдоль старинных городских стен: сама мысль о возвращении в прежнее жилище казалась ему невыносимой.
Он поднялся по высокой лестнице к древнему собору и обвязал голову платком, надеясь хоть ненадолго спастись от дождя под стеной. Сначала от усталости на него навалилась какая-то отупляющая дремота, однако вскоре, разбуженный новым порывом ветра и дождя, он опять пустился кружить по улицам.
Под струями дождя, бившими в лицо, он вспомнил строку из Лира: to shut me out, in such a night as this! («Прогнать меня в такую ночь наружу!»[15]15
Перевод Б. Пастернака.
[Закрыть]), и тут, погруженный в собственное отчаяние, принялся исполнять роль Лира, но вскоре позабыл о себе, растворившись в судьбе Лира, изгнанного родными дочерьми и призывающего стихии отомстить чудовищную обиду.
Сцена эта сначала его взбодрила, и некоторое время он с каким-то сладострастием даже упивался своим положением, но наконец и это чувство притупилось, его окружала лишь голая действительность, и, опомнившись, он презрительно расхохотался над самим собой.
В таком настроении он снова вернулся к старинному собору, который уже открылся, и в него при зажженных свечах стекались на заутреню хористы. Старинное готическое здание, мерцающие огоньки, их отражение в высоких окнах произвели волшебное впечатление на Райзера, опустившегося на скамью после целой ночи, проведенной в блужданиях. Он словно бы обрел приют от дождя, и все же здешнее пространство не было предназначено для живых. Скорее, сумрачный свод призывал к себе тех, что хотели бежать от жизни, и всякий, кто пережил ночь, подобную выпавшей Райзеру, с охотой откликался на этот зов. Сидя на скамье в храме, Райзер почувствовал себя перенесенным в область отрешенности и покоя, что доставило ему несказанное наслаждение, разом освободившее от всех горестей и скорбей и отвлекшее от воспоминаний прошлого. Райзер хлебнул летейской влаги и соскользнул в царство сладостной и безмятежной дремоты. При этом взгляд его неотрывно ловил бледное мерцание высоких окон, которое, как он чувствовал, и перенесло его в новый мир: он пробудился в торжественных спальных покоях и открыл глаза после кошмарного ночного сна.
Подобные минуты в жизни Райзера и вправду походили на горячечные сны, но они были частью его жизни и гнездились в его судьбе с самого детства. И разве не презрение к самому себе и не подавленное чувство собственного достоинства приводили его в подобные состояния? А само презрение к себе, не было ли оно вызвано постоянным давлением извне, в коем, правда, следует винить не столько людей, сколько случайные причины?
Когда окончательно рассвело, Райзер с успокоенным сердцем вышел из собора и встретил на улице своего друга Нерьеса. Юноша уже спешил на урок и, взглянув на Райзера, от неожиданности вздрогнул, настолько изнурила и обессилила того прошедшая ночь.
Нерьес не успокоился, покуда Райзер во всех подробностях не описал ему свои обстоятельства. Затем, дружески упрекнув Райзера, что тот перестал ему доверять, он привел его на старую квартиру, постарался представить его хозяевам совсем в другом свете и заплатил ничтожный долг своего друга.
Такое искреннее участие вновь укрепило в Райзере пошатнувшееся достоинство, он даже гордился своим другом и через него обрел уважение к себе.
Чтобы получить возможность уединения, он испросил себе закуток на чердаке дома, куда перенесли его постель и где, предоставленный самому себе, он не без приятности прожил две или три недели.
Он проводил время в чтении и изучении наук и в своем уединении чувствовал бы себя совершенно счастливым, не мучай его замысел поэмы о Творении, не раз ставившей его на порог отчаяния, когда он пытался выразить то, что вроде бы хорошо чувствовал, но слов найти не умел.
Больше всего мучений доставляло ему помещавшееся в начале поэмы описание хаоса, которое его болезненная фантазия была не прочь развернуть как можно шире, однако он не находил нужных слов для своих чудовищных и гротескных представлений.
Он воображал себе хаос как нечто обманчивое и мнимое, внезапно предстающее в виде сна и наваждения, как некий образ, куда более прекрасный, чем правдоподобный, и именно потому не могущий существовать сколько-нибудь долго.
Обманное солнце вставало на горизонте и возвещало наступление сверкающего дня. Под его неверными лучами бездонное болото покрывалось коростой, на которой расцветали цветы и пробивались источники, но вдруг в глубине поднимались прежде стесненные силы, мощный поток с ревом вырывался из бездны, тьма со всеми ее ужасами вылетала из своего укрытия и, поглотив новорожденный день, вновь погружала его в ужасную могилу. Всегда теснимые в самих себя, эти силы в ярости бились во все стороны, ища выхода, и роптали под невыносимым гнетом. Могучие валы вздымались и падали, стеная под порывами воющего ветра. В глубокой темнице клокотало пламя; и вздымающаяся земля, и скала, на ней утвержденная, со страшным грохотом снова обрушивались во всепоглощающую бездну.
Вот над какими ужасными образами билась фантазия Райзера, в то время как его собственная душа являла собою хаос, куда не пробивался луч бесстрастной мысли, где душевные силы теряли равновесие, сердце тонуло во тьме, действительность больше не вызывала вдохновения, а мечты и химеры казались милее порядка, истины и света.
Конечно, все эти переживания тоже коренились в идеализме, к которому он склонялся от природы и в котором утвердился благодаря философским системам, изученным в Ганновере. И на этом зыбком берегу он не находил места, где бы утвердить ногу. Смешанное со страхом чувство неудовлетворенности и внутреннее беспокойство преследовали его на каждом шагу.
Все это и гнало его из людского общества на чердаки и мансарды, где он еще мог проводить приятнейшие часы, предаваясь своим фантазиям, и это же внушало ему неодолимое влечение ко всему романтическому и театральному.
Как внутреннее, так и внешнее его состояние способствовало тому, что он снова с головой утонул в сфере идеального, поэтому неудивительно, что от первого же толчка его прежняя страсть снова разгорелась огнем и он опять стал лелеять мысли о театре, и была это не столько художественная, сколько жизненная потребность.
И случился толчок очень скоро, когда в Эрфурт приехала труппа Шпайха и ей дозволили играть в бальном зале, где прежде ставили свой спектакль студенты.
Райзер здесь уже был хорошо известен и даже стяжал известную славу своими актерскими талантами, поэтому он очень скоро познакомился с директором этого маленького театрика, и тот сразу согласился предоставить ему ангажемент, стоит только Райзеру пожелать пойти в актеры.
Это искушение – а к Райзеру теперь само шло в руки то, чего он тщетно домогался всю свою жизнь, – оказалось для него слишком сильным. Он отбросил все сомнения и теперь словно переселился в театральный мир, воспылав энтузиазмом, как в Ганновере, ко всем его частностям вплоть до театральных билетов и исполнившись своего рода зависти ко всем театральным людям вплоть до суфлеров и переписчиков ролей.
Один из таких, по имени Байль, впоследствии ставший знаменитым актером, особенно остро возбуждал любопытство Райзера. Он заметно выделялся среди остальных членов труппы, и Райзер ничего так сильно не желал, как свести с ним знакомство, что было совсем не трудно. Он не утаил свое желание от Байля, тот укрепил его в решении посвятить себя театру, и Райзер надеялся обрести в нем друга.
Отбросив всякие сомнения, он старался сколько возможно не думать о докторе Фрорипе и своем друге Нерьесе и, никому не сказавшись, принял ангажемент театрального директора, исполнившись решимости и надежды первой же своей ролью так показать себя, чтобы все одобрили его выбор.
Теперь все зависело от того, в какой роли ему дадут выступить, и случилось так, что к ближайшей постановке были намечены «Модные поэты» и ему предложили роль в этом спектакле.
Сначала он хотел сыграть Мутного и уже выучил роль наизусть, но его новый друг актер Байль отговорил его, поскольку всегда сам играл эту роль и она ему хорошо удавалась, Райзеру же лучше взять Рифмовского, которого прежде исполнял малоизвестный актер.
Райзер охотно согласился на это предложение, так как полагал, что, сыграв Маскариля и магистра Блазия, уже достаточно поднаторел в комических ролях, а потому переписал свою роль и выучил ее наизусть.
Он уже предвкушал счастливое развитие своей театральной карьеры, как вдруг заметил нечто такое, что в самом расцвете надежд повергло его в страх и ужас. Будто посланец самого сатаны нанес ему удар кулаком: над ним нависла угроза выпадения волос.
Именно теперь, когда тело должно быть во всем безупречно, постигла его эта беда, заранее внушая ему отвращение к самому себе.
Он в панике помчался к своему верному другу доктору Зауэру, и тот обнадежил его, сказав, что волосы еще можно сохранить. И вот вечером перед премьерой «Модных поэтов» он стоял в уборной за кулисами и наряжался в комическое платье, в коем ему предстояло выступить в роли смехотворного Рифмовского. Его имя красовалось в этот день на афишах, развешанных на всех углах.
Незадолго до начала спектакля в театр пришел Нерьес и осыпал Райзера горькими упреками, однако Райзер, с головой ушедший в свою роль, пребывал в столь взбудораженных чувствах, что даже его не слышал. Наконец и Нерьес поддался тому же настроению и стал хохотать над его комическим костюмом, но в эту самую минуту явился посланец и объявил директору, что доктор Фрорип немедленно отправится в магистратуру с жалобой на него, если он позволит студенту, имя которого обозначено в афише, выйти на сцену. Ослушание приведет к незамедлительной потере театром концессии на выступления в городе.
Райзер застыл как окаменелый, директор в испуге заметался, не зная, что предпринять, пока один из актеров не вызвался как-нибудь одолеть роль Рифмовского с помощью суфлера: публика в партере уже начала топать, в нетерпении ожидая поднятия занавеса.
В неописуемом бешенстве Райзер мерил шагами пространство за кулисами, впившись зубами в тетрадку с ролью. Затем он выбежал из театра и снова под дождем и ветром пустился бродить по улицам, покуда уже глубокой ночью не упал в изнеможении на каком-то крытом мосту, защитившем его от дождя, но потом опять, собравшись с силами, продолжал кружить по городу, пока не занялся день.
Такое крайнее напряжение всего естества в первые мгновения горчайшей боли только и могло хоть немного возместить его потерю. Состояние нескончаемого исступления содержало в себе нечто такое, что питало и насыщало его неутолимую тоску. Вся его несбывшаяся театральная жизнь как будто сосредоточилась в пределах этой ночи, он же одну за одной перебирал все стадии страсти, которые мог изобразить, не иначе как испытав на самом себе.
На другой день доктор Фрорип призвал его к себе для отеческого увещания. В самых лестных выражениях он уверял Райзера, что его таланты располагают к большему, нежели звание актера, что он не знает самого себя и пребывает в неведении собственных достоинств.
Райзер же, ясно осознав невозможность осуществить свое желание в Эрфурте, снова впал в самообман и убедил себя, что по собственной воле отбрасывает намерение посвятить себя театру, раз уж весь свет словно сговорился препятствовать этому, да и разубеждающая речь доктора Фрорипа содержала в себе так много лестного.
Но едва он опять остался один, как самообман начал мстить жестокими терзаниями и сомнениями, возобновилась внутренняя борьба. И наконец его постиг ужаснейший удар, которого он так надеялся избежать: волосы его стали неудержимо падать.
Мысль о необходимости носить парик – для эрфуртских студентов нечто диковинное – была ему невыносима. Тогда на оставшиеся у него скудные деньги он снял место в гостинице на самом дальнем краю города, где, однако, только ночевал и по вечерам заказывал себе пиво с ломтем хлеба, чтобы продержаться на своем запасе как можно дольше.
Днем он обычно бродил по безлюдным местам, иногда укрываясь от дождя в церквах, и так провел почти две недели, пока один из друзей не выследил его, и как-то раз Нерьес, Окорд, В. и еще несколько человек, озабоченных его пропажей, неожиданно нагрянули к нему в гостиницу с дружескими упреками, зачем-де он от них удалился.
Ему удавалось теперь зачесать волосы со лба на парик, так что под густым слоем пудры вся шевелюра могла сойти за его собственную. И он решился вместе с друзьями вернуться в людское общество, однако все время старался держаться только этой компании, пожелав, сколько возможно, жить в уединении подальше от людей.
В этом желании ему также не было отказа. Благодушный В. сразу же поговорил со своим дядей, регирунгсратом профессором Шпрингером, и в живых красках описал ему положение Райзера и его нужду в уединенном жилище.
Советник Шпрингер пригласил Райзера к себе и нашел столь ободряющие и ласковые слова, что Райзер сразу проникся к нему сердечной симпатией и почтением.
В то время Шпрингер читал лекции по статистике, иные из которых Райзер посетил, так как весьма интересовался этим предметом. Узнав об этом, советник Шпрингер стал всячески склонять его всерьез заняться этой наукой и пообещал всемерно ему содействовать.
И содействие началось с того, что он, не откладывая, предоставил Райзеру, как тот мечтал, отдельное жилье в своем садовом домике, вручив ему и особый ключ. Из окна этого дома открывался красивейший вид на сады, сплошной чередой окружавшие Эрфурт.
Теперь Райзер снова получил трехразовый даровой стол, доктор Фрорип принимал в нем самое живое участие, всячески его поддерживая; он даже стал посещать математические лекции, добрые друзья приобщили его к своим литературным вечерам, порой читали ему вслух свои произведения. Все шло чудесно, пока внезапный прилив поэтического наваждения не разрушил сложившийся порядок.









































