Текст книги "Антон Райзер"
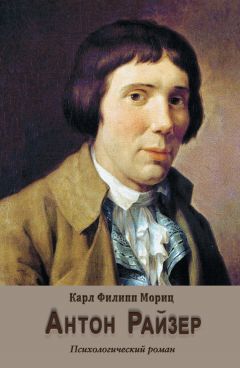
Автор книги: Карл Мориц
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Он мог часами разглядывать эту галерею, казавшуюся снизу очень маленькой, ниже колена, хотя головы музыкантов, дувших в свои инструменты, едва виднелись из-за ее парапета, и не отводить глаз от циферблатa, о котором люди, побывавшие наверху, уверяли, что он величиной с колесо телеги, хотя снизу выглядел не больше тачечного колеса. Все это до крайности возбуждало его любопытство, и он по целым дням не мог ни о чем другом думать и ничего желать, кроме как рассмотреть поближе галерею и циферблат.
Через звуковые отверстия над галереей можно было видеть и колокола, и Антон чуть ли не пожирал глазами это небывалое представление: огромная металлическая машина, производившая оглушительный звон, попеременно вздымалась и опускалась под действием железных балок, на которые ступали ногами люди, казавшиеся на большой высоте совсем крошечными.
Антону чудилось, будто он заглянул в глубочайшее чрево башни и ему открылся сокровенный источник чудесного звука, которому он прежде с волнением внимал лишь издалека. Однако это нисколько не утолило, но напротив, еще больше разожгло его любопытство: он видел лишь один гигантский бок вздымавшегося колокола, но не весь колокол целиком. О величине этого колокола он слышал еще в детстве, и воображение увеличивало его несчетно, рождая в душе самые романтические и невероятные фантазии.
В те времена, когда он страдал от боли в ноге, томился под родительским гнетом, – в чем находил он утешение? Что было сладчайшей мечтой его детства, заветнейшим желанием, заставлявшим его забыть обо всем на свете? Не что иное, как поближе рассмотреть циферблат и галерею на башне в новой части Ганновера, а заодно и колокол, который там висел.
Более года игра фантазии скрашивала печальнейшие часы его жизни, но ему пришлось оставить Ганновер, увы, так и не осуществив своей заветной мечты. Однако образ башни никак не шел у него из головы, последовал за ним в Брауншвейг и часто являлся ему во сне – высокие лестницы, лабиринты извилистых переходов: он поднимается на башню, стоит на галерее, с невыразимым наслаждением прикасается к башенному циферблату и внутренним зрением вблизи осматривает большой колокол, бесчисленные маленькие колокола и другие чудесные вещи, пока не ударяется головой о неохватный край большого колокола и не просыпается.
Вот почему стоило пастору Паульману заговорить о вершинах разума, как Антон с замиранием сердца вспоминал о вершине облюбованной им башни, о ее колоколе и циферблате, о высоких хорах, где помещался орган в Брюдернкирхе, и тогда в нем снова оживала тоска и при словах вершины разума из глаз текли слезы печали.
Умозрительную часть проповедей, произносимую пастором Паульманом с невероятной быстротой, Антон не улавливал, потому что не мог поспеть за ним своей мыслью. Но в ожидании увещевательной части он и эту слушал с большим наслаждением – ему казалось, будто сперва собираются тучи, чтобы чуть позже их рассеяла благодатная гроза или растворил теплый дождь.
Но однажды он пришел в церковь с намерением послушать проповедь пастора Паульмана и по возвращении домой записать ее. Внезапно туман в душе его прояснился – внимание сосредоточилось на другом: раньше он слушал сердцем, теперь же впервые стал воспринимать разумом и жаждал не только потрясения от того или иного места, но хотел уловить весь смысл проповеди целиком, и умозрительная ее часть увлекла его не меньше, чем увещевательная. Проповедь посвящалась любви к ближнему: сколь счастливы были бы люди, если бы каждый радел о благе остальных, а все – о благе каждого в отдельности. Эта проповедь, со всеми ее пунктами и подпунктами, прочно запечатлелась в его памяти, он слушал ее с намерением записать, что и сделал, вернувшись домой, после чего прочел ее вслух Августу, чем привел его в изумление.
Можно сказать, что запись этой проповеди подстегнула развитие разумных способностей Антона, ибо с того времени его мысли стали постепенно приходить в общий порядок – он научился самостоятельно размышлять о различных предметах и пытался выразить свои мысли, а поскольку вокруг не было никого, кому бы он мог их передать, он стал составлять письменные сочинения, пусть порой и довольно странные. Ведь если раньше он разговаривал с Богом устно, то теперь вступил с ним в переписку – сочинял длинные молитвы, в которых описывал свое душевное состояние.
Тяга к писательству развивалась в нем тем сильней, что он был полностью лишен чтения, так как Лобенштайн уже давно не давал ему ни одной книги, исключая подаренного Антону Энгельбрехтова «Описания Рая и Ада для Общества ткачей-полотнянщиков в Винзене-на-Аллере».
Большего пройдохи, чем этот Энгельбрехт, нельзя было сыскать во всем свете. Говорили про него, что он умер, затем заново ожил и убедил свою старую бабку, что побывал на небесах и в аду, женщина разнесла это по округе – так и появилась эта необыкновенная книга.
У этого плута хватило наглости утверждать, будто он парил по небу подле Христа и ангелов, держал в одной руке Солнце, в другой Луну и пересчитал все звезды на небе.
Однако уподобления его были порой весьма наивны: к примеру, он сравнивал небо с изысканным винным супом, коего людям на земле довелось отведать всего лишь несколько капель, но когда-нибудь его можно будет есть ложками, небесная же музыка превосходит земную, как прекрасный концерт – подвывание волынки или гнусавый звук, издаваемый рожком ночного сторожа.
А уж почетом, оказанным ему на небесах, он не мог вдоволь нахвастаться.
В отсутствие более питательных блюд душа Антона поневоле довольствовалась этой случайной стряпней, впрочем, занимавшей хотя бы его воображение. Разум его оставался при этом как бы неподвижным: он не верил в эти россказни, но и не сомневался в них – просто живо представлял себе все, о чем говорилось.
Между тем досада и гнев Лобенштайна на Антона стали все чаще выходить наружу тычками и бранью. Шляпник отравлял ему жизнь ужасным образом, заставляя выполнять самую рабскую и унизительную работу. Но ничто не ранило Антона сильнее, чем тот случай, когда ему впервые в жизни пришлось пройти по оживленной улице c тяжелой корзиной на спине, доверху набитой шапками, сам же Лобенштайн шествовал далеко впереди – Антону тогда казалось, что вся улица только на него и смотрит.
Когда приходилось нести какой-либо груз, под мышкой или в обеих руках, Антон никогда не испытывал стыда, – скорее гордость. Но идти согбенным, подставив шею под ярмо, подобно вьючному животному, послушно следующему за хозяином, – это сгибало и его дух, делая ношу тысячекратно тяжелее. От усталости и стыда он готов был провалиться сквозь землю, не донеся груз до места.
А местом этим был цейхгауз, служивший складом для шапок, сшитых по армейскому заказу. Нисколько не меньше, чем рассмотреть колокола и циферблат на башне в новой части Ганновера, Антон мечтал увидеть изнутри этот цейхгауз, мимо которого он столько раз проходил, даже не надеясь когда-нибудь удовлетворить свое желание. Но теперь все удовольствие было напрочь отравлено.
Ноша на спине подломила его дух сильнее, чем любое другое испытанное им унижение, больше, чем брань и тумаки Лобенштайна. Пасть ниже уже невозможно, думал он и представлялся себе едва ли не самым никчемным и забитым существом. Эта ситуация стала одной из самых страшных во всей его жизни и позже вспоминалась ему всякий раз, как он видел какой-нибудь цейхгауз, живо вставая перед глазами при слове ярмо.
Когда случалось нечто подобное, он старался спрятаться от людей, малейшие звуки веселья делались ему ненавистны; он спешил укрыться за домом, в одном местечке на берегу Окера и просиживал там часами, с задумчивой тоской созерцая течение реки. А если в такую минуту до него случайно доносился человеческий голос из соседнего дома или он слышал пение, смех, разговоры, ему казалось, что мир глумится над ним – настолько презренным и ничтожным ощущал он себя после того, как склонил шею под ярмо той корзины.
Он находил даже особый род удовольствия, присоединяясь к этому глумлению, которое чудилось его мрачной фантазии. В одну из таких ужасных минут, когда он в отчаянии разразился над собой саркастическим смехом, отвращение к жизни достигло в нем такой силы, что он весь задрожал и зашатался, стоя на узком помосте. Ноги его подкосились, и он рухнул в реку. Ангелом-хранителем его стал Август, который уже несколько времени стоял незамеченным за его спиной, он и вытащил его за руку из воды. Однако рядом случились люди, скоро сбежался весь дом, и с той минуты Антон прослыл опасным человеком, от коего следовало избавиться как можно скорее. Лобенштайн немедля отписал об этом происшествии отцу Антона, и через две недели тот, обеспокоенный, уже был в Брауншвейге, чтобы вернуть в Ганновер своего скверного сына, в чьем сердце, по мнению господина Фляйшбайна, дьявол возвел себе незыблемое святилище.
Антон оставался у шляпника Лобенштайна еще несколько дней и в присутствии отца с удвоенным рвением выполнял свои обязанности, находя удовлетворение в том, чтобы напоследок приложить к работе все свои силы. Мысленно он прощался с мастерской, сушильней, с дровяным чердаком, с Брюдернкирхе, и заветным его желанием было по приезде в Ганновер рассказать матери о пасторе Паульмане.
Чем меньше дней оставалось до расставания, тем легче становилось у него на сердце. Скоро он сбросит с себя томительный гнет и перед ним снова откроется широкий мир.
Прощание с Августом было сердечным, с Лобенштайном – холодным как лед. Хмурым воскресным днем Антон вместе с отцом покинул дом шляпника – в последний раз бросил взгляд на черную дверь, обитую большими гвоздями, и удовлетворенный вышел за ворота, за которыми еще совсем недавно совершил столь увлекательную прогулку. Высокий городской вал и башня св. Андрея вскоре пропали из виду, в сумеречной дали виднелась лишь заснеженная вершина Брокена, терявшаяся в низких густых облаках.
Отец держался с ним холодно и замкнуто, поскольку смотрел на него глазами шляпника Лобенштайна и господина Фляйшбайна как на человека, в чьем сердце возвел свое святилище дьявол; по пути они разговаривали мало, шли молча, и Антон почти не заметил, как пролетело время – всю дорогу он приятно собеседовал с собственными мыслями – ему не терпелось увидеть мать и братьев и рассказать им о превратностях своей судьбы.
Наконец четыре красивые башни Ганновера воздвиглись над горизонтом – как старинного друга после долгой разлуки, Антон узнал башню в новой части города и ощутил пробуждение своей старой любви к колоколам…
Он снова оказался в стенах Ганновера, и все здесь было ему ново – родители его переселились на другую квартиру, более тесную и темную, в отдаленной части города. Все это представлялось ему столь чуждым, что, поднимаясь по лестнице, он чувствовал, что совсем не принадлежит к этому дому. Но сколь холодным и отталкивающим было поведение отца, столь радостно-возбужденными криками встретили его мать и братья – они осмотрели его потрескавшиеся от мороза руки, и впервые за долгое время он вновь почувствовал, что его жалеют.
Выйдя из дому на следующее утро, он посетил знакомые места, где когда-то играл ребенком. Ему представилось, что за прошедшее время он повзрослел и теперь хочет предаться воспоминаниям о своей юности; он повстречал компанию своих бывших одноклассников и товарищей детства, все они, обрадованные его приездом, жали ему руку.
Когда же он наконец остался наедине с матерью, мог ли он первым делом не рассказать ей о пасторе Паульмане? Она всегда питала безграничное уважение к священству и вполне разделила чувства Антона к пастору. Каким несказанным блаженством были освящены эти часы, когда Антон смог излить свою душу и вдоволь наговориться о человеке, которого любил и почитал более всех остальных на целом свете!
Теперь он послушал и ганноверских проповедников, но – никакого сравнения с Паульманом! Он так и не смог нигде найти второго Паульмана – разве лишь некий Н. отчасти напоминал его, когда во время проповеди приходил в сильное возбуждение.
Никакой проповедник, хоть немного уступавший пастору Паульману в быстроте речи, не мог снискать расположения Антона, и – если в проповеднике видеть оратора – не знаю, так ли уж Антон был неправ. Учитель должен говорить медленно, оратор – быстро. Учитель просвещает разум постепенно, оратор овладевает сердцами с бою: разум должно вводить в действие медленно, сердце – как нельзя быстрее, если мы не хотим потерпеть неудачу. Правда, плох тот учитель, который временами не выступает оратором, и плох тот оратор, который никогда не делается учителем, однако Фокс, выступая в английском парламенте, всегда говорит с невероятной быстротой, и этот ревущий поток увлекает за собой всех и вся, потрясая души слушателей – так же, как пастор Паульман потрясал души своей проповедью о лжесвидетельстве.
Однажды Антону довелось – с превеликим неудовольствием – прослушать в гарнизонной церкви Ганновера воскресную проповедь священника по имени Марквард, также не имевшего ни малейшего сходства с пастором Паульманом, более того, своей медлительной и спокойной речью составлявшего ему почти прямую противоположность. Воротясь домой, Антон не мог удержаться и поделился с матерью острым чувством неприязни к этому проповеднику, но каково же было его удивление, когда мать сказала ему, что этот священник – ее духовник, что она принадлежит к его приходу и Антону придется посещать его занятия по Закону Божию, исповедоваться ему и принимать от него причастие.
Мог ли Антон тогда поверить, что этот человек, вызвавший у него неодолимую антипатию, впоследствии привлечет к себе его любовь, станет ему другом и благодетелем?
Между тем произошло событие, повергнувшее Антона, и без того склонного к унынию, в еще более мрачное настроение: его мать опасно заболела и две недели находилась на грани жизни и смерти. Тогдашнее состояние Антона не поддается описанию. Ему казалось, он отходит вместе с нею, настолько само его внутреннее существо было с ней слито. Узнав, что доктор уже не верит в ее выздоровление, он проплакал несколько ночей напролет. Сама мысль, что он может пережить мать, надрывала душу. Что же могло быть естественней его состояния, если он чувствовал себя покинутым всем миром и обретал себя лишь в ее любви и доверии!
Пришел пастор Марквард и причастил мать Антона святых тайн – тогда Антон окончательно уверился, что надежды нет, и отдался безутешному горю. Он молил Бога о спасении жизни матери, и тут ему вспомнился царь Езекия, получивший от Бога знак, что его просьба услышана и жизнь продлена.
Подобного знака стал теперь искать и Антон, высматривая, не двинется ли назад тень по садовой стене. И действительно, тень в конце концов как будто несколько отступила – оттого ли, что на солнце набежало легкое облако, или его фантазия сама немного отогнала ее прочь, но с этой минуты Антон обрел новую надежду и его мать действительно стала выздоравливать. Он снова воспрянул духом и не жалел усилий, чтобы заслужить любовь родителей. Но с отцом отношения у него не ладились, по его возвращении из Брауншвейга тот испытывал к нему лишь острое, непреодолимое отвращение, которое выказывал по любому поводу – его попрекали даже едой, и часто Антону приходилось в прямом смысле есть свой хлеб со слезами.
В таком положении единственным его утешением стали одинокие прогулки с двумя младшими братьями – с ними он совершал регулярные вылазки на валы, окружавшие город, при этом всякий раз избирал какую-нибудь цель, ради которой все они и отправлялись в это как бы далекое путешествие.
С ранних лет он любил это занятие: едва научившись ходить, уже ставил себе целью добраться до конца улицы, где жил с родителями, и на этом замыкались его тогдашние маленькие прогулки.
Теперь же Антон превращал вал, на который взбирался, в гору, кустарник, сквозь который продирался, – в лес, а маленький холмик в городском рве – в одинокий остров. Так на пятачке в несколько сотен шагов он пускался с братьями в многомильные путешествия. Он забывал все на свете и не раз терялся с ними в лесах, карабкался на высокие утесы, высаживался на необитаемые острова – иными словами, вместе с братьями, как мог, воссоздавал идеальный мир, который выдумывал по прочитанным романам.
Дома он затевал с ними различные игры, которые нередко заканчивались плачевно – осаждал города, брал приступом крепости, построенные из книг мадам Гийон, обрушивая на них бомбы из диких каштанов. Время от времени он проповедовал, и тогда братьям полагалось внимательно его слушать. Однажды он соорудил себе кафедру из стульев, а братьев усадил на ножные скамейки. Проповедуя, он пришел в такое исступление, что рухнул со своей кафедры на пол и спинкой стула разбил головы обоим мальчикам. Крики и суматоха отдались по всему дому – явился отец и принялся весьма немилосердно воздавать Антону за его старания. Мать, прибежавшая следом, попыталась вырвать его из рук родителя, но не сумела – гнев ее обратился в противоположную сторону, она тоже изо всех сил стала колотить Антона, и никакие мольбы и просьбы не спасли его от побоев. Наверно, ни одна проповедь не заканчивалась столь прискорбно, как первая проповедь Антона. Память об этом происшествии еще долго приводила его в содрогание даже во сне.
И все же случившееся не отпугнуло Антона: он еще чаще стал всходить на свою кафедру, чтобы от начала до конца – с цитатами из Евангелия и правильным расположением частей – прочитать записанную проповедь на ту или иную тему. Ибо с тех пор, как он впервые записал проповедь пастора Паульмана, ему стало легче упорядочивать свои мысли и связывать их друг с другом.
Теперь не проходило воскресенья, чтобы Антон не записал выслушанную проповедь, и вскоре он приобрел такую сноровку, что мог по памяти восстановить опущенные части: записав лишь главные мысли, он затем дома почти полностью воссоздавал всю проповедь на бумаге.
Антону шел уже пятнадцатый год, и, чтобы принять конфирмацию, то есть вступить в лоно христианской церкви, ему надобно было некоторое время посещать занятия по Закону Божию в какой-нибудь школе.
В Ганновере существовал институт, готовивший учителей для сельских школ, и в его стенах – бесплатная школа, где будущие учителя упражнялись в педагогическом искусстве. Таким образом, эту школу учредили для пользы учителей, от самих же учителей пользы здесь было немного. Поскольку, однако, школьникам не приходилось платить за науку, то сие заведение сделалось подлинным прибежищем для бедняков, которые могли обучать там своих детей совершенно задаром, а так как отец Антона отнюдь не горел желанием чрезмерно тратиться на своего пропащего и отлученного от Божией благодати сына, то в конце концов и отвел его в эту школу, где тот, как это с ним случалось и раньше, вознадеялся обрести совершенно новый жизненный путь.
Наутро в первый же час занятий Антону предстало торжественное зрелище: все будущие учителя и обоего пола ученики, собравшиеся в классной комнате. Инспектор этого заведения, лицо духовного звания, каждое утро проводил с учениками уроки катехизации – как образец для учителей. Последние сидели за столами, записывая вопросы и ответы, а инспектор расхаживал по классу и задавал вопросы. На послеобеденных занятиях кто-нибудь из учителей в присутствии инспектора повторял со школьниками тот же урок, что был преподан утром.
Записывание давно сделалось для Антона наилегчайшим делом, и когда учитель вечером повторял утренний урок, у Антона он был уже записан – и куда полнее – на дощечке для письма, и он мог ответить даже больше, чем у него спрашивали, – этим он привлек к себе мимолетное внимание инспектора, что чрезвычайно ему польстило.
На следующий день, однако, дабы он не слишком превозносился своим счастьем, ему было уготовано унижение, едва ли не более тяжкое, чем он испытал в Брауншвейге, когда ему впервые пришлось тащить на спине корзину.
Вторым уроком следующего дня было чтение – вызванный мальчик побуквенно разбирал какой-либо слог и зычно его выкрикивал, вслед за чем остальные хором громогласно за ним повторяли. Крик, от которого звенело в ушах, да и само упражнение показались Антону чистым безумием; гордый своим умением читать бегло и выразительно, он был изрядно смущен тем, что теперь его заново учат разбирать слоги. Между тем очередь выкрикивать очень скоро, с быстротой лесного пожара, добежала и до него – но Антон онемел, не в силах произнести ни звука, вмиг нарушив гармонию всего этого музыкального великолепия. «Ну же!» – проговорил инспектор, но, увидев, что дело не идет, окинул его презрительным взглядом: «Тупица!» – и показал на следующего. В эту минуту Антон почувствовал себя совершенно раздавленным, ибо глубоко упал во мнении человека, на одобрение которого столь твердо рассчитывал, но который даже не верит в его способность разбирать буквы.
Если раньше, в Брауншвейге, под тяжким грузом согнулось его тело, то насколько сильнее теперь поник его дух под тяжестью слова «тупица!», брошенного инспектором.
Правда, теперь о нем можно было сказать, как о Фемистокле, подвергшемся, как и он, публичному поношению в юности: «non fregit eum, sed erexit»[5]5
Корнелий Непот в жизнеописании Фемистокла пишет, что позор «не сломил, но образумил» юношу. (Перевод Н.Н. Трухиной.) – Прим. ред.
[Закрыть]. Отныне он удесятерил свои старания, чтобы заслужить уважение учителей и тем как бы устыдить инспектора, ложно о нем помыслившего, и пробудить в нем раскаяние за несправедливо нанесенную обиду.
Утренние занятия инспектор ежедневно посвящал подробному изъяснению догматов лютеранской церкви с опровержением мнений папистов и реформатов, беря за основу Гезениево толкование Малого катехизиса Лютера. И хотя голова Антона оказалась оттого забита всяким ненужным хламом, он научился делить материал на главы и подразделы и вносить систему в свои мысли.
Его записные тетради пухли с каждым днем все быстрее, и менее чем за год он в совершенстве овладел догматикой, мог подтвердить ее положения цитатами из Библии, оспорить доводы язычников, турок, иудеев, греков, папистов и реформатов, умел как по писаному говорить о пресуществлении даров, о пяти ступенях возвышения и унижения Христа, об основах коранической веры, и ему ничего не стоило развеять сомнения вольнодумцев неопровержимыми доказательствами бытия Божия.
Он и вправду стал говорить обо всех этих предметах как по писаному. Теперь у него был богатый материал для проповедей, и братьям приходилось выслушивать содержимое его записных тетрадей, доносимое до них с «головоломной» кафедры, устроенной в комнате.
По воскресеньям его иногда приглашал к себе один из его кузенов, собиравший у себя общество подмастерьев; здесь он становился к столу и произносил перед этим собранием проповедь на избранную тему по полной форме, с цитатами из Писания и правильным разделением на части, в которой он обычно опровергал учение папистов о пресуществлении даров и доводы тех, кто отрицал существование Бога, с большим пафосом перечисляя доказательства бытия Божия и представляя во всей его нищете учение о случайных действиях Бога.
В институте, где обучался Антон, существовал обычай – всем взрослым людям, готовившимся стать школьными учителями, каждое воскресенье расходиться по разным церквам и записывать проповеди, которые затем представлялись на просмотр инспектору. Антон стал находить еще больше удовольствия в записывании проповедей, так как видел, что занимается одним делом со своими учителями, те же из них, кому он показывал записанные им проповеди, проникались к нему все большим уважением и стали относиться к нему почти как к равному.
В конце концов у Антона составился толстый том записанных проповедей, он хранил их как величайшую ценность, особенно же дорожил двумя, считая их подлинными жемчужинами своего собрания. Первой была проповедь на тему Страшного суда, прочитанная в церкви св. Эгидия пастором Уле, имевшим много сходства с пастором Паульманом по быстроте речи. С превеликим воодушевлением, и не раз, Антон произносил перед матерью эту проповедь, в которой распадение элементов, крушение мироздания, страх и трепет грешников, с одной стороны, и радостное воскресение праведников, с другой, были представлены в контрасте, до крайности возбуждавшем фантазию, что было Антону весьма по душе: он не любил холодных рассудочных проповедей. Вторую проповедь, весьма им ценимую, прочитал, прощаясь со своим приходом, пастор Леземан в церкви Креста – на всем протяжении она прерывалась слезами и рыданиями, столь любим был этот пастор прихожанами. Трогательный пафос этой проповеди произвел на Антона неизгладимое впечатление, и он не мог мечтать о большем счастье, как произнести когда-нибудь перед таким же скоплением народа, плачущего вместе с ним, подобную же прощальную речь.
Тут он был совершенно в своей стихии, испытывая невыразимое наслаждение от наполнявших его горестных чувств. Пожалуй, никто не испытывал большего удовольствия от проливаемых слез (the joy of grief) в подобных случаях. Столь сильное потрясение души при столь горячих проповедях было для него высшим блаженством, ради коего он бы с радостью пожертвовал и сном, и пищей.
Чувство дружеского расположения также обрело у него теперь новую питательную почву. Он воистину полюбил некоторых своих учителей и страстно влекся к их общению. Особенно сильно проявлялась его дружба к некоему Р., человеку внешне грубому и суровому, на деле же обладавшему благороднейшим сердцем, какое только могло обретаться в груди будущего деревенского учителя.
Антон брал у него частные уроки счета и письма, которые оплачивал отец, полагая, что счет и письмо – единственные предметы, каковые стоит труда преподавать Антону. Р. очень скоро предоставил Антону, уже хорошо владевшему орфографией, свободу самому придумывать для себя упражнения и высказывал ему одобрение, настолько Антону польстившее, что он наконец решился открыть этому учителю свое сердце и разговаривал с ним так искренне и чистосердечно, как уже давно ни с кем не говорил.
Он открыл ему свою неодолимую тягу к учению, рассказал о жестокосердии отца, пресекавшего это его стремление и позволявшего ему учиться лишь ремеслу. Суровый Р., казалось, был тронут таким доверием и побуждал Антона рассказать обо всем инспектору, который скорее поможет ему достичь этой цели. Инспектор был тот самый, что презрительно обозвал Антона тупицей, когда тот не захотел выкрикивать буквы перед классом, и он не мог забыть этого случая и теперь колебался, стоит ли открывать такому человеку свое стремление к учебе, если тот сомневается даже в его способности составлять слова из букв.
Между тем уважение, которое Антон снискал в этой школе, день ото дня росло, и он наконец добился желаемого – стать первым и привлечь к себе всеобщее внимание. Все это, конечно, настолько льстило его тщеславию, что в мыслях он уже воображал себя проповедником, особенно когда надевал черную сорочку, – в эти дни и его походка, и выражение лица приобретали особую важность.
Каждый раз в конце недели, по субботам, после общего исполнения песни «Узреть сей день мне дал Господь», один из учеников читал длинную молитву. Когда очередь доходила до Антона, для него это было истинным праздником – он воображал себя на кафедре собирающим мысли при последних стихах песни, чтобы затем, как пастор Паульман, излиться в горячей молитве. Надо сказать, однако, что декламация Антона отличалась излишней напыщенностью, и это бросалось в глаза. Вот почему учитель не слишком часто вызывал его для чтения молитвы.
Вдобавок учителя под конец стали испытывать к нему нечто похожее на зависть. Один из них задал ученикам такое упражнение: пересказать своими словами какую-то из «Библейских историй» Хюбнера. Антон разукрасил эту историю всевозможными фантазиями в поэтическом роде и пересказал ее с риторическими ухищрениями – это покоробило учителя, и он сделал Антону замечание, что следует рассказывать короче. В следующий раз Антон сократил свой рассказ до нескольких предложений и уложился в две минуты. Теперь его ответ показался учителю чересчур коротким и снова его рассердил; кончилось тем, что он вовсе перестал поручать ему пересказывать эти истории. На дневных занятиях учителя боялись задавать ему вопросы по катехизису, потому что он всегда успевал записать больше, чем они, и получилось так, что он вовсе лишился возможностей проявить свои таланты, то есть достичь своей заветной мечты – привлечь к себе всеобщее внимание.
Полный досады на то, что учителя его не спрашивают и ему дни напролет приходится сидеть как немому, он наконец, с глазами, полными слез, отправился к инспектору, который по утрам спрашивал его довольно часто и, казалось, изменил свое мнение о нем. Инспектор спросил у него, что стряслось и не допустил ли кто из учеников несправедливости к нему. Из учеников никто, ответил Антон, но учителя обходятся с ним несправедливо – никто из них не вызывает его на уроках, они им пренебрегают, никогда его не спрашивают, хотя он знает предмет лучше остальных. Он просит восстановить справедливость!
Инспектор постарался разубедить Антона и оправдать поведение учителей большим количеством учеников, однако с того дня стал относиться к нему внимательней и спрашивал его на утренних занятиях чаще, чем прежде.
Один раз в неделю проводилось занятие по псалмам: каждый ученик обязан был выбрать из них какое-нибудь поучительное место и записать его на листке бумаги или на грифельной доске, а потом прочитать вслух, что многих заставляло изрядно попотеть. На одном из таких занятий присутствовал инспектор. Антон ничего не записал, но когда настал его черед, продекламировал весь псалом, присовокупив порядочный трактат или проповедь на ту же тему. Говорил он добрых полчаса, так что инспектор в конце концов его остановил: «Довольно!» – и добавил, что нужно было не толковать весь псалом, но лишь извлечь из него моральное поучение.
Таким-то образом прошел без малого год, Антон достиг необычайных успехов своим прилежанием и вел себя столь безупречно, что его цель – привлечь к себе всеобщее внимание – оказалась более чем достигнута, он даже вызвал зависть своих учителей.
Теперь, однако, для него настала решающая минута, когда он должен был выбирать жизненный путь, а суровость отца, хлопотавшего лишь о том, как бы отделаться от Антона, возрастала день ото дня, так что школа сделалась едва ли не единственным надежным прибежищем, где он мог укрыться от домашних притеснений и преследований.
Любимого его преподавателя Р. отослали учительствовать в деревню, и теперь у Антона не осталось подлинного друга среди учителей. Прощаясь с Антоном, Р. снова советовал ему обратиться к инспектору, а поскольку медлить с принятием решения было уже никак нельзя, Антон с колотящимся от волнения сердцем отважился просить инспектора выслушать его, ибо он хочет поговорить с ним о важном деле. Инспектор привел его в свой кабинет, где Антон, почувствовав себя свободнее, поведал ему о превратностях своей судьбы и полностью ему открылся. Инспектор рассказал Антону об ожидающих его трудностях, о расходах на обучение, однако не стал вовсе лишать его надежды, но обещал употребить возможные усилия, чтобы он мог бесплатно посещать школьные уроки латыни. Все это, однако, отодвигалось в далекое будущее, так как Антон не мог рассчитывать на поддержку родителей даже в отношении жилья и питания, тем более что его отец получил скромное место за шесть миль от Ганновера и вскоре намеревался уехать из города.









































