Текст книги "Аура (сборник)"
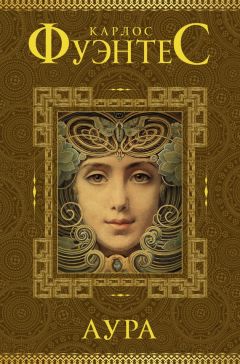
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я зажег сигарету.
– Да, тогда все запахи сгущаются. Земля источает ароматы табака, кофе, плодов…
– И кладовок тоже. – Донья Элена прикрыла глаза.
– Как это?
– Тогда у нас не было стенных шкафов. – Она провела рукой по мелким морщинкам в уголках глаз. – При каждой спальне была гардеробная, и служанки обычно перекладывали белье лавровыми листьями и майораном. Кроме того, были такие углы, куда не достигало солнце. Пахло плесенью, ну, как вам объяснить – мхом…
– Да, могу себе представить. Я никогда не жил в тропиках. Вы по ним скучаете?
И тогда она скрестила запястья, потерла одно о другое, показав выступающие вены:
– Иногда. Мне даже трудно припомнить. Вообразите, я вышла замуж в восемнадцать лет, и меня уже тогда в Мехико считали местной.
– И обо всем вам напомнил этот странный свет, задержавшийся на дне оврага?
Донья Элена встала.
– Да. Это подсветка, которую Хосе велел поставить на прошлой неделе. Красиво, правда?
– Кажется, Элена заснула.
Я пощекотал ее за нос, и Элена проснулась, и мы вернулись на «эм-джи» в Койоакан.
– Прости, что тебе приходится терпеть это воскресное занудство, – сказала Элена на следующее утро, когда я торопливо собирался на стройку. – Что поделаешь. Нужно поддерживать какую-то связь с семьей и буржуазной жизнью, хотя бы ради контраста.
– Чем ты сегодня займешься? – спросил я, сворачивая чертежи и хватая портфель.
Элена откусила кусочек инжира, скрестила руки и показала язык косоглазому Христу, которого мы однажды нашли в Гуанахуато.
– Буду все утро писать. Потом пообедаю с Алехандро, покажу ему свои последние работы. У него в студии. Да, ее уже достроили. Там, в Оливар-де-лос-Падрес. Вечером пойду на урок французского. Потом, может быть, выпью кофе и буду ждать тебя в киноклубе. Там дают мифологический вестерн: «High Noon»[55]55
«Ровно в полдень», фильм Фреда Циннемана, 1952 г.
[Закрыть]. Назавтра я договорилась с теми черными парнями. Они из «черных мусульман», и мне не терпится узнать, что у них на уме. Ты не задумывался, что мы знаем о них только из газет? Ты говорил когда-нибудь с негром из Соединенных Штатов, нибелунг? Завтра вечером даже не вздумай отвлекать меня. Я запрусь у себя и прочту Нерваля от корки до корки. Пусть Хуан не надеется, что ему удастся снова меня огорошить каким-нибудь soleil noir de la mélancolie[56]56
Черное солнце меланхолии (фр.).
[Закрыть] или тем, что снова начнет называть себя безутешным вдовцом. Я уже как-то подняла его на смех, а завтра вечером задам настоящую взбучку. Да, он скоро «запустит» карнавал. Нам придется пойти, вырядившись в костюмы с мексиканских фресок. Лучше уж сразу к этому приобщиться. Купи мне каллы, Виктор, нибелунг мой милый, а сам, если хочешь, оденься свирепым конкистадором Альварадо, который прежде, чем возлечь с индейской женщиной, клеймил ее каленым железом – Oh Sade, where is thy whip?[57]57
О Сад, где твой хлыст? (англ.)
[Закрыть] Ах, и в среду Майлс Дэвис играет в академии художеств. Он немного старомоден, но все-таки волнует меня гормонально. Купи билеты. Чао, дорогой.
Она чмокнула меня в темя, а мне было никак ее не обнять, из-за чертежей, но, уже сев в машину и отъезжая, я все еще чувствовал запах инжира на шее, и перед глазами у меня стоял образ Элены – в рубашке, расстегнутой и завязанной узлом на пупке, в узких штанах тореадора, с босыми ногами… что она там собиралась делать – читать стихи, писать картину? Я подумал, что скоро мы уедем вместе. Это нас сблизит. Я выехал на кольцевую дорогу. Не знаю, почему, но вместо того, чтобы по мосту Альтависта направиться к Десиерто-де-лос-Леонес, я свернул на кольцевую и прибавил скорость. Да, иногда я так делаю. Хочу остаться в одиночестве, мчаться, хохотать, ощущать свежий ветер. И, может быть, хоть на полчаса сохранить образ Элены, какой она была, когда прощалась со мной, – ее естественность, золотистую кожу, зеленые глаза, ее бесконечные планы, и подумать о том, как я счастлив рядом с ней, никто не может быть так счастлив рядом с женщиной, настолько живой, настолько современной, которая… которая меня… которая так меня дополняет.
Проезжаю мимо стекольной фабрики, барочной церкви, американских горок, рощи мексиканских кипарисов. Где же я слышал это выражение? Ради дополнения. Разворачиваюсь у фонтана Нефтедобычи, еду по Пасео-де-ла-Реформа. Все машины направляются к центру города, который мерцает вдали, за неосязаемой, удушающей дымкой. Я поднимаюсь к Лас-Ломас, в Чапультепек, где в такой час остаются только слуги и хозяйки, мужья отправились на работу, а дети – в школу, и наверняка моя вторая Элена, мое дополнение, ждет меня в теплой постели, с кругами под такими черными, беспокойными глазами, с плотью белой, созревшей, глубокой, душистой, словно белье, сложенное на полках в шкафу где-нибудь в тропиках.
Кукла-королева[58]58
© Перевод. Э. Брагинская, наследники, 2015.
[Закрыть]
1Я отправился туда потому, что эта трогательная записка заставила меня остро вспомнить далекие дни. Нашлась она в давно забытой книге, разрисованной цветными детскими каракулями. Нашлась в тот самый день, когда я взялся, наконец, приводить в порядок книжные полки. Открытия следовали одно за другим – ко многим книгам, особенно к тем, что стоят наверху, я не прикасался целую вечность. Края страниц в той книге, где лежала записка, так истлели от времени, что у меня в ладонях остались серые чешуйки и золотая крошка обреза, и мне почему-то вспомнилось, как отсвечивали, точно покрытые лаком, какие-то вещи в моих детских снах, а потом наяву, в разочаровавшей меня действительности балетного спектакля, на который нас привели впервые.
Это была одна из любимых книг моего детства – должно быть, не только моего, – и ее поучительные рассказы были такими жестокими, что мы, дети, забравшись к кому-нибудь из взрослых на колени, донимали их вопросами – почему, ну почему?
Чего там только не было! Жестокосердый юноша, забывший о сыновнем долге, легковерная девушка, соблазненная и похищенная коварным кучером, а потом с позором возвращающаяся под родной кров, красавицы, которые бездумно удирали из дому, мерзкий старик, что в уплату ипотечного долга требовал у разоренных родителей руки их очаровательной дочери… А почему так? – настойчиво спрашивал я. Но ответов – не помню.
И вот из этой книги с захватанными страницами вдруг вылетает, покружившись в воздухе, старая записка с крупными буквами, выведенными детской рукой Амиламии: «Ни забывай миня и преходи по этаму рисунку».
А на обороте начерчено что-то вроде плана: дорожка, идущая от буквы X, которая, видимо, обозначала ту самую скамейку, где я – тогда еще зеленый юнец, бунтовавший против разлинованного однообразия школьной жизни, – забывал о времени, об уроках и до того зачитывался книгами, что мне грезилось, будто они написаны мной самим. У меня и сомнения не было, что я сам придумал всех этих корсаров, королевских гонцов, отважных мальчишек, которые хоть и младше меня, но могли провести на веслах баркас по огромной американской реке.
Я замирал, прижимаясь к скамье, как к волшебному седлу, и конечно не слышал легких шагов, что смолкали у меня за спиной. А это была Амиламия, которая прибегала ко мне по дорожке, посыпанной гравием. Кто знает, сколько бы еще девочка затаивалась вот так возле моей скамьи, если б однажды не осмелилась пощекотать мое ухо пушинками одуванчика! Обернувшись, я увидел, как она старательно дует на него, смешно выпятив губы и нахмурив брови.
С самым серьезным видом и очень уважительно Амиламия осведомилась о моем имени. А свое назвала с улыбкой, по-детски открытой, но не простодушной, нет. Вскоре после нашего знакомства я заметил, что Амиламия ведет себя так, словно знает, как удержать равновесие между наивной непосредственностью, свойственной ее возрасту, и заученными интонациями взрослых, которыми, как правило, пользуются воспитанные дети, когда нужно поздороваться или попрощаться. Но вот что удивительно: эта недетская серьезность Амиламии воспринималась как нечто естественное, природное, а редкие вспышки веселого озорства казались почему-то наигранными, делаными…
Я хочу вспомнить все об этой девочке, день за днем, в строгой последовательности, чтобы образ ее нарисовался во всей полноте. Но почему я никак не могу представить Амиламию такой, какой она была? Живой, подвижной, легкой, полной любопытства ко всему на свете. Почему она вспоминается мне, словно застывшая на фотографиях в альбоме?
Амиламия – маленькое пятнышко где-то вдалеке, над озером лилового цветущего клевера, на самом верху холма, над спуском к тому месту, где стояла моя заветная скамейка. Маленькое пятнышко в скользящих переливах солнца… Амиламия, остановившаяся на бегу, – веером белая юбочка, штанишки в мелкий цветочек, круглые подвязки, полураскрытый рот, прищуренные от ветра глаза, в которых блестят слезинки радости. Вот она сидит под эвкалиптом и делает вид, что плачет, чтобы я поскорее подошел к ней. Вот лежит на траве с кисточкой странного цветка; таких цветов, я вскоре убедился, в парке не было, они росли где-то в другом месте, возможно, в саду Амиламии, но карман ее передника в синюю клетку всегда был наполнен мелкими белыми цветочками. Вот Амиламия наблюдает, как я читаю, – схватилась руками за железные прутья зеленой скамьи и не сводит с меня серых пристальных глаз: она, помнится, ни разу не спросила, что я читаю, словно могла по глазам разгадать все, что рисовалось моему воображению. Вот смеющееся, счастливое лицо Амиламии – я поднял ее за талию и кружу в воздухе, а девочке кажется, что в этом медленном полете она впервые видит весь мир. Амиламия, обернувшись, машет на прощание рукой, забавно перебирая пальчиками. Амиламия в бесчисленных позах возле моей скамейки. Вот сделала стойку – ноги в воздухе, и штанишки в мелкий цветочек раздулись забавными шариками. Вот, уткнувшись подбородком в грудь, скрестив ноги, сидит прямо на дорожке, посыпанной мелким гравием. Вот растянулась на траве, подставляя голый животик горячему солнцу. А вот что-то мастерит из тонких веточек, рисует палочкой каких-то зверей на размякшей от дождя глине. Вот спряталась под сиденьем и лижет железные прутья зеленой скамейки, сосредоточенно отдирает кусочки коры от старых сучковатых деревьев, вглядывается вдаль, прикрыв глаза, тихо напевает какую-то песенку, пробует подражать птичьему пению, уморительно кудахчет курицей, лает, мяукает… Все это только для меня? И да, и нет. Скорее всего, в мое отсутствие она вела себя точно так же, как и при мне.
У меня сохранились разрозненные воспоминания об этой девочке. Ведь я смотрел на нее – пухлые щеки, гладкие волосы, отливавшие то спелой соломой, то глянцем жареных каштанов, – лишь когда отрывался от книги. Только теперь, увязывая одно с другим, я понимаю: Амиламия в то время была для меня еще одной точкой опоры в жизни, не столько соединяя, сколько сталкивая мое еще незавершенное детство с тем распахнутым передо мной миром, обетованной землей, которая принадлежала мне целиком в часы, когда я забывался над книгой.
А тогда? Тогда я не мог знать об этом, мне грезились героини моих книг, переодевавшиеся в королевское платье, чтобы тайком купить драгоценное ожерелье. И какие-то мифические существа, которые вызывали во мне глухое волнение, – не то саламандры, не то женщины с белой грудью и влажным животом, – возлежавшие на роскошном ложе в ожидании монарха.
Мое полное равнодушие к Амиламии незаметно сменилось привычкой к ее обществу, к ее шалостям, к ее серьезности, и лишь потом возникло неосознанное желание освободиться от столь нелепой дружбы. И однажды – мне тогда уже исполнилось четырнадцать лет – я всерьез обозлился на эту семилетнюю девочку, которая была еще не грустным воспоминанием, а моим недавним прошлым, почему-то вторгшимся в мое настоящее. Ведь к ней, к Амиламии, я привязался лишь по слабости характера.
Вместе с ней, взявшись за руки, мы носились по лужайке, вместе трясли сосновые ветви и собирали шишки, которыми Амиламия набивала карман своего передника. Вместе делали бумажные кораблики, а потом, волнуясь, следили, как они уплывают по каналу. И в тот день, развеселившись, мы скатились вместе с холма и упали в самом низу – Амиламия у меня на груди, на моих губах ее волосы, прямо над ухом ее частое дыхание, а вокруг шеи – липкие от конфет руки. Раздосадованный, я грубо толкнул ее, и Амиламия упала на землю. Она горько расплакалась, растирая ушибленное колено и локоть, а я равнодушно поднялся и вернулся к своей зеленой скамейке.
Девочка ушла, но появилась на другой день и, молча протянув мне записку, помчалась прочь, напевая веселую песенку. Я не знал – то ли порвать, то ли спрятать записку в книге «Сказки братьев Гримм». Надо же, из-за этой малявки меня снова потянуло к детским книгам…
Больше она не появлялась в парке. Через неделю я уехал на летние каникулы, а по возвращении уже стал учеником средней школы. Больше мы ни разу не виделись.
2И вот теперь я иду по забытому парку и останавливаюсь у эвкалиптов и сосен, не зная, как воспринять и принять все, что без покрова фантазии выглядит столь жалким, неузнаваемым и чуждым. До чего мала эта рощица! Зря старалась моя память представить ее совсем в иных масштабах, чтобы она вместила весь накал моего былого воображения. Как поверить, что Мишель Строгав, Гекльберри Финн, леди Винтер, Женевьева Брабантская жили, разговаривали и умирали здесь, в этом обнесенном ржавой изгородью садике с редко посаженными старыми и неухоженными деревьями, где главное и весьма сомнительное украшение – цементная скамейка; увидев ее, я подумал, что моя прекрасная зеленая скамья из кованого железа никогда не существовала, а просто стала частью той необузданной фантазии, которая срослась с моими воспоминаниями. А холм… неужели вот с этого пригорка каждый день ко мне бежала девочка по имени Амиламия? А где же крутой склон, по которому мы катились вниз, взявшись за руки? Теперь передо мной – небольшой бугор с хилой травкой, и напрасно моя упрямая память силится придать ему совсем иные очертания.
«…Преходи по этаму рисунку». Значит, нужно пересечь сад, потом, минуя рощицу, в три прыжка спуститься с пригорка, пройти через орешник – вот здесь, наверняка здесь, девочка срывала белые кисточки цветов, – открыть скрипучую калитку и внезапно вспомнить, очутившись на улице, сообразить наконец, что те безмятежные дни детства чудом стирали немолчный шум города, оттесняли куда-то бесконечные свистки, рев моторов, людской гомон, ругань, плач, радио…
Я жду, когда светофор откроет мне путь, и перехожу на другую сторону улицы, не отрывая глаз от красного цвета. Снова читаю записку Амиламии. Выходит, этот неумело нарисованный план и есть то, что, как магнит, движет мною, определяя сейчас все мои поступки. От одной мысли об этом я просто теряюсь. Моя жизнь после тех давно ушедших дней, когда мне было всего четырнадцать, не могла не попасть в тесное русло суровых правил. Теперь, в двадцать девять лет, я – законный обладатель университетского диплома, хорошей должности и приличного заработка, пока еще холостяк, не обремененный заботами о семействе, несколько подуставший от бесконечных связей с секретаршами и почти охладевший к увеселительным поездкам за город и на пляж, – был лишен тех настоящих радостей, какие мне приносили мои книги, парк и… Амиламия.
И вот теперь я иду по улице ничем не примечательного квартала. Невзрачные одноэтажные дома – зарешеченные вытянутые вширь окна, тяжелые двери с облупившейся краской – уныло лепятся друг к другу. Томительное однообразие нарушают лишь хлопотливые звуки трудового люда – жужжание точильного камня, стук сапожного молотка… По ту сторону оград играют дети. Слух ловит веселую шарманку и ребячьи голоса. На какой-то миг я останавливаюсь и, улыбаясь, слежу за играющими детьми. Мелькает бредовая мысль, что в одной из детских стаек окажется Амиламия. Может, моя егоза, уцепившись ногами за перекладину балкона – ей бы кувыркаться, как в цирке! – висит головой вниз, выставляя напоказ свои штанишки в цветочек, а из кармана передника тихо падают знакомые белые цветочки.
Впервые я пытаюсь представить себе двадцатидвухлетнюю Амиламию и усмехаюсь: если она по-прежнему живет в доме, отмеченном в записке, то наверняка посмеется над моими воспоминаниями, а скорее всего, из ее памяти выветрились те далекие дни, когда она прибегала в парк.
Дом как дом. Тяжелая входная дверь, два окна, зарешеченные, со спущенными изнутри жалюзи. Всего один этаж, а над ним ложная в неоклассическом стиле балюстрада, которая прячет от сторонних глаз секреты домашних будней, все, что есть на плоской крыше-террасе: развешанное белье, огромный чан с водой, пристройку для прислуги, птичник. Еще не нажав кнопку звонка, я силюсь отделаться от каких-либо иллюзий. Что за чепуха! Откуда здесь быть Амиламии? С чего ей жить в этом невзрачном доме пятнадцать лет подряд? Амиламия всегда была хорошо одета и производила впечатление девочки воспитанной, хотя и слишком независимой, даже какой-то неприкаянной. Район этот совсем захирел, никакого вида, так что родители Амиламии, надо думать, давно переехали в другое место. Может, новые жильцы и подскажут – куда.
Нажимаю звонок и жду. Еще раз. Вот тебе на – в доме никого нет! Как же быть? Возникнет ли у меня снова это необъяснимо яростное желание отыскать девочку из моего детства? Вряд ли! Нельзя же снова раскрыть книгу и вот так нежданно-негаданно найти записку Амиламии. Скорее всего, окунусь с головой в свои дела и напрочь забуду о столь мимолетном случае, которому, лишь из-за полной его неожиданности, я придал такое значение.
Снова звоню. Прикладываю ухо к двери и застываю от удивления: за дверью явно слышится чье-то хриплое прерывистое дыхание, затем сдавленный вздох и за ним, сквозь щели в рассохшихся досках, тянется едкий запах лежалого табака.
– Добрый день. Не сочтите за труд сказать мне…
Услышав мой голос, кто-то отходит от двери тяжелыми неверными шагами. Я еще раз жму на кнопку звонка и уже кричу:
– Да кто там? Откройте. В чем дело? Вы что – не слышите?
Никакого ответа. Опять жму что есть силы на кнопку, но без толку. Отойдя от двери на шаг, я все смотрю и смотрю на нее, пытаясь найти какую-нибудь щель, словно так что-то пойму и сумею попасть внутрь. Не отрывая глаз от этой заколдованной двери, отступаю все дальше и дальше и незаметно для себя оказываюсь на проезжей части. Чей-то пронзительный крик заставляет меня очнуться, и следом раздается долгий яростный гудок. Совершенно оторопевший, я ищу глазами того, чей голос только что спас меня от верной смерти, но, увидев летящую вдали машину, хватаюсь за фонарный столб, не со страху, нет, а в поисках опоры, потому что чувствую, как кровь, разом оледеневшая, бьет в горячие потные виски.
Вот он, дом, который был, должен быть домом, где живет Амиламия. И за балюстрадой, я же знаю, колышется выстиранное белье. Какая разница, что там висит – рубашки, пижамы, блузы? Главное, я вижу передник в синюю клетку, тот самый, он приколот прищепками к длинной провисшей веревке, протянутой от железной балки к большому крюку, вбитому в беленую стену.
3В Отделе регистрации недвижимости мне сказали, что этот земельный участок с домом записан на имя сеньора Р. Вальдивиа, который сдает его жильцам. Кому? Они не знают. А кто такой этот сеньор Вальдивиа? У них сказано – коммерсант. Где живет? А вы, собственно, откуда? – спрашивает сеньора с любопытством, от которого веет холодком. Плохо дело! Значит, я не сумел сойти за человека солидного и внушающего доверие. Значит, сдают нервы и остались следы усталости после беспокойного сна. Сеньор Вальдивиа… Я с трудом иду вперед по самому солнцепеку. Хочется как можно скорее очутиться в моем прохладном, сохраняющем влагу парке и спрятаться там от этого белесого мутного солнца, которое печет нещадно, и нет никакого терпения. Да нет, я злюсь только потому, что мне вдруг приспичило узнать, живет ли Амиламия в том доме, куда меня не впустили! Надо выбросить поскорее из головы все эти мысли, что полночи не давали мне заснуть. Ну, висел, висел на террасе тот самый передник с карманчиком, где всегда было полно белых цветочков, но разве из этого следует, что в доме по-прежнему живет семилетняя девочка, с которой я познакомился четырнадцать или пятнадцать лет тому назад? Что за чушь! А вдруг у нее есть дочь? Ну да! У Амиламии, в ее двадцать два года, есть дочка, ее одевают в такие же вещи, и – кто знает? – может, и она бегает в парк и играет в такие же игры? С этими мыслями я снова подхожу к дверям дома, звоню и жду, когда послышится это хриплое дыхание. Но нет, на сей раз дверь открывает женщина лет пятидесяти, не больше, с жалким пучком полуседых волос, вся в черном, закутана в черную шаль, туфли на низком каблуке. На лице никакой косметики, похоже, будто женщина давным-давно рассталась со всеми желаниями и порывами молодости. А в глазах, уставившихся на меня, столько равнодушия, что они кажутся застывшими ледышками.
– Что вам угодно?
– Меня направил сюда сеньор Вальдивиа. – Я откашливаюсь и провожу рукой по волосам. Зря не прихватил с собой папку, она бы помогла справиться с моей ролью.
– Вальдивиа? – невозмутимо и как-то безразлично переспрашивает женщина.
– Да-да. Владелец дома…
Можно ли о чем-то догадаться, глядя в замкнутое лицо женщины? Этот пристальный, бестрепетный взгляд…
– Ну да, да, владелец дома.
– Могу ли я…
Кажется, в плохих комедиях разъездные агенты спешат поставить ногу на порог, чтоб перед ними не успели хлопнуть дверью. Именно так я и поступил. Посторонившись, сеньора впустила меня в помещение, которое могло бы сойти за каретный сарай. Рядом я вижу деревянную дверь, наполовину застекленную, с облезлой краской, и послушно направляюсь к ней по желтым плиткам патио, на ходу спрашивая сеньору, семенящую теперь сзади:
– Сюда?
Женщина кивает, и тут я замечаю, что она беспрестанно перебирает пальцами бусины старинного росария. С детских лет я не встречал такого росария и чуть было не сказал об этом вслух, но она так решительно и резко распахнула дверь, что у меня пропало всякое желание заводить ненужные разговоры. Мы входим в узкую длинную комнату, и сеньора сразу же подымает жалюзи, но света по-прежнему мало: окно заслоняют четыре домашних цветка в больших керамических вазонах, инкрустированных цветными стеклышками. Комната почти пустая – ничего, кроме старого диванчика с плетеной спинкой и качалки. Но меня, собственно, занимают не странное отсутствие мебели и эти высокие растения на окне. Женщина предлагает сесть на диванчик, а сама усаживается в кресло-качалку.
Рядом со мной у плетеной спинки лежит раскрытый журнал.
– Сеньор Вальдивиа приносит извинения за то, что не смог прийти сам.
Женщина покачивается и смотрит на меня не мигая. Я искоса поглядываю на раскрытый журнал с комиксами.
– Он велел вам кланяться…
Я смолкаю в ожидании какой-то ответной реакции со стороны сеньоры, но она все так же безучастно покачивается. Журнал исчеркан красным карандашом.
– …и просил передать, что вынужден вас побеспокоить – пару дней, не больше…
Глаза мои так и шарят по комнате.
– Необходимо осуществить новую оценку дома для кадастра… По-моему, этого не делали с… Как давно вы здесь живете?
Ага! Да это вовсе не карандаш, а губная помада – вон она на полу под качалкой. Женщина едва сдерживает улыбку, я чувствую это по замедленным движениям ее пальцев, перебирающих бусины росария, именно пальцы выдают чуть заметную усмешку, почти не задевшую ее лица. В ответ – полное молчание.
– Лет пятнадцать, не меньше, правда?
Хоть бы кивнула головой или нахмурилась! Ничего. Однако на ее бледных губах нет и следа губной помады.
– …вы, ваш муж и…
Женщина смотрит прямо на меня так же безучастно, но с каким-то вызовом, мол, ну, ну…
Несколько секунд мы оба молчим, она покачивает росарием, а я подался вперед, упершись руками в колени. Встаю…
– Стало быть, сегодня вечером я приду с бумагами.
Моя сеньора молча кивает, берет журнал, прячет его под шаль и, быстро нагнувшись, подымает с полу губную помаду.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































