Текст книги "Аура (сборник)"
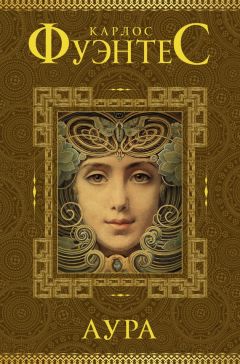
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Вечер. Все на своих местах. Пока я записываю в тетрадь первые пришедшие мне в голову цифры, притворяясь, будто меня на самом деле интересует состояние старых досок или размеры общей площади дома, сеньора сидит в той же качалке, неспешно перебирая росарий. Со вздохом я заканчиваю описание гостиной и прошу хозяйку проводить меня в другие комнаты. Опираясь длинными руками о подлокотники качалки, она подымается и поправляет шаль на узкой костлявой спине. Затем распахивает дверь с матовыми стеклами, и мы попадаем в столовую, где мебели чуть побольше. Но стол с железными ножками и четыре никелированных стула с клеенчатыми сиденьями имеют еще более жалкий вид, чем качалка и старинный диванчик, сохранившие следы былого достоинства. Зарешеченное окно со спущенными жалюзи, должно быть, иногда освещает эту столовую с голыми стенами – без полочек, комодов и тумбочек. На столе одиноко стоит пластмассовая фруктовая ваза с веткой черного винограда и двумя персиками, над которыми жужжат мухи. Скрестив руки, сеньора останавливается позади меня. Лицо ее по-прежнему непроницаемо. Пора набраться смелости и нарушить ход событий, ведь ясно – эти комнаты ничего не расскажут о том, что я вздумал узнать всеми правдами и неправдами.
– А что, если нам сначала подняться на террасу? – спрашиваю. – Так будет удобнее подсчитать общую площадь.
Глаза сеньоры странно вспыхивают в полумраке этой столовой.
– Зачем? – говорит она наконец. – Общая площадь хорошо известна сеньору… Вальдивиа…
И две паузы – перед тем, как произнести имя хозяина, и после – первые признаки того, что сеньора чем-то озабочена, да и эта явная ирония в ее словах – лишь способ защиты, несомненно.
– Знаете, не уверен, – пытаюсь улыбнуться. – Но мне все-таки удобнее просчитывать площадь сверху вниз, а не… – деланая улыбка тает на моем лице – снизу вверх.
– Нет, вы уж, пожалуйста, поступайте, как я скажу, – чеканит женщина, опустив руки. На ее животе большой серебряный крест.
Удерживая подобие улыбки, я успеваю подумать, что в этом сумраке все мои актерские ухищрения бессмысленны и артист из меня – никакой. Я с треском раскрываю тетрадь и, не поднимая глаз, наспех пишу что ни попадя, лишь бы поскорее отделаться от этой якобы порученной мне работы. И по тому, как у меня пылают щеки и сохнет во рту, чувствую, что мой обман – раскрыт. Заполнив страничку в клетку квадратными корнями, алгебраическими формулами и какими-то дурацкими знаками, я, наконец, задаю себе вопрос: а что, собственно, мешает мне в открытую спросить про Амиламию? Да ничего! Однако чутье подсказывает, что даже если последует какой-то ответ, я не узнаю всей правды. Моя бессловесная спутница настолько невзрачна, что, встретив ее на улице, я бы не задержал на ней взгляд, но здесь, в пустынном доме со старой дешевой мебелью, эта женщина с невыразительным, стертым городской жизнью лицом воспринимается как воплощение тайны.
Такова природа парадокса. И раз уж от воспоминаний о маленькой Амиламии мое воображение так разыгралось, я не стану нарушать правил игры, буду держаться до последнего, не отступлюсь, пока не дойду до правды, неважно какой, пусть даже самой безобидной, обыкновенной, нехитрой, которую явно прячет от меня эта сеньора со старинным росарием в руках. Может, я опрометчиво дарю этой неуступчивой, но вполне учтивой сеньоре возможность удивляться и даже что-то заподозрить? Пожалуй. Но раз так, то уж позволю себе удовольствие побродить в лабиринте собственного воображения. А мухи все жужжат над вазой с фруктами и лепятся на персик в том месте, где он помят, нет, надкушен – я подхожу ближе, якобы занятый своими записями, – ну да, мелкими зубами, которые оставили след на его бархатистой кожице и оранжевой мякоти. Я не гляжу в сторону сеньоры, делаю вид, что углублен в подсчеты. А персик, похоже, надкусили, не тронув его пальцами. Я наклоняюсь вперед, чтобы получше разглядеть этот персик, опираюсь руками о стол, вытягиваю губы, будто хочу надкусить его точно так же, не коснувшись пальцами. Опускаю глаза и вдруг вижу – возле самых ног две темные полосы, словно от велосипедных шин, отпечатанные на плохо окрашенном деревянном полу. Следы ведут к краю стола, а потом тянутся, почти стираясь, вглубь комнаты…
– Можно продолжить, сеньора?
И захлопываю тетрадь.
Господи! Женщина стоит, положив руки на спинку стула, а на этом стуле, кашляя от дыма крепкой сигареты, сидит ссутулившийся человек с неуловимым взглядом – глаза его прячутся под морщинистыми, набрякшими веками, напоминающими шею черепахи, а меж тем они стерегут каждое мое движение.
Плохо побритые щеки, иссеченные сеткой серых морщин, дрябло свисают с острых скул, буровато-пепельные ладони зажаты под мышками. Рубашка из грубой синей ткани и спутанные мелко вьющиеся волосы, которые напоминают дно лодки, обросшее серым мхом. Человек сидит неподвижно, и единственный признак того, что он жив, – тяжелое, свистящее дыхание (кажется, это дыхание должно преодолеть на своем пути не только скопления мокроты, но и общую слабость и застаревшее раздражение), которое я уже слышал сквозь щели входной двери.
Я смущенно бормочу: «Добрый вечер», и готов убраться немедленно, позабыв все и вся – Амиламию, свои дурацкие подсчеты, следы от колес, неразгаданную тайну. Появление этого старого астматика говорит мне, что отсюда надо бежать. Я снова – «Добрый вечер», и звучит это как «Всего доброго». Черепашья маска морщится в жесткой усмешке: каждая частичка этой плоти словно создана из старой резины, из линялой ветхой клеенки. Протянутая рука останавливает меня.
– Сеньор Вальдивиа умер четыре года назад, – говорит он сдавленным, далеким голосом, запрятанным где-то внутри, голосом писклявым и смятым.
Оказавшись во власти этой когтистой старческой лапы, я понимаю: теперь уже нет смысла ломать комедию. Лица из воска и резины следят за мной молча, что дает мне возможность сыграть в последний раз, и, как бы говоря сам с собой, я произношу:
– Амиламия…
Да! Теперь никто не станет притворяться! Пальцы, до боли впившиеся в мою руку, какой-то миг не отпускают меня, но быстро слабеют, разжимаются и вот уже, беспомощно подрагивая, тянутся к восковой руке сеньоры, а она впервые за все это время теряет выдержку и плачет, глядя на меня глазами подбитой птицы. Но сухие судорожные всхлипы не нарушают строгости ее лица. Вот оно что! Выходит, придуманные мной чудовища – всего-навсего два одиноких, заброшенных, несчастных существа, которые едва могут справиться со своим волнением и вцепились друг в друга так отчаянно, что я не знаю, куда деться от стыда. Мое воспаленное воображение позволило мне вторгнуться в эту полупустую столовую, чтобы оскорбить сокровенную тайну двух людей, выброшенных из жизни после чего-то такого, о чем мне нельзя ни спрашивать, ни говорить. Никогда я не презирал себя с такой силой! Никогда меня так не предавали слова, которые исчезли все разом. Ну что теперь? Подойти к ним? Погладить по голове женщину? Прикоснуться? Попросить прощения за бестактность? Пустое… Я прячу в карман пиджака тетрадь с моими «записями». Будь они неладны, эти дурацкие открытия в духе детектива – журнал с комиксами, губная помада, надкушенный персик, следы колес, передник в синюю клеточку. Лучше, не говоря ничего, взять и уйти.
Но сквозь удушливое пыхтение я слышу писклявый голос:
– Вы ее знали?
«Знали»! После этого глагола в прошедшем времени, который у них теперь звучит ежедневно, все мои надежды рушатся. Вот и разгадка! «Вы ее знали?» Сколько же лет? Сколько лет мир живет без Амиламии, сначала убитой моим забвением и лишь вчера воскресшей в моей жалкой, бессильной памяти? Как давно ее серые вдумчивые глаза перестали радостно удивляться тишине старого парка? И эти губы – складываться трубочкой или вдруг растягиваться в улыбке с той торжественно-церемонной значительностью, с какой Амиламия старалась понять и принять все, что ей встречалось в жизни, видимо, предчувствуя скорый конец.
– Да, мы вместе играли в парке… Очень давно.
– Сколько ей было лет? – спрашивает чуть тлеющим голосом старик.
– Лет семь… да, не больше семи.
Голос женщины летит ввысь, вслед за моляще вскинутыми руками.
– Расскажите, расскажите, сеньор, какая она была.
Я закрываю глаза.
Амиламия, она лишь далекие воспоминания. Я могу ее представить только с какими-то вещами, которые она приносила, трогала, находила в парке. Да. Сейчас я вижу, как она быстро спускается с холма. И неправда, что это всего-навсего маленький бугорок с чахлой травой! Это холм, поросший сочным клевером, как тогда, и Амиламия, бегая вверх-вниз, протоптала там тропинку и оттуда сверху махала мне рукой, а потом неслась вниз под музыку, да-да, мои глаза слышали музыку, мой слух ловил яркие краски, мое осязание – нежные запахи, волшебные видения… Вы меня слушаете? Она летела ко мне в белом платьице, в своем переднике в синюю клетку… том самом, что висит у вас наверху.
Они берут меня за руки, но глаза мои по-прежнему закрыты.
– Расскажите, расскажите про нее…
– У нее были серые глаза, и цвет волос менялся от игры солнца и тени среди деревьев…
Они оба ведут меня осторожно, я слышу трудное дыхание мужчины и постукивание креста росария.
– Говорите, говорите, сеньор.
– От ветра у нее на глазах выступали слезы, и, когда она прибегала ко мне, ее щеки серебрились от веселых слезинок.
Я не открываю глаз. Теперь мы подымаемся… Две, пять, восемь, девять, двенадцать ступенек. Четыре руки подталкивают меня кверху.
– Она любила сидеть под эвкалиптом и плести что-то из тонких прутьев, а иногда вдруг заплачет притворно, чтобы я бросил книгу и подошел к ней…
Скрипят дверные петли. Запах вытесняет все сразу, отбрасывает любое ощущение, усаживается, как Великий Могол, на трон моего воображения, тяжелый, будто кованый сундук, острый запах, пронизывающий, как шелест шелка, мерцающий, как мертвая звезда, матовый, как глубоко запрятанная в земле рудная жила, изукрашенный, точно скипетр восточного монарха. Руки меня отпускают, но теперь я в плену тихих сдавленных рыданий.
Медленно открываю глаза – пусть они сначала сквозь ресницы воспримут это крохотное помещение, задавленное схваткой ароматов, испарений, красной осыпью лепестков.
Цветы здесь так неожиданны, в них такая власть, что они кажутся живыми существами. Сколько нежности в азалиях, сколько смертельной тоски в лилиях, какая церковная торжественность в гардениях и до чего невыносима приторность тубероз! В этой маленькой каморке без окон, освещенной огромными свечами, чье пламя похоже на чьи-то белые ноготки, я чувствую, как в самое солнечное сплетение ударяет запах воска, смешанный с застоявшимися влажными запахами цветов, и только тогда, наконец, возвращаюсь к жизни, вижу там, позади свечей, среди рассыпанных цветов, горку старых игрушек – разноцветные обручи, смятые мячи, похожие на подгнившие сливы, деревянные лошадки без гривы, ролики, безволосые и безглазые куклы, плюшевые медведи, из которых давно высыпались опилки, собачки, изъеденные молью, скакалка, стеклянная вазочка с ссохшимися конфетами, продырявленные резиновые уточки, ношеные туфельки, три колеса, нет – два, и вовсе не велосипедные, два параллельных колеса, кожаные ботиночки с замшевой отделкой… А напротив – можно рукой достать – маленький гроб, поставленный на синие ящики, украшенные бумажными цветами. Это уже привычные нам цветы жизни – гвоздики, подсолнухи, маки, тюльпаны, но как и те цветы – цветы смерти, они тоже часть этого ритуального пространства, где настаивается дурманное прелое тепло, нависшее над посеребренным гробиком, в котором на черных шелковых простынях и белой атласной подушке покоится ясное неподвижное лицо, обрамленное кружевами и подкрашенное розовым. Брови нарисованы тончайшей кистью, веки сомкнуты, а настоящие густые ресницы отбрасывают тень на щеки, такие же пухлые, налитые, как те, что я видел в парке. Губы серьезные, вытянутые трубочкой, почти такие же, как в те дни, когда Амиламия притворно сердилась, чтобы я все бросил и играл с ней. Руки сложены на груди. И росарий, такой же, как у матери, плотно обвит вокруг шеи из папье-маше. Белый саван окутывает покорное, безгрешное детское тельце.
Старики со слезами опускаются на колени.
Я протягиваю руку и пальцами касаюсь фарфорового лица моей подруги детства. И чувствую, как веет холодом от этого нарисованного лица, от этой куклы-королевы, которая властвует надо всем, что заполняет столь странную обитель смерти. Фарфор, вата и папье-маше. «Ни забывай миня и преходи по этаму рисунку».
Я отдергиваю руку от куклы-покойницы. Теперь на ее лице остались отпечатки моих пальцев.
Во мне поднимается тошнота от чада восковых свечей и приторного зловония тубероз в закрытой комнате. Я отворачиваюсь от гробницы Амиламии. Сеньора трогает меня за плечо. Глаза у нее расширились, а голос по-прежнему неживой.
– Не приходите сюда больше, сеньор. Если вы действительно ее любили – больше не приходите.
Я слегка касаюсь ладони этой женщины, вижу сквозь туман голову старика, спрятанную в коленях, и выбегаю из каморки на лестницу, потом пулей – в залу, а оттуда во двор и на улицу.
5Прошел, наверно, год, а может, меньше – месяцев девять, десять. Воспоминания об этом непостижимом идолопоклонстве уже не преследовали меня, как прежде. Я стал забывать эту холодную куклу в нестерпимо густом запахе цветов. В моей памяти воскресла живая Амиламия, и я почувствовал себя если не счастливым, то по крайней мере снова здоровым. Парк, озорная девочка, книги моей юности вытеснили подробности той печальной встречи. Жизнь в движении побеждает все. Теперь я никогда не расстанусь с моей настоящей Амиламией, одержавшей победу над тем почти карикатурным образом смерти. Я даже отважился однажды перелистать ту самую тетрадку в клеточку, куда как попало записывал придуманные цифры и расчеты. И вдруг из нее снова вылетает записка Амиламии с детскими каракулями и планом дороги к ее дому. Я подымаю записку, покусываю, улыбаясь, ее краешек, и тут мне приходит мысль, что бедные родители были бы рады иметь ее.
Пожалуй, думаю, надо навестить их. Надеваю пиджак и, насвистывая веселую песенку, завязываю цветной галстук.
Почему бы, в самом деле, не навестить их и не подарить им записку, написанную их дочерью?
Чуть не бегом приближаюсь к знакомому одноэтажному дому. Первые редкие капли дождя падают на землю, и мгновенно, как по волшебству, все полнится запахом благодатной влаги; кажется, что он разом освежает все пожухлые листья, будит жизнь повсюду, где есть корни, даже – в пыли.
Я нажимаю кнопку звонка. Дождь усиливается, и я звоню снова. Из-за двери слышен скрипучий голос: «Сейчас, сейчас!»
Наверно, передо мной опять вырастет эта женщина с росарием.
Поднимаю воротник пиджака. Дверь открывается.
– Что вам угодно? О-о, как хорошо, что вы пришли!
В кресле-коляске сидит горбатая девушка. Она кладет руку на бортик и улыбается мне жалкой страдальческой улыбкой. У девушки большой горб на груди, и платье похоже больше на занавеску, которая прячет изуродованное тело, но знакомый передник в синюю клетку придает какой-то кокетливый вид этой белой тряпке. Маленькая горбунья вытаскивает из кармана пачку сигарет и торопливо закуривает, оставляя на кончике сигареты следы оранжево-красной помады. Она жмурит от дыма свои прекрасные серые глаза, поправляет мелко завитые волосы цветы соломы, отливающие рыжинкой, и неотрывно смотрит на меня печально-вопрошающим взглядом, в котором ожидание быстро сменяется испугом.
– Нет, Карлос, уходи. И не приходи больше, не приходи!
Из глубины дома слышится задыхающийся голос старика:
– Да где ты? Тебе не велено открывать дверь! Опять забыла? Вернись немедленно, чертова кукла! Хочешь, чтобы тебя снова отхлестали?
Струйки воды текут по моему лбу, щекам, губам. И ее маленькие испуганные руки роняют на мокрые плитки журнал с комиксами.
Иное судьба сулила[59]59
© Перевод. А. Миролюбова, 2015.
[Закрыть]
Габриэлю Гарсии Маркесу
Алехандро все время жил в гостиницах. Приехав в двадцать два года из Коауилы, он сразу подумал, что если он заведет студию – светлую, в отдаленном районе, и незаметный темноватый номер в скромной гостинице, у него будет отличная возможность сочетать работу и личную жизнь; в первой можно принимать друзей, критиков, других живописцев, а во втором – подруг, не опасаясь короткого замыкания, ибо очень скоро он обнаружил, что последние часто бывают женами или невестами первых. Алехандро был не более тщеславен, чем большинство смертных, и часто, глядя на себя в зеркало – изо всех сил гримасничая, придавая различные выражения и без того подвижному лицу, в котором многие находили сходство с молодым Петером Лорре, – спрашивал себя, чему он обязан таким успехом у женщин.
– Монстры сейчас в моде, – рассмеявшись, объяснил ему однажды молодой критик Рохас. – От Карлоффа, Лугоши и твоего двойника Лорре исходит некое ретроспективное обаяние. Их вспоминают с ностальгией как часть эпохи, когда зло непременно выражалось во внешней символике: вампирах, мумиях и сатирах из Дюссельдорфа. Сегодня любой юнец, что не в ладах с парикмахерской, накопил в себе больше злобы, чем могли бы выставить напоказ тысячи масок Лона Чейни. К тому же и женщины весьма расположены к тому, чтобы какой-нибудь Дракула из среднего класса ровно в полночь, с последним ударом часов выпил у них кровь, поскольку самая страшная угроза монстра – лишить невинности – никого не пугает; наоборот, радует и воспринимается с охотой.
Алехандро даже не улыбнулся. Продолжал писать, не глядя на Рохаса. Тезис был неточен только в смысле хронометрии: жена Рохаса, Либертад, никогда не приходила в гостиницу к Алехандро после семи вечера. Художник нанес на холст мазок жженой сиены и вспомнил маниакальное стремление молодой дамы к кислороду. Единственным плодом этой любви, которая длилась два полных сквозняков месяца, была тяжелая пневмония.
Алехандро вздохнул и отошел от мольберта, встав спиной к свету, который в одиннадцать утра воскрешал отчасти образ безоблачной ясности, больше литературный, чем реальный, – такой густой дымкой обволакивали долину Мехико промышленные предприятия. Здесь, наверху, в Оливар-де-лос-Падрес, утро умудрялось отвоевать несколько ясных часов у дымки, которая поднималась от города, и у периодически повторяющихся в марте пыльных бурь, которыми мстило пересохшее оскверненное озеро. И глаза автопортрета обрели вдруг взгляд до смешного холодный и пристальный, взгляд монстра с яйцевидной головой, из-за которого после просмотра «Рук Орлака» его детство наполнилось упоительными кошмарами.
– Смотри, что я наделал из-за твоей болтовни! – вскричал художник. Рохас вытянул руки, умоляя ничего не трогать: мольба критика, который впервые непосредственным образом повлиял на удар кисти и заодно обрел верный ключ к истолкованию очередного автопортрета Алехандро Севильи, чудо-живописца, новатора, покончившего с иллюстративным и романтическим мурализмом, первого из мексиканских художников, вновь докопавшегося до холодных варварских корней индейской скульптуры.
– Помнишь, какими были твои первые работы? – улыбнулся Рохас. – Сикейрос второго ро́злива, вот что твердили все. А я всегда говорил: Севилья увидел Коатликуэ и понял, что своеобразие Мексики, узенькая, но непреложно существующая окраина нашей жизни – то, что не было затронуто Западом. Помнишь ту статью?
Алехандро еле заметно кивнул, закрыл глаза и потрогал пальцами холст. Подцепил каплю прусской лазури на указательный палец и легчайшими движениями втер ее в глаза на портрете: собственные его глаза вгляделись в картину, и мало-помалу в их глубине зародилась улыбка, вспомнились женщины – темные, словно церковные камни, бледные, словно дымка над вершинами гор: тела мексиканских женщин, впитавшие краски тропического леса, дикие кошки, заключенные в призрачной плоти.
Он еще раз потер призрачное подобие своих глаз. – Хорошо, я больше не буду звать тебя Лолой. – Не говори так. Я вовсе не Лола. Представь себе, что я никогда никем не была. Ведь я тебя ни разу не назвала «Алехандро», верно? Ты даришь мне наслаждение, а я – тебе. Зови меня силой, и я назову силой тебя. – Ладно, Сила.
До комизма доходящая жестокость начала сплавляться с реальной тенью, отбрасываемой телом: – Молчишь, Лупе? За это ты и нравишься мне. Ты знаешь, для чего предназначена. Ты отдаешь себе отчет, что ни разу не произнесла ни единого слова с тех самых пор, как я познакомился с тобой, и пригласил тебя в комнату, и ты молча пошла? Каких же глупостей ты бы наговорила, Лупе, и каким умом нужно обладать, чтобы хранить молчание! Так, так, шкура божества, отрезок содрогающейся кожи, как блестят твои глаза! Богиня из податливого камня, шшш…, непревзойденная, ты никогда не отвлекаешь меня, не мешаешь…
Отдаленный, радостный блеск в глазах соединился наконец с тайным злом, которое внешняя жестокость мешала разглядеть: – Я думал, ты суперневинна. Все говорят, что ты простушка. – Ясное дело, Алехандро, я невинна. Есть ли что-нибудь более растленное, чем невинность? – Иди сюда. Посмотрим, сможет ли что-нибудь разбить так плотно пригнанную маску. Где ты научилась этим штукам, Адела? – Следила за мамой. Ей было веселее. Тогда все считалось грехом. – Да здравствует педагогика. – Это оборотная сторона метода Монтессори, любовь моя.
Сам того не заметив, он расцарапал себе щеку.
– Ты всегда заканчиваешь, как Великий Вождь Лиловые Стопы, – рассмеялся критик, оглядывая художника с ног до головы, будто стараясь запомнить шахтерские башмаки, штаны из черного сукна, голубую меланжевую рубашку, короткие светлые кудри, сонные глаза навыкате, маленький нос с горбинкой, полные, кривящиеся губы, выражение насмешливого изумления на лице.
Теперь он живет в Оливар-де-лос-Падрес, подле кладбища на круче, в доме, который построил себе с обманчивой легкостью.
За белеными стенами одноэтажного дома скрывается целый ряд мавританских подземелий и внутренних комнат, где темное дерево и обилие кечуанской керамики, ольмекских фигурок и чучел Иуды из картона приглушают льющийся снаружи яростный свет, усиленный белизною стен, делают его точно таким, как нужно, – пористым, ноздреватым.
Из гостиницы он выехал после выставки шестьдесят третьего года. Алехандро буквально разваливался на части, его снедала лихорадка всякий раз, когда он представлял публике новую подборку работ, но тут он и сам боялся, что повторяется, и прошел слух, будто слабеет его творческая мощь, и усилия, потребовавшиеся для того, чтобы преодолеть собственный страх и чужие домыслы, превратили его в настоящий студень, запакованный в широченное пальто с каракулевым воротником и лацканами. Объятый дрожью, он вышел из галереи, не говоря ни слова: бледные изображения существ, в которых столкновение внешнего порядка с внутренним беспорядком преобразовывалось в утверждение правоты порядка тоски и тревоги перед беспорядком реальности, донесли то, что было вложено в них, и Алехандро, в полуобморочном состоянии, заперся в гостиничном номере, который снимал в районе улицы Луиса Мойи.
Он разделся, растер спиртом грудь, ноги и лоб и откинул простыни. В постели лежала, скорчившись, женщина, полностью одетая, маленькая аргентинка, аргентинка вдвойне: и по национальности, и по неухоженнной копне волос. Алехандро рассказывает, что просто завыл от тоски; женщина рассказывает, что она представилась – Дульсе Кунео – и заявила, что ехала на машине от самой Патагонии, чтобы познакомиться со своим кумиром и, совсем ничего от него не требуя, отдать ему всю себя. Смертельная усталость завладела художником; перед его лихорадочно блестящим взором промелькнули образы Начала, с большой буквы и в метафизическом смысле: Вечного Возобновления, как всегда, нежеланного, но на этот раз даже и неприемлемого.
Он наблюдал затравленно, как маленькая аргентинка уперла обе ладошки в бедро, словно собиралась пуститься в пляс, или разразиться арией из оперы Бизе, или заняться каким-то спортом собственного изобретения (тут Алехандро вспомнил критские фрески, где женщины с обнаженной грудью прыгают через спину быка), но кульминационный момент разрешился тем, что дамочка расстегнула молнию на юбке и сбросила ее на пол. От вида этой крохотной женщины с голыми ногами, мудреными подвязками, в застегнутом наглухо пиджачке, с макияжем, состоящим из нескольких дуг на уровне рта и глаз, художника затошнило; он забился в постель, спрятал лицо в подушки и застонал:
– Уходите, пожалуйста, уходите. Я себя очень плохо чувствую. Я не могу сейчас… – в то время, как пытался обнаружить спрятанное внутри зеркало, где женские лики представляли собой, если не продолжение, то во всяком случае внешний, видимый абрис – объективно скрытый – тайных граней Алехандро Севильи. Тщетно пытался он направить вечную влюбленность художника на миниатюрную дамочку – языкастую, явно эмансипированную, которая набросилась на него, заласкала, запрыгнула в кровать, возглашая, что после Виктории Окампо ни одна аргентинская интеллектуалка не подчиняется старым феодальным правилам испаноязычного мира. – Давай, че, я удивлю тебя немного, а?
Алехандро со вздохом подчинился.
Когда он проснулся, Дульсе, завернутая в простыню, уже заказала скудный континентальный завтрак и макала рогалик в кофе с молоком.
Алехандро, весь в поту, охотно обошелся бы без водопада речей – Дульсе думала, что будет нелегко проникнуть в гардеробную, но посыльный ее провел; сразу видно, женщины чувствуют себя здесь вольготно, словно гаучо в пампе; она и мечтать не смела, чтобы все так чудесно устроилось; он даже не пошевелился; она все взяла на себя; и свинку поимела, и поросенка, и колбаску; работала, как мужик, а наслаждалась, как баба; она ведь феминистка, женщина современная; эта ночь – самая счастливая в ее жизни; атмосфера циничная, непосредственная и высококультурная; это напомнило ей любовные сцены из «A bout de souffle»[60]60
«На последнем дыхании» – фильм Жана-Люка Годара, 1960 г.
[Закрыть]; в Мексике этот фильм еще не показывали? Да, Буэнос-Айрес ближе к Европе…
Алехандро закрыл глаза, и Дульсе подложила ему подушки под затылок и плечи. Он молча ждал, когда же дамочка уберется. Иногда приоткрывал левый глаз. Иногда правый. Аргентинка прошла в ванную. Вот она оденется. И уйдет. Она вышла, завернутая в простыню, с губной помадой в руке. Ухмыльнулась, будто детеныш суккуба в бреду; на желтоватых скулах красовались длинные курчавые бакенбарды, прилепленные прозрачным скотчем. Она взобралась на стул и принялась разрисовывать стены. Алехандро открыл оба глаза и закричал: дамочка писала стихи в красном цвете, признания в любви, одиннадцатисложники буэнос-айресского ро́злива, в которых «ты» (Алехандро Севилья) рифмовалось с «пустоты» (в жизни Дульсе до встречи с ним); и «любовь» (сомнению не подвергавшаяся) с «вновь» – будущим близким, объявленным и фатальным. Падали картины и зеркала, стих продолжал свое шествие по стенам, а Алехандро, глотая аспирин, яростно мотал головой, не желая, чтобы его удивляли столь чудовищным образом; весь в лихорадочном поту, он старался вызвать в воображении новую картину, серию картин, опираясь на выводы, которые прошлым вечером сделал относительно своего предыдущего творчества. Ты, любовь, вновь, пустоты. Рохас пришел с вырезками из газет.
Карлица сказала ему: «Чао, малыш», и продолжала писать на стенах, пока, наконец, не выдохлась, и тогда юркнула в постель к Алехандро.
– Уберите ее, уберите, – из последних сил прошептал художник.
Дульсе баловалась с ним под простынями, Рохас зачитывал критические отзывы о выставке, Алехандро коротко взвизгнул, словно белочка, которую насилуют.
Через три дня Дульсе Кунео была официально депортирована, и Алехандро, мрачный, с синяками под глазами, заплатил за ущерб, выехал из гостиницы и купил участок земли в Оливар-де-лос-Падрес.
Он путешествовал по Европе и Соединенным Штатам, пока строили дом. Вера в архитектора Бойера позволила ему в течение восьми месяцев совершать то, что Флобер назвал «la plus grande déboche»[61]61
величайший разгул (фр.)
[Закрыть]; для Алехандро на первый, невыносимый план вышли отели, тяжелая пища, обмен валюты, таможни, ожидание в бюро путешествий, пересадки с самолетов на поезда, с поездов на такси, чаевые, швейцары, официанты, шоферы; на втором плане смутно виднелись очертания городов и улиц, спасенные от забвения – щеголи на Сохо-сквер, одетые в стиле Оскара Уайльда; самый оживленный перекресток Парижа – Сен-Жермен, улица Бонапарта, улица Сены – увиденные из окон кафе «Ше Липп»; Бликер-стрит субботним вечером с ее пестротою, которой бы Жене позавидовал – негры, евреи, язычники, краснокожие; пуритане, вечные отцы-основатели, их Плимутский камень и бурное воображение изгнанников; на третьем, потайном плане, силой воли загнанном в подсознание – выставки, на которые он едва бросил взгляд сквозь смеженные ресницы; два-три фильма в день – в «Пале де Шейо», Академии кино, «Нью-Йоркере»; парижанка, говорившая как героиня Антониони («Я знаю, что никогда тебя не полюблю. Я не смогу в этом году полюбить тебя. Может быть, в следующем. Тогда я поеду в Малагу. Но это не обязательно. Пойдем погуляем. Если тебе станет слишком скучно, я сразу тебя полюблю»); англичанка из Лондона, говорившая, как героиня Д. Г. Лоуренса («У тебя Юг между бедер, Эльдорадо в глазах; твоя темная кровь, пронизанная солнцем жертвоприношений, призвана оплодотворить мой туман; ляжем на ковер, Алек»); американка из Нью-Йорка, говорившая, как героиня Джека Ричардсона («Я бы и до первой базы не добежала, будь ты моим папочкой, Алекс. Проехали. Напрягись еще немного, надо же поддержать репутацию. Упс, туда нельзя. Не будь грубияном»). Guinness is Good for You. Dubo Dubon Dubonnet. The Pause That Refreshes. Je Vous Ai Compris! Don’t Let Labour Ruin It! Go with Goldwater![62]62
Гиннесс хорошо для вас. Дюбо Дюбон Дюбонне. Пауза, которая освежает. Я вас понял! Не дай работе испортить это! Вперед с Голдуотер! (англ., фр.).
[Закрыть]
Лучшее Пиво, Светлое Марочное – вся Мексика строит из Бетона Анауак – Демократия и Социальная Справедливость. Алехандро подмигнул за стеклами черных очков, пока такси везло его из аэропорта по широким проспектам, пустынным на рассвете. Бросил на пол матерчатый чемодан, крутанулся на каблуках и стал осматриваться в новом доме, слепом и белом, в Оливар-де-лос-Падрес.
Рохас скрестил руки, в изумлении взирая на новую палитру: красные, черные, белые, чистые алюминиевые цвета.
– Смотрел много фильмов?
Алехандро почесал шею, стоя перед чистым холстом.
– Письмо движением, понимаешь? Не как танец, в нем движение аллегорическое. Нет, нет, нет. Благодаря кино обыденное движение становится искусством: открыть дверь, пройти по улице, помешать ложечкой в чашке. Вот именно, Рохас. Природа и искусство неразделимы в кино. И уже не нужно ломать голову. Внешний мир и мир произведения искусства одинаковы. Ты не должен объяснять искусство с социальной точки зрения только потому, что нужно ведь хоть что-то понять, раз не понимаешь мир произведения, на которое смотришь. С этим покончено. Хватит объяснений: произведение и есть сама реальность, не ее символ, выражение или смысл. Но как добиться этого, Рохас? Я должен найти способ.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































