Текст книги "Аура (сборник)"
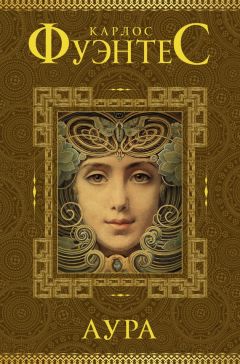
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Тот, кто изобрел порох[48]48
© Перевод. М. Былинкина, наследники, 2015.
[Закрыть]
Один из немногочисленных интеллектуалов, еще существовавших незадолго до катаклизма, был того мнения, что в случившемся прежде всего повинен Олдос Хаксли[49]49
Олдос Хаксли (1894–1963) – английский писатель, автор антиутопий.
[Закрыть]. Этот ученый муж – профессор той кафедры социологии, что в один прекрасный день перед лицом всего человечества наградила его дипломом доктора «Гонорис кауза», хотя другие университеты закрыли перед ним свои двери, – процитировал на церемонии такие слова из своего опуса «Ночная музыка»: «Для снобизма нашей эпохи характерны невежество и страсть к последнему крику моды. Именно это определяет прогресс, развитие промышленности и социальную активность».
Хаксли, как рассказывал мой друг, любил повторять высказывание одного североамериканского инженера: «Кто строит небоскреб с расчетом на сорок лет, тот – враг строительной индустрии». Если бы у меня было время поразмыслить над рефлексиями моего друга, я, возможно, посмеялся бы или поплакал над его искренним намерением разобраться в сложной взаимозависимости причин и следствий, идей, рождающих действия, и действий, питающих разум. Но в ту пору и время, и идеи, и действия уже не имели никакого значения.
Создавшаяся ситуация в общем была не нова. Разве что создали ее мы сами, люди. Именно это обстоятельство изначально ее оправдывало, делало забавной и всем понятной. Ведь не кто иной, как мы сами ежегодно заменяли старую автомашину новой моделью. Мы сами выбрасывали отслужившие вещи на помойку. Мы отдавали предпочтение тому или другому виду продукции. Здесь иной раз дело доходило до абсурда. Помню, одна молодая покупательница выбрала из всех дезодорантов тот, чей запах, как уверяла реклама, внушает любовь с первого взгляда. Правда, бывали новинки, которые и не слишком радовали. Тому, кто привык к прокуренной трубке, разношенным ботинкам и ностальгическим мотивам старых пластинок, было непросто от них отказаться и подарить старьевщику или отправить на свалку.
Увы, всем было недосуг поинтересоваться, чей дьявольский план стал приводиться в действие или какой взыграл природный феномен, вышедший из-под нашего контроля. До сих пор неизвестно, что вызвало это возмущение вещей, эту божью кару, это наказание – трудно подыскать слово. Началось с того, что однажды ложка, каковой я пользовался за обедом – из чистейшего серебра «Кристоф», – вдруг разломилась в моих руках. Я не придал этому никакого значения и вместо сломанной ложки купил другую, с точно такой же гравировкой, дабы иметь полные приборы на двенадцать персон и впредь не краснеть за сервировку перед гостями. Новая ложка прослужила неделю, за ней сломался и нож. Купленные предметы не продержались и трех суток, развалившись на куски. Тогда я открыл буфет и увидел, что от хранившихся в ящиках приборов остались всего лишь серые острые обломки. Некоторое время мне думалось, что происшествия носят случайный характер. К тому же счастливые обладатели дорогих вещей не считали нужным распространяться о том, что – как позже выяснилось – уже стало повсеместным явлением. Но когда начали ломаться алюминиевые ложки, вилки, ножи из обихода бедняков, в больницах, общественных столовых и казармах, скрывать беду стало уже невозможно. Поднялся общий крик и стон. Промышленность ответила, что ценой огромных усилий может удовлетворять спрос и, если будет нужно, поставлять столовые приборы для ста миллионов семей каждые двадцать четыре часа.
Расчет оказался точным. Моя чайная ложечка – самая дешевая, отныне служившая мне орудием для всех трапез, – после завтрака обращалась в прах. Приходилось с утра вставать в очередь, чтобы купить новую ложку. Насколько я знаю, очень немногие запасались впрок – люди боялись, что сотня приобретенных сегодня ложек завтра превратится в груду металла, и всякая надежда на то, что они прослужат более суток, равнялась нулю. Социальные службы потерпели полный крах, никто не мог рассчитывать на их поддержку, а общественное ностальгическое движение «За возврат к обычаям древних викингов» не нашло отзыва в сердцах сограждан и вскоре зачахло.
Подобная, в известной степени любопытная ситуация длилась месяцев шесть. Однажды утром я заканчивал свою ежедневную чистку зубов. И почувствовал, как щетка во рту превратилась в пластиковую змейку, которую я затем по кусочкам выплевывал. Такого рода странности стали регулярно повторяться. Помню, когда в тот же день я зашел в своем Банке к начальнику, его бюро уже распалось на стальные ящики, его гаванская сигара пыхтела и крошилась, и даже чеки в руках беспокойно дергались… По дороге домой мои ботинки полностью развалились, и мне пришлось продолжать путь босиком. До своих дверей я добрался практически полуголым: от костюма остались одни лохмотья, с галстука соскользнули все его цвета и мотыльками запорхали вокруг меня. В глаза бросились и чудеса на улицах: автомобили вдруг ни с того ни с сего останавливались, и пока водители возились с мотором, машины тряслись в облаках красного дыма, а куртки водителей, вонявшие потом и дешевым мылом, обращались на их спинах в сплошную рвань. Желая отвлечься от неприятного зрелища, я стал глядеть на проезжавшие машины. Оказалось, что улицы запружены несусветными диковинами: первобытный «Форд-Модель Т», какая-то развалюха 1909 года, старая «Тин-Лиззи», непонятный ящик на гусеничном ходу и другие допотопные драндулеты.
С этого вечера началась настоящая осада магазинов готового платья и мебели и автомобильных агентств. Продавцы автомобилей уже предлагали – что наталкивало на некоторые размышления – готовую «Модель Супер-Завтра», тысячи единиц которой разошлись за считаные часы. На следующий день все агентства объявили о начале продаж «Модели Супер-Послезавтра», а реклама оповещала горожан, что предыдущая модель – которой, впрочем, уже не грозили тлен и ржа – вышла из моды. И новые лавины покупателей хлынули в автоагентства.
Здесь я должен внести некоторую ясность. Все упомянутые мною события, истинное значение которых так до конца и не оценено, не вызывали у людей удивления или раздражения, а, напротив, встречались с энтузиазмом, порой с восторгом. Фабрики работали в полную силу, с безработицей было покончено. Громкоговорители на каждом углу разъясняли смысл новой промышленной революции: доходы от свободного предпринимательства энергично устремляются на рынок, растущий не по дням, а по часам; частная инициатива, отвечая потребностям спроса, радостно удовлетворяет любые прихоти человека; разнообразие товаров потребления, обусловленное постоянным их обновлением, обеспечивает богатую, здоровую и свободную жизнь. «Карл Великий умер, так и не сменив своих носков, – вещал один рекламный щит, – а вы умрете со свежими Эласто-Платекс на ногах». В выигрыше были абсолютно все. Люди работали в промышленности, получали огромные деньги и тратили их, ежедневно заменяя приходящие в негодность вещи новыми. Подсчитано, что только в моей общине каждые восемнадцать часов находилось в обороте – в ценных бумагах и наличными – более двухсот миллионов долларов.
Сельское хозяйство пришло в упадок, но его продукция была соответственно замещена продуктами химической, деревообрабатывающей и энергетической промышленности. Мы стали есть витаминные пилюли, капсулы и гранулы, следуя строгим врачебным предписаниям, предупреждавшим о том, например, что их надо предварительно обжаривать или потреблять в обертках (таблетки, покрытые воском, выскальзывали из пальцев).
Честно признаюсь – я без труда приспособился к обстоятельствам. И впервые меня охватил ужас лишь тем вечером, когда я вошел в свою библиотеку. Там по всему полу этаким чернильным крапом разметались буквы из моих книг. Быстро перелистав несколько томов, я убедился, что их страницы белым-белы. Вокруг звучала печальная невнятная музыка. Едва я попытался различить голоса букв, как они тут же сгорели. Остались лишь кучки пепла. Пришлось выйти на улицу, чтобы узнать, какие еще сюрпризы предвещает эта чертовщина. По воздуху с наглостью вампиров носились тучи букв. Когда они сталкивались, в электрическом разряде мгновенно высвечивалось какое-нибудь «любовное слово» и тут же с визгом рассеивалось в воздухе. При свете молний я успел заметить и кое-что другое. Большие городские здания начали лопаться и раскалываться. На одном из них я увидел, как широкая трещина вспарывает стену. То же самое происходило с тротуарами, деревьями, кажется, с самим воздухом. Город встретил утро в израненной, располосованной шкуре. Добрая треть рабочих должна была оставить работу на фабриках и заняться восстановлением разрушенных домов, хотя это был напрасный труд: каждая заделанная щель давала новые трещины.
Таким образом завершился период, состоявший как бы из двадцатичетырехчасовых циклов. С этой поры наша домашняя утварь и предметы обихода стали приходить в негодность гораздо быстрее: часов за десять, а то и за три-четыре. Улицы были завалены грудами ботинок и бумаг, кучами разбитых тарелок и вставных челюстей, рваных пальто и манто, горами разорванных книг, сломанной мебели и упавших стен, увядшими цветами, жевательной резинкой, телевизорами, батарейками. Кое-кто пытался усмирить вещи, взять над ними верх, заставить выполнять свои обязанности, но скоро до нас дошли вести о странных смертях мужчин и женщин, зашибленных метлами и ложками, придушенных подушками, повешенных на галстуках. Все, что не было отправлено на свалку после того, как отслужило свой короткий век, мстило упрямым владельцам.
Завалы мусора сделали улицы почти непроходимыми. После бегства алфавита прекратилась публикация всех и всяческих указов, громкоговорители теряли голос каждые пять минут, и с ними приходилось возиться дни напролет. Надо ли говорить, что мусорщики превратились в привилегированный социальный слой, а Тайное Братство Производителей стало наиболее действенной теневой силой в наших республиканских органах власти. Самым популярным был такой лозунг: «В интересах народа и для овладения ситуацией ни на день не переставайте увеличивать закупки и потребление товаров». Рабочие уже не покидали производства, где сосредоточилась вся жизнь горожан. Здания, площади, даже жилье были брошены на произвол судьбы. Если, например, рабочий собрал на заводе велосипед и, испытывая его, поколесил на нем по заводскому двору, он вынужден был тут же выбрасывать распадавшееся под ним изделие в мусорный контейнер, который стремительно переполнялся и становился еще одним тромбом в артериях города. Сборка последующих машин кончалась не лучшим образом, хотя рабочие трудились не покладая рук. То же самое происходило и со всеми остальными вещами. Стоило мастеру, сшившему рубашку, ее надеть, как через минуту приходилось ее выкидывать. Алкогольные напитки потреблялись теми, кто их разливал в бутылки, а пилюли от головной боли глотали те, кто их делал, даже не имея возможности приложиться к спиртному. И так было во всех отраслях производства.
Моя работа в Банке потеряла всякий смысл. Денежное обращение прекратилось с той поры, как производители товаров, запертые на производстве, сделались потребителями. Я пошел работать на военный завод. Мне было известно, что оружие отправляется куда-то на край света и там находит применение. Скоростными самолетами бомбы, пока они не успевали взорваться, доставлялись по назначению, и в песках каких-то таинственных мест эти смертоносные яйца находили свое прибежище.
Сейчас, по прошествии года с тех пор, как сломалась моя первая ложка, я влез на верхушку дерева и стараюсь разглядеть в дыму, под вой сирен, исковерканное лицо земли. Воющие звуки, ставшие материальной субстанцией, накрывают горы отбросов. С ужасом соображаю – исходя из своего опыта общения с последними годными предметами, – что их срок службы сократился до каких-то долей секунды. Самолеты, начиненные бомбами, уже взрываются в воздухе, но при этом глашатай с вертолета, кружащего над останками города, все так же бодро призывает: «Потребляйте, потребляйте, применяйте, применяйте, все и вся!». А что прикажете потреблять? Осталось совсем немного.
Мне уже с месяц приходится ютиться в развалинах своего дома. С военного завода я сбежал, увидев, что все – и рабочие, и хозяева – не только впали в беспамятство, но и потеряли способность предвидеть… Они живут всего лишь мигом, подчинены секундной стрелке. А мне захотелось вернуться домой, постараться что-нибудь вспомнить – хотя бы то, о чем сейчас спешно пишу и что так слабо отражает события прошедшего года, – и хотя бы что-нибудь предпринять.
Повезло! В подвале мне под руку попалась книжка с остатками шрифта, «Treasure Island»[50]50
«Treasure Island» – «Остров сокровищ» и роман английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894).
[Закрыть], и я кое-что припомнил – и о себе, и о многом другом. Закрыв книгу («За восемь пиастров! За восемь пиастров!»), я огляделся. Голые позвонки презренных вещей, тлен и прах. Где они, дети и влюбленные, те, кто пел песни? Почему я о них забыл, или мы все о них забыли за это время? Что сталось с ними, пока мы только и думали (а мне удалось и написать), как бы сохранить и приумножить свой скарб? И я опять посмотрел на тьму-тьмущую всякой дряни перед собой. В серо-грязном, как жеваная резинка, пейзаже различаются детали: автомобильные покрышки, тряпье, смердящая гниль. Из разломов асфальта торчат разложившиеся трупы; я вижу останки людей в холодных объятиях друг друга, с окаменевшим открытым ртом, – я знаю, как это происходило.
И не могу себе представить, какие аллегорические монументы можно было бы воздвигнуть на этих руинах в честь экономистов прошлых лет. Тот, что будет посвящен Бастиа[51]51
Клод Фредерик Бастиа (1801–1850) – французский экономист, автор теории всеобщей социальной гармонии.
[Закрыть] и его «Гармонии», должен выглядеть особенно смешным гротеском.
Среди страниц книжки Стивенсона я обнаружил пакетик с семенами овощей. С какой огромной радостью я бросил их в землю!.. Но вот опять слышится настырный голос: «Покупайте, потребляйте… Все… Все… Все!».
А теперь… теперь голубой гриб закрыл свет плюмажами тени и утопил меня в грохоте лопнувшего стекла…
Я сижу на берегу той земли, что… – как помнится из уроков географии – никогда не была морем. Нету больше у Вселенной никакого имущества, кроме пары звезд, волн и песка. Я взял две сухие палочки и тру их, очень долго тру… А! Вот и первая искра…
Две Элены[52]52
© Перевод. А. Миролюбова, 2015.
[Закрыть]
Хосе Луису Куэвасу
– Не знаю, откуда только Элена набралась этих идей? Ее не так воспитывали. Да и вас тоже, Виктор. Но она изменилась с тех пор, как вышла замуж, это уж точно. Сомнений нет. Я думала, мужа моего удар хватит. Разве можно отстаивать такие идеи, тем более за ужином? Моя дочь прекрасно знает, что ее отцу нельзя волноваться во время еды, – у него сразу подскакивает давление. Так врач сказал. Не зря же он берет за консультацию двести песо. Умоляю вас, поговорите с Эленой – меня она не слушает. Скажите, что мы готовы простить ей все – пусть себе учит французский язык и совсем не занимается домом, пусть ходит в клоунских красных чулках, но нельзя же говорить за ужином отцу, что женщина может жить с двумя мужчинами… Второй ей, видите ли, нужен в качестве дополнения. Виктор, вы должны ради вашего же блага заставить свою супругу выбросить из головы эти идеи.
С тех пор, как Элена посмотрела фильм «Жюль и Джим», в нее словно бес вселился, так и бросается в битву за воскресным ужином в доме родителей – это обязательная семейная встреча, на которой мы должны присутствовать регулярно. – Выйдя из кино, мы сели в «эм-джи» и поехали ужинать в ресторан «Тощий койот» в Койоакане. Элена, в черном свитере, кожаной юбке и чулках, раскритикованных матерью, была, как обычно, неотразима. На шее у нее поблескивала золотая цепь с камеей из яшмы, на которой, по словам нашего друга-антрополога, изображен миштекский бог смерти. Элена, всегда такая веселая и беспечная, тем вечером пребывала в напряжении: щеки ее пылали, она едва поздоровалась с друзьями, которые обычно собирались в этом ресторане, оформленном в готическом стиле. Я спросил, что ей заказать, но она не ответила, а взяла меня за руку и пристально посмотрела. Я заказал два пепитос с чесноком, а Элена тем временем встряхивала своей бледно-розовой шевелюрой и терла шею:
– Виктор, нибелунг, я впервые осознала, что вы, мужчины, имеете право быть женоненавистниками, и что мы, женщины, рождены для того, чтобы вы ненавидели нас. Незачем дальше притворяться. Я открыла, что мизогиния[53]53
Ненависть к женщинам.
[Закрыть]* – непременное условие любви. Знаю, что не права, но чем больше я требую, тем больше ты ненавидишь меня и тем больше стараешься удовлетворить. Виктор, нибелунг, ты должен купить мне костюм старинного матроса, такой же, какой у Жанны Моро.
Я сказал, что все это превосходно в том случае, если удовлетворения своих потребностей она будет ждать только от меня. Элена погладила меня по руке и улыбнулась.
– Знаю, ты освободился не до конца, любимый. Но не теряй веры. Когда ты дашь мне все, о чем я прошу, сам станешь умолять, чтобы другой мужчина разделил с нами нашу жизнь. Сам попросишься на роль Жюля. Сам попросишь, чтобы Джим жил с нами и облегчал тебе бремя. Разве не об этом поет Гуэрито? Будем любить друг друга, и все дела.
Я подумал, что Элена права; в будущем, возможно, так оно все и случится; я был женат на ней четыре года и знал уже, что рядом с ней все правила морали, усвоенные с детства, естественным образом улетучиваются. Но именно это я и любил в ней: абсолютную естественность. Она никогда не отвергает одно правило, чтобы установить другое; она отпирает что-то вроде дверцы – так в детских книжках каждая новая страница предвещает картинку сада, пещеры, моря, а пробраться туда можно через потайное отверстие между строк.
– Не хочу заводить детей еще лет шесть, – сказала она как-то вечером, положив голову мне на колени, в темной гостиной нашего дома, под звуки пластинки «Кэннонболла» Эддерли; и в том же доме в Койоакане, который мы украсили многоцветными росписями и колониальными маскаронами с гипнотическим взглядом:
– Ты никогда не ходишь к мессе, и никто ничего не говорит. Я тоже не стану ходить, и пусть говорят, что хотят; а на чердаке, где у нас гардеробная, и откуда ясным утром можно увидеть, как мерцают вулканы;
– Сегодня я пойду к Алехандро выпить кофе. Он великолепно рисует, но будет смущаться в твоем присутствии, а мне нужно, чтобы он мне объяснил кое-что с глазу на глаз; и следуя за мной по доскам, проложенным между неоконченными этажами жилого комплекса, который я строю в Десиерто де лос Леонес;
– Отправляюсь на десять дней путешествовать на поезде по Республике; и в «Тироле», в середине вечера, быстро заглатывая кофе, растопыренными пальцами приветствуя друзей, проходящих по улице Амбурго:
– Спасибо, что свел меня в бордель, нибелунг. Мне показалось, будто я попала во времена Тулуз-Лотрека, все так невинно – ни дать ни взять рассказ Мопассана. Видишь? Сегодня я убедилась, что грех и разврат вовсе не здесь, а где-то в другом месте.
После частного показа «Ангела-истребителя» она сказала:
– Виктор, морально то, что дарует жизнь; аморально то, что ее отнимает, – разве не так?
И повторила это, жуя бутерброд:
– Разве я не права? Если ménage а trois[54]54
Сожительство втроем (фр.).
[Закрыть] дарит нам жизнь и радость, и если благодаря этим отношениям мы становимся лучше, чем были, когда жили вдвоем, разве это не морально?
Я кивнул, не прекращая есть, слушая, как шкворчит мясо на высокой решетке гриля. Некоторые друзья стояли рядом, следили, чтобы их куски прожарились до нужной кондиции, потом вернулись за стол, уселись с нами, и Элена опять рассмеялась, снова стала прежней. Поддавшись дурному искушению, я стал вглядываться в лица наших друзей и представлять себе, как тот или иной обосновывается в нашем доме и дарит Элене толику чувств, стимул, страсть или понимание, которые я, достигнув своего предела, более не способен ей предложить.
Вглядываясь в лицо человека, очевидно расположенного слушать (а меня порой утомляют ее речи), или того, кто любезно согласился бы закрыть глаза на нестыковки в ее рассуждениях (мне больше нравится, когда в ее словах отсутствует логика, и из них ничего не следует), или того, кто склонен задавать правильные вопросы (лично я, чтобы расшевелить Элену, прибегаю к жестикуляции и телепатии, поскольку не доверяю словам), я утешал себя тем, что, в конце концов, то немногое, чем они были бы в состоянии ее дополнить, они даровали бы ей, начиная с некоего конечного пункта нашей с ней совместной жизни, на десерт, на посошок, в виде дополнительного блюда. Тот, что был подстрижен под Ринго Старра, спросил ее без обиняков и откровенно, почему она хранит мне верность, и Элена ответила, что неверность стала нынче правилом, как раньше – причастие по пятницам, и больше ни разу на него не взглянула. Тип с черной черепашьей шеей решил уточнить ответ Элены: без сомнения, моя жена хотела сказать, что нынче верность снова хранят наперекор всему. А этот, в безукоризненном эдвардианском пиджаке, выразительно посматривал на Элену, подталкивая ее продолжать, – из него получился бы непревзойденный слушатель. Элена помахала официанту и попросила кофе эспрессо.
Взявшись за руки, мы шли под ясенями по булыжным мостовым Койоакана, ощущая резкий перепад между дневной жарой, въевшейся в нашу одежду, и влажной ночью, которая, после вечернего ливня заставляла блестеть глаза и румянила щеки. Нам нравится гулять молча, опустив голову и взявшись за руки, по старинным улочкам, которые существовали в начале начал, это – точка сближения нашей общей склонности к уподоблению. Кажется, мы никогда не говорили об этом с Эленой. Нужды нет.
Верно и то, что нам доставляет удовольствие приобретать старые вещи; это дает нам ощущение, будто мы выкупаем их из какой-то мучительной заброшенности или одним своим прикосновением даруем им новую жизнь или, напротив, подбирая им место, освещение и подходящую атмосферу в доме, в действительности защищаем сами себя от подобной заброшенности в будущем. Осталась дверная ручка в виде львиной морды, которую мы нашли в какой-то асьенде в Лос-Альтосе; мы каждый раз поглаживаем ее, входя в прихожую, хотя и понимаем, что всякая ласка истачивает вещь; остался каменный крест в саду, подсвеченный желтым, на нем изображены четыре сливающихся потока из сердец, вырванных, может быть, теми же руками, что после их ваяли в камне; и остались черные лошадки от какой-то давно разобранной карусели, равно как и маскароны с носа бригантин, лежащих на дне морском, если только их остов не красуется на каком-нибудь берегу, среди величавых какаду и умирающих черепах.
Элена снимает свитер и растапливает камин, а я тем временем ищу пластинки «Кэннонболла», наливаю две рюмки абсента и ложусь на ковер, дожидаясь ее. Элена курит, положив голову мне на колени, и мы оба слушаем медленный саксофон Брата Латифа, мы познакомились с ним в Нью-Йорке, в «Голд Баге»: конголезский колдун, выряженный, как Дизраэли, с сонными глазами под толстыми, будто два африканских удава, веками; с бородкой сегрегированного Свенгали и лиловыми губами, приникшими к саксофону, который затыкает рот негру, позволяя тому выражать себя с красноречием, определенно отличным от хриплого бормотания обыденной жизни, но медленные ноты, жалобно о чем-то твердящие, так и не могут высказать все, что наболело, ибо они, с начала и до конца, не более чем поиск и приближение, подавленные непонятным стыдом, и это придает вкус и направление нашим касаниям, которые нота за нотой воспроизводят мелодию Латифа; только предвестие, только прелюдия, ограничение наслаждения одними прелиминариями, которые тем самым превращаются в настоящий акт.
– Негры в Америке подстегивают белых, – заявляет Элена, когда мы занимаем наши места за огромным чиппендейловским столом в столовой ее родителей. – Жизненная сила негров, проявляющаяся в любви и музыке, вызывает у белых растерянность. Заметьте: белые угнетают негров физически, потому что почувствовали на себе психологическое давление негров.
– Ну, а я рад, что здесь нет никаких негров, – произносит отец Элены, наливая себе суп из тыквы и картофеля, который поднес ему в дымящейся фарфоровой супнице слуга-индеец, днем тот же слуга поливает сад вокруг большого особняка в Лас-Ломасе.
– Причем здесь это, папа? Это как если бы эскимосы радовались, что они не мексиканцы. Каждый есть тот, кто он есть, и точка. Интересно другое: увидеть, что происходит, когда ты сближаешься с кем-то чуждым, сознавая, что он тебе необходим. Даже своим отрицанием тебя.
– Давай ешь. Эти твои речи с каждым воскресеньем все глупее и глупее. Я знаю одно: ты ведь не вышла замуж за негра, правда? Ихинио, неси энчиладас.
Дон Хосе торжествующе взирает на Элену, на меня и на свою супругу; донья Элена-мать, дабы поддержать замирающую беседу, рассказывает, чем она занималась на прошедшей неделе, а я разглядываю обтянутую тисненой кожей мебель розового дерева, китайские вазы, тюлевые занавески и вигоневые ковры в этом доме прямоугольных очертаний, за огромными окнами которого колышутся эвкалипты в овраге.
Дон Хосе улыбается, когда Ихинио подает ему энчиладас, сверху – горка сметаны, и его зеленоватые глазки преисполняются довольства едва ли не патриотического, с тем же выражением они смотрят 15 сентября, на президента, размахивающего флагом, и совсем по-другому – увлажненно, растроганно, – когда наступает время курить сигару и слушать болеро на собственном, личном, музыкальном автомате. Я останавливаю взгляд на бледной руке доньи Элены, которая катает хлебный мякиш и снова и снова устало повествует, о чем она думала и что делала с тех пор, как мы виделись в последний раз. Отстраненно слежу за этим водопадом дел: кого она навещала, с кем играла в канасту, как посещала детский диспансер для бедноты, ходила на поминки, на благотворительный бал, искала новые шторы, выговаривала прислуге, подолгу беседовала по телефону с друзьями, выкраивала минутку, чтобы забежать к священнику, детишкам, модистке, врачу, часовщику, пирожнику, краснодеревщику и багетному мастеру. Не отрываю глаз от бледных длинных пальцев, которые ласкают хлебный мякиш.
– …я говорю им: не просите у меня средств, я деньгами не распоряжаюсь. Пусть бы шли в контору к твоему отцу, их бы там приняла секретарша…
Запястье у нее тонкое-тонкое, движения медленные, томные, на браслете медальоны – Христос из Кубилете, Святой юбилейный год и визит президента Кеннеди; чеканка на меди и золоте, они позвякивают, сталкиваясь, пока донья Элена катает мякиш…
– …достаточно того, что я им оказываю моральную поддержку – а ты как думаешь? В четверг я искала тебя, хотела с тобой пойти на новый фильм в «Диане». Даже шофера отправила пораньше, чтобы встал в очередь, в день премьеры всегда очереди…
А рука – полная, кожа такая прозрачная, что видны вены, будто второй скелет, стеклянный, четкий за этой гладкой белизной.
– …пригласила твою кузину Сандриту, и заехала за ней на машине, но мы завозились с ребеночком. Он такая прелесть. Кузина очень обиделась, ведь ты даже не позвонила, не поздравила ее. Разве так трудно снять трубку, Эленита…
И в глубоком вырезе черного платья – полные, плотно стиснутые груди, словно неизвестные науке зверьки, пойманные на новом континенте…
– …в конце концов, мы – родня. Как можно пренебрегать собственной кровью. Хорошо бы вы с Виктором пришли на крестины. Это в следующую субботу. Я помогла выбрать пепельнички, которые она подарит гостям на память. Сама видишь, сколько времени это все заняло, и билеты пропали.
Я поднял глаза. Донья Элена смотрела на меня. Она тут же опустила веки и предложила выпить кофе в гостиной. Дон Хосе извинился и ушел в библиотеку, где стоит этот электрический музыкальный автомат, который проигрывает его любимые пластинки, если опустить в желобок фальшивые двадцать сентаво. Мы расположились пить кофе, а вдалеке музыкальный автомат забулькал и разразился песней «Мы»; донья Элена тем временем включила телевизор, но без звука, на что и указала нам, приложив палец к губам. Перед нами безмолвно мелькали образы из программы «Найди сокровище»: величавый церемониймейстер вел пятерых участников конкурса, двух нервно хихикающих девиц с прическами наподобие улья, очень чопорную домохозяйку и двоих мужчин средних лет, смуглых и меланхоличных, к чеку, спрятанному в тесной студии, битком набитой вазами, книжками в бумажных обложках и музыкальными шкатулками.
Элена, улыбаясь, сидела рядом со мной в полумраке этой гостиной с мраморными полами и белыми пластмассовыми каллами. Не знаю, откуда она взяла это прозвище, и какое оно имеет ко мне отношение, но теперь она, поглаживая мне руку, пустилась в словесные игры:
– Нибелунг. Не бел ум. Не был лгун. Нобиль гунн.
Серые, разлинованные, волнообразные персонажи искали сокровища на наших глазах, и Элена, забравшись с ногами на диван, сбросила туфли на ковер и зевнула, в то время как донья Элена смотрела на меня вопросительно, в темноте, этими своими темными, широко открытыми глазами, обведенными кругами. Она положила ногу на ногу и поддернула юбку на колено. Из библиотеки до нас под сурдинку доносились болеро, мы так любили, и все прошло, а еще дон Хосе еле слышно всхрапывал, погруженный в послеобеденный сон. Донья Элена отвела от меня взгляд, ее огромные черные глаза устремились на эвкалипты, что колыхались за окнами. Я посмотрел туда же. Элена зевала, мурлыкала, прикорнув у меня на коленях. Я пригладил ей волосы на затылке. За нашей спиной овраг, жестокой раной пересекавший Лас-Ломас в Чапультепеке, казалось, удерживал свет в своей глубине, втайне подпитываемый ночью, которая надвигалась, продираясь сквозь колючие кусты и ероша бледные кроны деревьев.
– Помнишь Веракрус? – с улыбкой спросила мать у дочери; но смотрела донья Элена на меня. Элена, задремавшая у меня на коленях, мурлыкнула в знак согласия, а я ответил:
– Да. Мы часто ездили туда вместе.
– Вам понравилось? – Донья Элена протянула руку и тут же уронила ее на колени.
– Очень, – отозвался я. – Говорят, это единственный оставшийся подлинно средиземноморский город. Мне понравилась еда. И люди понравились.
Мне нравится часами сидеть на веранде, есть жареные бутерброды и запивать кофе.
– Я не здешняя, – призналась сеньора. Я впервые заметил ямочки на ее щеках.
– Да. Я знаю.
– Но у меня даже не осталось акцента, – расхохоталась она, выставляя напоказ десны. – Я вышла замуж в двадцать два года. А если живешь какое-то время в Мехико, веракрусский акцент пропадает. Мы с вами познакомились, когда я уже вошла в возраст.
– Все принимают вас с Эленой за сестер.
Она поджала губы, готовая к борьбе:
– Ну уж нет. Но мне сейчас вспомнились грозы на побережье в вечерний час. Солнце как будто не желает заходить, представляете? – и светит во время грозы, и все пропитано светом, зеленым-зеленым, очень бледным, и ты задыхаешься за закрытыми ставнями, и ждешь, когда же хлынет дождь. Но ливень в тропиках не освежает. Становится еще жарче. Сама не знаю, почему слуги каждый раз закрывают ставни перед грозой. Хорошо бы распахнуть окна в самую бурю.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































