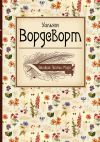Текст книги "Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга"

Автор книги: Каролин Дей
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Облагораживая» чахотку
Повсеместное использование действия нервной системы для объяснения возникновения определенных заболеваний дополнило появление «благородных» болезней, основанных на чувствительности[162]162
Porter R. Diseases of Civilization. P. 590.
[Закрыть]. Среди элиты превознесение нервной системы и соответствующие отношения между разумом и телом привели, по словам Лоулора, «к смене парадигмы, при которой и в медицине, и в литературе преобладали представления о нервной чувствительности»[163]163
Lawlor C. Consumption and Literature. P. 49.
[Закрыть]. Кроме того, Лоулор утверждал, что параллельно произошел сдвиг в представлении о теле от образа механических часов или даже гидравлической машины к образу струнного инструмента, который требовал поддержания надлежащего напряжения в нервах. Здоровье можно сохранить, если поддерживать надлежащую «эластичность» или «тонус» нервов; в противном случае наступает болезнь.

3.4. Таблица возбудимости. «Таблица возбуждения и возбудимости ‹…› Джона Брауна. Сэмюэл Линч». Из книги The Elements of Medicine of John Brown, M.D. London: J. Johnson, 1795
Врачи выражали растущую озабоченность по поводу воздействия этой все более утонченной культуры, носителями которой были люди с большой чувствительностью, на возникновение нервных заболеваний. Удары по нервной системе вызвали повальное ухудшение здоровья среди высшего и среднего классов из-за их утонченной чувствительности и изначального расстройства нервной системы, что предрасполагало их к болезням[164]164
Ibid. P. 49–50.
[Закрыть]. В 1792 году Уильям Уайт явным образом подчеркнул работу нервной системы при туберкулезе, аргументируя это тем, что в число предрасполагающих факторов входят «конституционально слабая система кровеносных сосудов; их же слишком сильная раздражимость» и «высокая чувствительность нервной системы», вследствие чего «она [чахотка] в основном поражает молодых людей; особенно тех, которые имеют подвижный нрав и демонстрируют умственные способности не по годам»[165]165
White W. Observations on the Nature and Method of Cure of the Phthisis Pulmonalis / Ed. by A. Hunter. York: Wilson, Spence, and Mawman, 1792. P. 22.
[Закрыть].
В восемнадцатом веке вышла на первый план связанная с нервной системой идея «цивилизованной» болезни, отчасти как следствие социальных потрясений, произошедших в связи с бурным ростом торговли и урбанизации[166]166
Porter R. Diseases of Civilization. P. 589.
[Закрыть]. Быстрые изменения, сопровождавшие прогресс, казалось, параллельно вызывают патологические изменения. Нездоровый образ жизни, связанный с городскими условиями, связывался с чрезмерным употреблением пищи и алкоголя, а также отсутствием физических упражнений и недостаточным сном. Кроме того, считалось, что здоровье горожан подрывали пагубные последствия определенной моды, чрезмерного стремления к роскоши, финансовых спекуляций и строгих протоколов этикета в мегаполисе. Все эти практики провоцировали тревожность, истощали энергию и пагубно влияли на конституцию человека. Искусственность городского общества была вредна для людей как на умственном, так и на физическом уровне и приводила к развитию этих новых «цивилизованных» болезней. Объяснением наблюдаемым физиологическим проявлениям этих болезней служили особенности нервной системы. Излишества жизни в цивилизованном обществе, по-видимому, препятствовали правильному взаимодействию между мозгом и остальным телом, блокируя действие нервных волокон, что приводило к воспалению, боли, хроническому чувству истощения и летаргии, – симптомам, не наблюдаемым у крепких и здоровых членов низших сословий[167]167
Это представление сохранялось и в девятнадцатом веке. По утверждению Бодингтона, «люди, по большей части наиболее свободные от атак чахотки ‹…› чаще всего мало страдают нервными расстройствами; они довольно примечательны очевидной притупленностью нервной восприимчивости». Bodington G. An Essay on the Treatment and Cure of Pulmonary Consumption. P. 11.
[Закрыть]. Действительно, представление о связанной с нервной системой болезни цивилизации приобрело известность в восемнадцатом веке, когда британская нация «славилась» на всем континенте как рассадник психических, нервных и истерических недугов. Англичане пришли к выводу, что болезнь и боль – цена их процветания и утонченности, и стали утверждать, что распространение «цивилизованных» болезней является признаком британского превосходства[168]168
Porter R. Health Care in Enlightenment England: Knowledge, Power and the Market // Curing and Ensuring: Essays on Illness in Past Times / Ed. by Hans Binneveld and Rudolf Dekker. Rotterdam: Erasmus University, 1992. P. 96, 98–99; Porter R. Diseases of Civilization. P. 589.
[Закрыть].

3.5. Джордж Чейни. Меццо-тинто Дж. Фабера Младшего с портрета Й. ван Диста. 1732
Такой ход рассуждений был изложен уже в первой трети столетия в чрезвычайно успешной книге Джорджа Чейни «Английская болезнь» (1733). Работа, казалось, описывала нервное заболевание с новым шиком, и явно связывала образ жизни элиты с заболеваниями, вызванными нервной слабостью, Чейни подразумевал, что следование моде частично зависит от последствий эмоциональной и психической тревоги[169]169
Cheyne G. George Cheyne: The English Malady (1733) / Ed. by Roy Porter. Tavistock Classics in the History of Psychiatry. London: Routledge, 1991. P. xi.
[Закрыть]. В книге он представил патологическую модель человеческого тела, в которой прослеживалась его зависимость от воздействия социальных факторов, особенно «английского образа жизни», на нервы. При этом он старался избегать наиболее отталкивающих характеристик болезни, благодаря чему нервные расстройства становились более социально приемлемыми[170]170
Ibid. P. xxxii.
[Закрыть]. По мнению Чейни, корень болезни лежал в избытке. Чтобы достичь вершины социальной иерархии, представители высших слоев общества часто жертвовали своим здоровьем, физической формой и даже фигурой в угоду силам моды, бизнеса или праздных удовольствий. Обладая остро реагирующей нервной системой, они были чрезвычайно уязвимы для ряда болезней и попадали в ловушку собственного изготовления, в которой социальный успех навсегда закреплял страдания, связанные с болезнью[171]171
Ibid. P. xxix.
[Закрыть]. Эти «нервные расстройства» были продуктом цивилизации и служили признаком социальных и экономических достижений англичан[172]172
Ibid. P. xxx.
[Закрыть]. В такой репрезентации нервозность – и, в силу ассоциации, болезнь – рассматривались как симптомы успеха[173]173
Подагра в особенности пользовалась дурной славой как болезнь изобилия и цивилизации, ее ассоциировали с людьми определенного статуса. См.: Porter R., Rousseau G. S. Gout: The Patrician Malady. New Haven; London: Yale University Press, 1998.
[Закрыть].
Работа Чейни о хронических заболеваниях сыграла важную роль в развитии философии, которая определяла восприятие взаимосвязи между здоровьем человека и обществом. Его работа также помогла объяснить обратную зависимость между богатством и здоровьем. Урбанизация и соответствующие социальные последствия, как считалось, повышали уязвимость населения не только перед болезнями, связываемыми, как правило, с грязными условиями, но и перед нейропатологическими заболеваниями, такими как туберкулез. Город был одинаково опасен для здоровья и богатых, и бедных – факт общепризнанный и часто вызывающий сожаления. Одна мать жаловалась на свою дочь:
Боюсь, Лондон ей не подходит, потому что там она никогда не чувствует себя хорошо дольше шести месяцев подряд, ее последняя болезнь началась еще до того, как она уехала из города (у меня горестные подозрения теперь, когда у меня в городе такой очаровательный дом!) – я оставлю ее в деревне до конца октября. А потом снова попробую город – и если она снова скажется там больной, боюсь, мне придется отважиться сдать мой милый дом на Даунинг-стрит и сразу снять загородный дом для моих детей и гувернантки: я люблю Лондон, но, кажется, сам рок против того, чтобы я здесь жила[174]174
Болезнь, которую она упоминает, скорее всего, была чахоткой, поскольку ее дочь начала кататься «на лошади парно», что было популярно при туберкулезе. Она так каталась «через день с мисс Воллонзоф, дочерью российского посла, очаровательной девушкой лет двенадцати – на это я возлагаю большие надежды, – но она все еще выглядит как привидение». Charlotte Burney to Fanny Burney, Aug. 17, 1790, Hill Street, Richmond. Eg 3693 Folio 63. The British Library Department of Manuscripts, London, UK.
[Закрыть].
Точно так же в 1832 году Чарльз Такра утверждал: «Из всех причин болезней одной из наиболее частых и важных является душевная тревога. Цивилизация изменила как наш образ мыслей, так и тела. Мы живем в состоянии неестественного возбуждения – неестественного, потому что оно частичное, нерегулярное и чрезмерное. Наши мышцы истощаются из-за отсутствия активности: наша нервная система изнашивается из-за чрезмерной активности. Жизненная энергия черпается из действий, для которых природа спроектировала ее, и посвящается действиям, которых природа никогда не предполагала»[175]175
Thackrah C. T. The Effects of Arts, Trades, and Professions. P. 164.
[Закрыть].
Вера в связь разума и тела помогла повысить статус туберкулеза легких в глазах представителей высшего и среднего классов. В конце восемнадцатого и в самом начале девятнадцатого века нервная конституция и связанные с ней расстройства представлялись таким образом, чтобы сделать их привлекательными. Туберкулез теперь воспринимался как физическое проявление психологического состояния и символ повышенной эстетической, физической чувствительности, а также высшей духовности и интеллекта. Конкретный механизм действия был изложен Джорджем Бодингтоном в 1840 году: он утверждал, что первый шаг в развитии чахотки «состоит в нервном раздражении, или измененном действии, или ослаблении силы в материи легких из-за наличия туберкулезной материи, отложившейся там как инородное тело»[176]176
Bodington G. An Essay on the Treatment and Cure of Pulmonary Consumption. P. 10.
[Закрыть]. На следующем этапе нервная система проявляла себя в патологических изменениях в тканях тела.
Как только нервная сила полностью разрушается в тех частях легких, где существуют туберкулезные отложения, немедленно следует разрушение остальных тканей; они умирают, растворяются до полужидкого, наполовину гнилостного состояния, и их откашливают через бронхи, оставляя полости в материи легких ‹…› Вот тогда, во-первых, происходит изменение, ослабление или истощение нервной силы; затем происходит разрушение остальных тканей, составляющих основное вещество органа[177]177
Ibid. P. 10–11.
[Закрыть].
Дж. С. Кэмпбелл также писал о власти нервной системы и представил достаточно привлекательное описание туберкулеза, утверждая, что даже «слабые поводы для возбуждения, душевного или телесного, оказывают воздействие на кровообращение, которого нет в здоровом от природы организме»[178]178
Campbell J. S. Observations on Tuberculous Consumption. London: H. Bailliere, 1841. P. 231.
[Закрыть]. Он описал физические проявления такого возбуждения, заявив, что у человека с высокоразвитой нервной системой были «внезапные приливы крови к лицу, вызванные малейшими причинами душевных эмоций, от чего щеки красавиц часто заливаются румянцем, порожденным фатальной склонностью, и отсюда и внезапные, но недолго длящиеся приступы преходящей живости, очень чуждые природе человека, проявляющего их. Именно в конституциях, обладающих этими особенностями, была обнаружена склонность к отложению туберкулов»[179]179
Ibid.
[Закрыть]. Связав чахотку с утонченностью чувств и представив ее как продукт высшего общества, Кэмпбелл романтизировал болезнь. Человек, страдающий таким заболеванием, должен был по определению быть модным, богатым, одаренным, умным или каким-то образом одухотворенным. Бедным не хватало ни материальных, ни психофизиологических возможностей, которые делали бы их уязвимыми для нервных расстройств; в их случае был разработан отдельный дискурс для объяснения распространенности таких болезней, как туберкулез[180]180
Эти представления были распространены на нацию в целом, поскольку считалось, что успех в торговле, наряду с интеллектуальными и художественными достижениями, а также религиозная и политическая свобода создают условия, в которых население становится уязвимым для нервных расстройств. Это проклятие или, возможно, благословение было символом процветания и богатства нации. Согласно этой идее, чахотка была распространенным заболеванием, потому что Британия была процветающей империей, и, поскольку ее высшие и средние классы обладали наибольшим достатком, следовательно, у них с наибольшей вероятностью развивалась болезнь, вызванная излишествами.
[Закрыть]. Болезни, таким образом, были не только недугом модных людей, но и сами становились модными.
Связь между цивилизацией, поведением, разочарованием и болезнью расширилась до веры в то, что существует связь между физической средой, социальным статусом и моральными качествами человека. Сырые, темные, переполненные людьми плохо вентилируемые жилища стали рассматриваться как среда, благоприятная для распространения туберкулеза среди бедных. Однако идея о том, что чахотка является болезнью более утонченных слоев общества, послужила источником альтернативного нарратива об этой болезни. Различные способы восприятия, объяснения, понимания и рационализации туберкулеза послужили оправданием для существования двух противодействующих дискурсов чахотки: как «социального бедствия» и как «романтической болезни»[181]181
Herzlich C., Pierret J. Illness and Self in Society. P. 31.
[Закрыть]. В объяснениях туберкулеза принадлежностью больного к определенному социальному классу произошел соответствующий раскол. Чахотка была во многих смыслах архетипической болезнью цивилизации. С одной стороны, имелась связь между болезнью и нездоровыми условиями жизни в городской среде, такими как дым, пыль, грязь и сырость. С другой стороны, существовала прочная традиция, связывающая болезнь с лучшими и ярчайшими членами общества, с теми умными и тонкими людьми, казавшимися такими выдающимися в рядах ее жертв. Как врачи, так и общество признавали связь между чахоткой и изысканным образом жизни, которого придерживались представители высшего света[182]182
Porter R. Diseases of Civilization. P. 592.
[Закрыть]. Здоровье человека теперь имело более широкие подтексты, поскольку болезнь превратилась в социальную проблему, а страдающим ею отводилось особое место в обществе – положение, присваиваемое не в соответствии с приближающейся смертью, а в соответствии с их уникальным качеством жизни.
Глава 4. Нравственность, смертность и романтизация смерти
Чахоточный перформанс: смирение перед лицом смерти
Болезнь, от которой не спасали ни высокое социальное положение, ни богатство, ни праведный образ жизни, – чахотка требовала рационализации, чтобы сделать потерю близких более выносимой. В попытках осмыслить нечто столь неоднозначное, как отношение общества к смерти в девятнадцатом веке, историки предлагали различные интерпретации, отчасти воскрешая представление о «хорошей», праведной смерти, основанное на принципах евангелизма[183]183
Евангелизм был сложным многогранным явлением, типичным примером которого является череда неструктурированных и независимых протестантских религиозных объединений в ряде географических точек. К середине девятнадцатого века евангелизм превратил религию в язык и средоточие культуры среднего класса. Роль личности была центральной для этой культуры, так же как и представление о том, что спасение может быть достигнуто только через напряженную борьбу, и болезнь была одним из путей осуществления этой борьбы и спасения христианина. Религия предоставила структуру для классификации болезней, а евангелизм сыграл важную роль в формировании представлений о чахотке. Davidoff L., Hall C. Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780–1850. Chicago: The University of Chicago Press, 1987. P. 25, 83; Hilton B. The Age of Atonement: The Influence of Evangelicalism on Social and Economic Thought, 1785–1865. Oxford: Clarendon Press, 1997. P. 7, 10.
[Закрыть], а также продвигая идею красивой с точки зрения культуры смерти[184]184
Прийти к праведной смерти можно было с помощью ars moriendi – искусства умирать – в высшей степени авторитетного трактата о комплексе ритуалов, окружавших христианскую смерть в эпоху раннего Нового времени. В нем говорилось о необходимости подготовки к смерти, и давались инструкции, как умереть правильно. В целом эти тексты содержали указания, как подойти к заключительному моменту жизни: речь шла о готовности души и практических действиях, необходимых для обустройства смертного одра. Чахотка занимала видное место в литературе такого рода, поскольку смерть от этой болезни считалась благословением. Идея о том, что чахотка – относительно безболезненный способ умереть, дополняла концепцию праведности и делала эту болезнь идеальным уходом из жизни. Боль могла испортить перформанс смертного одра: она могла озлобить жертву, ослабить умственные способности или подтолкнуть человека к богохульству или гневному бреду. Время, которое она давала на приготовления, представление о ее относительной безболезненности и отсутствии явных физических уродств – все это вместе возвышало чахотку в традиции ars moriendi. Wunderli R., Broce G. The Final Moment Before Death // Sixteenth Century Journal. 1989. Vol. 20. P. 263; Death, Ritual, and Bereavement / Ed. by R. Houlbrooke. London: Routledge, 1989. P. 46, 48; Duffy E. The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England 1400–1580. New Haven: Yale University Press, 1992. P. 315; Cressy D. Birth, Marriage, & Death: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 386; Lawlor C. Consumption and Literature. P. 35.
[Закрыть]. Филипп Арьес утверждал, что в представлении о «красивой смерти» существует влиятельный культурный архетип, явившийся результатом трансформации подхода к болезни и смерти, сопровождавшего романтическое движение, и представлявший смерть как прекрасное переживание, к которому следует подходить с воодушевлением, а не с ужасом[185]185
A Companion to Victorian Literature and Culture / Ed. by Tucker. Malden, MA: Blackwell Publishing, 1999. P. 114.
[Закрыть]. По иронии судьбы теория Арьеса основана в первую очередь на подходе к смерти, почерпнутом из письменных свидетельств, оставленных членами семьи Бронте, страдавшими от разрушительного действия чахотки, что снова подкрепляет существовавшее в то время восприятие туберкулеза как легкого и даже красивого финала жизни. Патриция Джалланд отмечала, что вместо «красивой смерти» снова возникла тенденция к толкованию чахотки как «хорошей смерти» в соответствии с христианскими принципами[186]186
Патриция Джалланд утверждает, что школа «Анналов» и Филипп Арьес слишком вольно применили ко всей Британии узкий и нетрадиционный подход, в частности, потому, что в своем исследовании Арьес опирался в первую очередь на произведения, письма и дневниковые записи, оставленные Бронте. Вместо этого Джалланд основывала свою работу на обширном изучении личных бумаг, переписки, дневников, мемориалах и т. д. пятидесяти различных семей, живших в течение столетия, чтобы сделать вывод о смерти в Британии девятнадцатого века как о праведной евангельской смерти. Jalland P. Death in the Victorian Family. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 8–9.
[Закрыть]. На самом же деле в случае с туберкулезом утешения искали в обеих трактовках: стремление к хорошей и красивой смерти – праведной в христианском понимании и прекрасной с точки зрения внешнего вида, придаваемого самой болезнью, а также с точки зрения душевных качеств, проявляемых в том, как страждущие справлялись со своим угасанием и кончиной. Смирение с волей божьей как со стороны больного, так и со стороны его или ее близких было важной составляющей восприятия смерти от чахотки.
Несмотря на медикализацию, туберкулез оставался неразрывно связан с концепцией божественной воли, поскольку грех и искупление продолжали быть важными составляющими жизни и смерти чахоточного больного. Преобладавший подход основывался на христианской идеологии искупления[187]187
Hilton B. The Age of Atonement. P. 3.
[Закрыть]. Бойд Хилтон утверждал: «Последовательность греха, страдания, раскаяния, отчаяния, утешения и благодарности показывает, что боль считалась неотъемлемой частью божественного порядка и была тесно связана с механизмом божьей кары и покаяния»[188]188
Ibid. P. 11.
[Закрыть]. Поэтому неудивительно, что болезнь, особенно хроническая, наделялась идеологией искупления, жертвы и искупительного качества страдания. Христианин стремился праведно нести бремя болезни и, поступая таким образом, не только с достоинством и стойкостью отвечал на вызовы болезней, но и обретал некоторую степень контроля над болезнью, если не над ее исходом. Эта идея «ношения бремени», как и связанная с ней концепция «достойного умирания», вышла на первый план.
Личный опыт проповедника Филипа Доддриджа, столкнувшегося с трагедией чахотки, дает представление о христианской программе борьбы с этой болезнью. Он представил душераздирающий рассказ о борьбе своей любимой дочери Бетси с туберкулезом и ее смерти в 1736 году, незадолго до пятилетия. Хотя Доддридж прочитал надгробную проповедь, озаглавленную «Покорность божественному провидению», он явно счел покорность сложной задачей и в своем дневнике выговаривал себе за обожание дочери[189]189
Доддридж был известным и уважаемым религиозным пропагандистом, который способствовал распространению евангелического христианства как в Англии, так и за рубежом. Rivers I. Doddridge, Philip (1702–1751) // Oxford Dictionary of National Biography / Ed. by H. C. G. Matthew and Brian Harrison. Oxford: OUP, 2004; online edn, ed. Lawrence Goldman, January 2006. www.oxforddnb.com/view/article/7746 [по состоянию на 12 января 2009].
[Закрыть]. В его строках очевидна и сила родительской любви, и его внутренняя борьба над принятием судьбы дочери как решения Бога.
Она заболела в Ньюпорте примерно в середине июня, и с тех пор до самого дня своей смерти она была предметом моих постоянных размышлений и почти непрерывной заботы. Одному Богу известно, с какой серьезностью и настойчивостью я простирался перед Ним, моля сохранить ее жизнь, которую я был готов купить ценой своей. Когда чахотка довела меня до самой последней степени изнеможения, я не мог удержаться, чтобы не заглядывать к ней почти каждый час. Я смотрел на нее с сильнейшей смесью тоски и отрады; ни один алхимик не наблюдал за своим тиглем с большей тщательностью, ожидая появления философского камня, чем я наблюдал за ней во всех различных поворотах ее нездоровья, которое, в конце концов, стало совершенно безнадежным, и агонию, в которую я был тогда повержен, не выразить ни на одном языке[190]190
January 4, 1736 // The Correspondence and Diary of Philip Doddridge, D. D.; edited by John Doddridge Humphreys. Vol. V. London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1831. P. 361–362.
[Закрыть].

4.1. Маргарет Эмили Шор. Неизвестный художник. Гравюра. Ок. 1838
Далее Доддридж пишет о любопытном событии, которое он объяснил своим нежеланием принять волю Господа и наказанием за его упорство в этом самом личном из испытаний.
Когда я очень горячо молился, возможно, слишком ревностно, о ее жизни, мне в голову с огромной силой пришли следующие слова: «Не говори больше со мной об этом»; я не хотел принимать их и направился в комнату, чтобы увидеть мою дорогую бедняжку, когда, вместо того чтобы принять меня со своей обычной нежностью, она посмотрела на меня с суровым видом и сказала необыкновенно решительным голосом: «Мне больше нечего тебе сказать», – и я думаю, что с того времени, хотя она прожила еще по крайней мере десять дней, она редко смотрела на меня с удовольствием и не позволяла мне подходить к ней. Но чтобы я мог ощутить всю горечь этого недуга, Провидение так распорядилось, что я вошел, когда ее терзали самые острые муки, и эти слова: «Боже мой, боже мой, что же мне делать?» – звенели у меня в ушах последующие часы и дни. Но Бог избавил ее; и она безо всякой резкой боли в момент ее кончины тихо и сладко заснула, как я надеюсь, во Христе, около десяти часов ночи, когда я был в Мидвелле. Когда я возвратился домой, мой разум был окутан темным облаком, связанным с ее уходом в мир иной, но Бог милостиво отвел его и дал мне утешение и надежду после того, как я испытал самую раздирающую сердце печаль[191]191
Ibid.
[Закрыть].
Важность покорности божьей воле и христианское видение смерти оставались характерной чертой подхода к смерти от туберкулеза на протяжении восемнадцатого и вплоть до девятнадцатого века. Письмо 1797 года о смерти еще одного любимого родственника от чахотки свидетельствует о том, что она все еще воспринималась именно таким образом:
Ваш рассказ о ее смерти очень трогателен, он таков, что, несомненно, принесет утешение любому человеку, не столь убитому горем, чтобы отказаться от надежд, даруемых религией. Со своей стороны, я могу честно сказать, что чем больше я смотрю на мир, тем меньше, я думаю, должны мы сожалеть о тех, кто его покинул, и когда я размышляю о множестве разочарований и несчастий, которые суждено испытать в более зрелом возрасте, я не могу не считать молодых, рано покинувших этот мир, «избавленными от грядущего зла»[192]192
S. Hooll to Arthur Young on the death of his daughter Martha Ann (Bobbin) Young from consumption. S. Hooll to Arthur Young, August 1797. Add MS 35127. Folio 424. The British Library Department of Manuscripts, London, UK.
[Закрыть].
Убеждение, что чахоточного больного в загробной жизни ожидает лучшая доля, основанное на уверенности в спасении согласно христианской традиции, придавало еще большую важность смирению, и это принятие было центральной чертой в личных свидетельствах больных, исповедовавших евангельские истины.

4.2. «Не скорби об умирающей дочери». Мать рыдает от горя, обнимая умирающую дочь. «Общий удел». Ж. Бувье. 1842–1865
Смирение оставалось важным аспектом подхода к туберкулезу в девятнадцатом веке, и это было очевидно в записях юной (Маргарет) Эмили Шор (1819–1839) о ее болезни. Еще до того, как был установлен ее диагноз, она знала о возможности того, что ее болезнь окажется чахоткой, и начала готовиться к этому.
У меня становится больше сил, но мой кашель проходит очень медленно, а сердцебиение остается частым и сильным. Конечно, существует опасность поражения легких, но мы надеемся, что, если будет на то воля Бога, море вернет мне здоровье и устранит возможность чахотки. Однако я знаю, что должна готовиться к худшему, и я полностью осознаю, как тревожатся обо мне папа и мама[193]193
June 29 [1836] // Journal of Emily Shore / Ed. by Barbara Timm Gates. Charlottesville: University Press of Virginia, 1991. P. 140–141.
[Закрыть].
Через месяц во время осмотра доктором Джеймсом Кларком она снова высказала свои опасения. «У меня были весомые причины опасаться, что болезнь легких уже началась. Я горячо молилась о покорности Божественной воле и о том, чтобы я могла подготовиться к смерти; я настроилась, что мне суждено стать жертвой чахотки»[194]194
July 5 [1836] // Journal of Emily Shore. P. 142.
[Закрыть]. Доктор Кларк сообщил новость о том, что ее легкие еще не пострадали, но письмо Эмили иллюстрировало ее противоречивые чувства по поводу ограничений, наложенных на нее болезнью.
Теперь я совершенно убеждена, что не должна утруждать свой ум вовсе, по крайней мере, в сравнении с тем, чем мне хотелось бы заниматься. Я не могу читать или писать без головной боли, а также письмо вызывает у меня боль в груди, от которой мне не избавиться вот уже несколько дней. Мне очень тягостно намеренно откладывать все мои занятия, и мне кажется, что когда-нибудь я с большим сожалением оглянусь назад на 1836 год, семнадцатый год моей жизни, который, очевидно, был потрачен впустую в отношении учебы. И все же мне не следует питать это чувство, потому что на то воля Бога[195]195
December 15 [1836] // Journal of Emily Shore. P. 170–171.
[Закрыть].
Год спустя она посетовала: «Как ужасны ход времени и приближение вечности!» – и призналась себе: «От меня эта вечность, возможно, не так уж далека»[196]196
December 25, 1837 // Journal of Emily Shore. P. 232.
[Закрыть]. Далее она просила: «Позвольте мне улучшить жизнь до предела, пока она еще моя, и если отведенному мне сроку на земле действительно суждено быть коротким, пусть он продлится достаточно, чтобы подготовить меня к бесконечному существованию в присутствии моего Господа»[197]197
Ibid.
[Закрыть]. Чтобы поправить здоровье, Эмили отправилась в Испанию в 1838 году и оставила поразительный рассказ о своем посещении местного кладбища для многочисленных жертв туберкулеза[198]198
Эмили Шор скончалась от чахотки в Фуншале, Мадейра, 7 июля 1839 года и была похоронена на кладбище Иностранцев, где она впервые осознала возможность своей смерти от болезни.
[Закрыть].
С грустным чувством я оглядывала это безмолвное кладбище, где истаяло так много ранних цветов, загубленных более холодным климатом; так много людей, прибывших слишком поздно, чтобы поправиться, и либо погибших здесь, вдали от всех своих родственников, либо угасших под взорами встревоженных друзей, которые тщетно надеялись увидеть их исцеление. Глядя на теснящиеся гробницы, я предчувствовала, что и моя вскоре окажется среди них. «И здесь я, наконец, обрету покой», – подумалось мне. Эта мысль впервые посетила меня на каком-либо кладбище[199]199
December 24 [1838] // Journal of Emily Shore. P. 300–301.
[Закрыть].
Принятие неизбежности смерти знаменовало переход от образа жизни к способу умирания, а признание наличия чахотки часто приводило к процессу самоанализа как части подготовки к смерти. В своем дневнике врач Томас Фостер Бархем описал страхи своей жены Сары по поводу духовной готовности к смерти и то, как чахотка повлияла на ее личность. В 1836 году он подробно рассказал о том, как она жила и умирала после двадцати лет брака. Хотя в конце концов Сара умерла от лихорадки, а не от туберкулеза, он обратился к вопросу о влиянии этой болезни на нее во время их долгих отношений. В особенности Сару заботило «ее религиозное состояние: иногда она жаловалась, что ее сердце холодно и мертво и что ей нужно что-то, что пробудило бы ее духовные чувства; иногда она также сокрушалась о том, что несколько поддалась вспыльчивости из-за домашних неурядиц»[200]200
November 6, 1836 // Diary of Thomas Foster Barham (1818–1866). MS 5779. Wellcome Library, London, UK, 19.
[Закрыть]. Однако Бархем отметил: «Они действительно были незначительными и весьма скоротечными, минутное облачко, заслонявшее солнечный свет ее обычной безмятежности и доброты. Какими бы они ни были, я теперь не сомневаюсь, что они действительно возникли в результате того состояния органической болезни, которая уверенно, хоть и скрытно, прогрессировала»[201]201
Ibid.
[Закрыть]. Он гордился своей женой, утверждая, что существовали «неоспоримые доказательства ее искренней преданности, которую она проявляла так же твердо и добросовестно, как она долгое время пыталась выполнять различные обязанности, сообразные своему положению в жизни. Я указал ей на то, что свидетельствам такого рода следует доверять больше, чем свидетельствам возбужденных чувств. Таким образом я часто возвращал ей спокойствие, и на смену приходили счастливые часы преданного служения»[202]202
Ibid. P. 19–20.
[Закрыть]. Как и в случае с Сарой Бархем, представления о готовности к смерти и надлежащем поведении были сопряжены с нравственными и религиозными заповедями.
Постоянный акцент на важности христианского смирения во время чахотки обнаруживается даже в медицинских отчетах о болезни. В 1831 году члены Коллегии врачей исследовали влияние больного тела на душевное состояние, заявив: «Мы были особенно поражены приведенным описанием бодрости духа, часто проявляемой бедной жертвой легочной чахотки»[203]203
The Literary Gazette and Journal of Belles Lettres, Arts, Sciences, &c. London: James Moyes, 1831. P. 88.
[Закрыть]. Затем речь шла о том, как жертва переносила эту болезнь.
Но христианин переносит свои страдания из высших побуждений и с другим настроем. Как примечательный факт председатель отметил то, что из большого числа людей, посещать которых в последний период их жизни было его тягостным профессиональным долгом, очень немногие проявили нежелание умирать; кроме, конечно, мучительных опасений относительно положения тех, кого они могут оставить. Это чувство смирения, хотя у одних оно могло возникнуть из-за простого физического истощения, у других казалось подлинным следствием христианских принципов[204]204
Ibid.
[Закрыть].
Евангелисты и общественники-реформаторы вновь обратились к концепции «божьей воли» для придания смысла и объяснения причины болезни, создавая образ чахотки, связывавший судьбу, личность и внутреннюю истину, чтобы прояснить как болезнь, так и смерть. Чахоточные больные находили утешение и смысл в своих страданиях, веря в то, что болезнь была частью воли Господа. Кроме того, в проповедническом евангелизме боль считалась центральным элементом Божьего порядка, поэтому она была частью аппарата евангельского обращения и испытания[205]205
Hilton B. The Age of Atonement. P. 11.
[Закрыть]. Страдания, болезни и смерть связаны с представлениями о провидении и дают возможность испытать веру жертвы; как таковые, подчинение и смирение были в таком случае должной реакцией[206]206
Death in England: An Illustrated History / Ed. by P. C. Jupp and C. Gittings. New Brunswick: Rutgers University Press, 2000. P. 235.
[Закрыть]. Тем не менее люди по-прежнему изо всех сил пытались понять причину своего состояния и почему страдания выпадали именно им. В поисках этих объяснений непрофессиональное понимание причинности болезни столкнулось с медицинской этиологией, поскольку поиск смысла отмечен постоянным обменом между обывательским и профессиональным мнением[207]207
Herzlich C., Pierret J. Illness and Self in Society. P. 97, 100.
[Закрыть]. Этот обмен был особенно важен для усиления влияния романтизма на риторику о туберкулезе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?